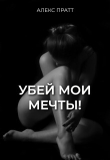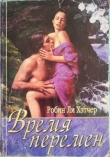Текст книги "Кара"
Автор книги: Феликс Разумовский
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Глава семнадцатая
К вечеру клев прекратился, как отрезало. Вытащив из парной воды крючок с нетронутым червем, Чалый посмотрел на отца:
– Батор, нищак. Масть не канает, рыбенции все заныкались, может, и нам пера на хату? – а сам при этом кивнул в сторону берега, где виднелся сложенный из еловых лап шалашик.
– Ветрено будет завтра. – Согласно кивнув головой, Иван Кузьмич не отрывал слезившихся глаз от лучей закатного солнца, садившегося в багровые облака. – Опять, Тихон, по фене ботаешь, музыкант хренов. Неужели не надоело?
– Не плети восьмерины, батя. – Чалый опустил на сонную поверхность озера весла и, скрипя уключинами, принялся грести к берегу. – За червонец чалки так насобачишься, что сразу обшаркаться не светит. Если что, не бери в голову.
Молча Иван Кузьмич перевел взгляд на сына, во всю голую грудь которого был наколот воровской крест с голой, распятой на нем бабой и, далеко сплюнув в воду, вздохнул: «Вот уж точно, горбатого могила исправит».
Между тем под днищем зашуршало, лодка мягко уткнулась носом в мокрый песок. Шлепая босыми ногами по мелководью, Чалый выволок ее на берег подальше – чтобы волной не унесло.
Вечер был теплый. Отбиваясь от вьющейся столбом мошкары, рыбаки первым делом запалили костер, а когда огонь разгорелся, подложили в него лапника – для дымовухи. Потом занялись приготовлением ухи.
Пока Чалый возился с картошкой и луком, родитель его на первый заход отобрал рыбешек помельче, определил их в марлю и, опустив мешочек в котелок с холодной водой, начал дожидаться появления пены. Главное, вовремя ее снять, здесь всей ухи основа. Вытащив из варева мелюзгу, Иван Кузьмич закинул плотвичек посолиднее, добавил перца и лаврового листа, однако с овощами пока не торопился. От котелка уже вкусно пахло, рыбаки глотали слюну, и процесс вскоре перешел в свою заключительную стадию. В бульон были положены подлещики, щедро накрошен четвертинками картофель, само же варево круто посолено. Зачерпнув уху деревянной ложкой, Иван Кузьмич обернулся к сыну:
– Посмотри, не утонула она там?
Среди прибрежных камышей еще с утра томилась емкость с прозрачной как слеза влагой. Подкинув бутылку в воздух, Чалый ловко поймал ее за своей спиной:
– Жива, родимая.
Вытащили хлеб, нарезали сало, и, плеснув под жабры, принялись хлебать уху – настоящую тройную, деревянными ложками, до отвалу. Тем временем, ненадолго высветив на глади озера багровую дорожку, солнце исчезло за горизонтом. Совершенно незаметно опустилась августовская ночь. Где-то неподалеку заухал филин, в камышах громко отозвались лягушки. Придвинувшись поближе к ослабевшему костру, Чалый уставился на огненные сполохи:
– Все-таки зник – это мазево.
Разговора не поддержав, Иван Кузьмич снял чайник с углей и, плесканув в кружку, протянул сыну:
– Меня послушай. Говорю только раз.
Не торопясь, он вытащил серебряный портсигар с гравировкой: «И. К. Савельеву на память от руководства ОГПУ», раздул уголек и, окутавшись дымом «Казбека», придвинулся к Чалому:
– Годов мне вдвое поболе, чем тебе, отец я твой, а кроме того, – на секунду он замолчал и глубоко затянулся, – крови на мне как воды в озере этом, так что имею право.
Где-то в камышах плеснула щука, ночной ветерок прошелестел в верхушках сосен. Иван Кузьмич выщелкнул недокуренную папиросу в костер:
– Вот ты вор, всю жизнь живешь по законам своим и уверен, что с государством, то есть коммунистами, ничего общего не имеешь – не воевал, не работал, в партии не состоял. Однако все не так просто. – Он глянул на неподвижно сидевшего Чалого, налил в кружку чаю и глотнул. – Преступность была пущена на самотек только до конца двадцатых, пока государство слабо было. Уже к началу тридцатых годов уголовники были не способны конкурировать с мощной машиной подавления, и тот, кто не смог приспособиться, был раздавлен. Вооруженные банды жиганов, уркаганов и бывших никоим образом советскую власть не устраивали и в результате спровоцированной ОГПУ войны образовали в конце концов группировку воров в законе, весьма для коммунистов полезную. В стране шли массовые репрессии, и для оказания давления на политзеков использовались блатари, которые на зонах имели привилегии и о своем высоком предназначении даже не подозревали.
– Что-то, батор, не врубился я. – Чалый привстал и заглянул Ивану Кузьмичу в самые зрачки. – Выходит, помидоры держали нас за фраеров и пахановали за наш счет?
– Конечно, сынок, – отставной чекист неожиданно рассмеялся так зло, что вор даже поежился, – но они имеют на это право. Самая тяжеловесная масть – это коммунисты. Ты не представляешь себе, какая сила теперь у них в руках и сколько людей они для этого замокрили – миллионы. А разговор я затеял этот вот к чему. – Иван Кузьмич снова щелкнул портсигаром и потянулся за угольком. – В Союзе задули новые ветры, началась реабилитация. Эта жопа с ушами, которую Иосиф, говорят, в политбюро заставлял выкаблучивать гопака, решила править не только кнутом, но и пряником – разрушает ГУЛАГ и выпускает политзеков на свободу. А это означает, что погонять ему уже будет некого, и воры в законе ему станут не нужны. Поверь мне, сын, – голос его внезапно дрогнул, – уж я-то на этом собаку съел, и пары лет не пройдет, как все вы сгниете в спецах или порвете друг другу глотки. И так вон что у вас творится – суки, челюскинцы, автоматчики, режете на ремни друг друга.
– Да, батор, нарисовал ты ригу. – Чалый даже сгорбился как-то. – Я ведь идейный вор, не поляк какой-нибудь, опять-таки казна на мне, общак.
– Я, Тихон, тебе советов не даю, – папироса красным светлячком полетела в воду, и Иван Кузьмич поднялся, – сам думай. Не забудь только, что Настя ждала тебя все это время, а Ксюхе уже пятнадцать – забегала тут на днях, совсем невеста.
Сказал и, накрывшись ватником, вскоре захрапел в шалаше. Чалому же не спалось: лежа у потухшего костра, он долго щурился на яркие ночные звезды, совсем такие же, как те, что были наколоты у него на ключицах.
– Прошу, господа, внимания. По старинной финской легенде, многие пытались построить на невских берегах город, но духи земли противились, и строения уходили в болото. Только богатырю Петру Первому удалось воздвигнуть на топких ижорских землях северную столицу, и в честь этого по его личному повелению на триумфальных воротах Петропавловской крепости был вырезан барельеф. Он изображает низвержение вознесшегося в небо с помощью нечистой силы волхва-язычника Савла…
(На экскурсии)
Низкие грозовые тучи почти касались верхов еловника, скудно произраставшего по краю Васильевских болот. С моря наползал промозглой стеной туман, а мокрый, пронизывающий ветер рвал гнилую солому с крыш и, задувая в зипуны, пробирал душу русскую до самого нутра.
Вон сколько народу ото всех концов земли российской пригнал в Ижорию его величество князь-кесарь Ромодановский – подкопщиков, плотников, дроворубов, почитай, тыщ пятьдесят зараз. Не по доброй воле, а по царскому повеленью принесла их на самый край земли нелегкая – у черта на рогах строить престольный град Питербурх. Одних, чтобы не подались в бега, ковали в железо, иных насмерть засекали у верстовых столбов усатые, как коты, драгуны в лягушачьих кафтанах, и всюду – голод, язва и стон людской. А ежели кто от сердца, да по скудоумию, или, может, просто по пьяному делу говаривал противное, то с криком «слово и дело» волокли его в Тайную канцелярию. Слава тебе Господи, если просто рубили голову.
Не всем везло так-то – все больше подымали на дыбу, палили спереди березовыми вениками, а то могли запросто и на кол железный посадить, Никола Угодник, спаси-сохрани. Сновали повсюду фискалы с доносчиками, громыхали по разбитым дорогам полные колодников телеги. А может, и взаправду возвестил раскольный отец Варлаам, что царь Петр суть антихрист и жидовен из колена данова?
Ох, лихое место это, земля Ингерманландская! Испокон веков здесь окромя карелов-душегубцев и не прижился никто, вон сколько озорует их по окрестным чащобам, а нашему-то чертушке державному засвербило не куда-нибудь, а прямо сюда – к бесу в лапы. Видать, в самом деле опоили его чем-то проклятые немцы в дьявольской слободе своей.
Между тем, смотри-ка ты, сильный ветер разогнал так и не пролившиеся дождем тучи, на небо выкатилось тусклое утреннее солнце. Глянув на его лучи, багряно пробивавшиеся сквозь щелястые стены барака, Иван Худоба перекрестил раззявленный в зевоте рот:
– Прости, Господи, видать, утренний барабан скоро.
Как в воду глядел. Тут же раскатисто бухнула пушка на крепостном валу, загрохотали барабаны, и рябой солдат в перевязи, что всю ночь выхаживал у дверей, закричал, как на пожаре:
– Подъем.
Зашевелился, почесываясь спросонья, запаршивевший на царской службе народ, кряхтя, начал выползать из-под набросанного на нары тряпья. Вскорости перед местами отхожими образовалось столпотворение. А многие животами скорбные, не стерпев нужды, выбегали наружу, справлять ее где придется.
У длинных бревенчатых бараков уже дымились котлы, в которых грозные усатые унтеры мешали истово варево, на запах и вкус зело тошнотное. Однако, помня о «слове и деле», дули на ложку и хлебали молча, упаси, Богородица, охаять кормление-то государево – язык с корнем вырвут.
– Оглядывайся, страдничий сын. – Уже с утра полупьяный десятский сурово сдвинул клочковатые брови, и Иван Худоба чашку с варевом непотребным отставил в сторону. – Хорош задарма отираться в тепле, на порубку собирай свою ватагу.
А какого рожна, спрашивается, собирать-то? Вот они, пособники, все тут, рядом, на соседних нарах: Митяй Грач с сыном, Артем Заяц, Никола Вислый да братья Рваные – как ни есть земляки орловцы, в войлочных гречушниках да армяках, подпоясанных лыком. Вместе, чай, еще по весне перли сюда лесными тропами строить на болотине Чертоград, чтобы быть ему пусту. Как бы теперь здесь и окочуриться не пришлось.
Не дохлебав, обулись поладнее, сунули топоры за опоясья и во главе с десятским тронулись, а чтобы греха какого не вышло, позади общества притулился служивый – при шпаге, в мятом зеленом мундире, с ликом усатым и зверообразным.
Несмотря на солнце, день был весьма свеж, близились, видать, звонкие утренники, а там, глядишь, и до зимы рукой подать – неласковой, с морозами да метелями.
Невесело было как-то на невских берегах, неуютно. Черные воды бились о бревенчатые набережные, ветер с моря разводил волну, и, шлепая по мокрым доскам, проложенным поперек бесчисленных луж, орловцы вдруг враз закрестились. С полсотни, почитай, народу, забравшись в стылую воду по пояс, вбивали сваи для устройства пристани, слышался надрывный кашель, а иные, застудив нутро, делали под себя. Зрелище с берега было тягостное – понятно, что месяц такой работы, и можно запросто отправиться к угодникам.
«Господи, счастье-то какое, что дроворубы мы». – Следом за десятским орловские вышли на Большую Невскую, где затевалась стройка великая – повсюду груды кирпичей, песка кучи, бунты леса, а уж народищу-то… Стук топоров, смрад деготный и громоподобный лай десятских по-черному, по-матерному, до печенок.
В самом конце першпективы, там, где северный ветер шумел в раскидистых лапах еловых, уже собралось порубщиков изрядно – запаршивевших, цинготных, бороды, почитай, с покрова не чесаны, – слово одно, Россея немытая. А дожидались всем обществом архитектора-латинянина, и тот пожаловал наконец – одетый не по-нашему, в накладных волосьях девки неизвестно какой, а в зубах у него дымилась трубка с богомерзким зельем, суть травой никоцианой, нарочно разводимой в неметчине для прельщения народа православного.
Засобачились негромко десятские, выкатив глаза, служивые взяли на караул, а ученый нехристь с бережением развернул свиток плана, пополоскав кружевной манжетой, наметил направление просеки и убрался, изгадив утреннюю свежесть дьявольским смрадом табачным.
И пошла работа. Орловцы в рубке были злые – поддернув правое рукавище, поплевали в ладони и айда махать топорами, только пахучие смоляные щепки полетели во все стороны. Прощально шелестя верхушками, валились на мох столетние сосны. Где-то в стороне матерно лаялся десятский. К полудню Иван Худоба со своими вышел на поляну, похожую более на проплешину чертову в лесной чащобе.
Посередь ее огромным яйцом угнездился черный валун-камень, на четверть, поди, в землю врос, а из-под него сочилась малой струйкой влага, застаиваясь зловонной лужей и цветом напоминая кровь человеческую.
– Матерь Божья, святые угодники! – Никола Вислый встал как вкопанный и истово осенил себя крестом. – Ты гля, ни одной птицы вокруг, дерева сплошь сухостойны да кривобоки, а земля, – он внезапно низко наклонил голову и прищурился, – будто адским огнем палена. Вишь, как запеклась коростой-то.
– А воняет сколь мерзопакостно. – Артем Заяц, также перекрестившись, сплюнул. В это время раздался треск сучьев под начальственными сапожищами.
– Чего испужались, скаредники? – Успевший, видимо, не раз приложиться к фляге десятский раздвинул в пакостной ухмылке усищи. – Сие есть волховство лопарское, суть священный камень, сиречь сейд. Ходил тут у меня один карел-колодник, много чего брехал, – он вдруг хлопнул себя ладонями по ляжкам и раскатился громким хохотом, – пока не издох, конечно! Однако мы люди государевы, – смех внезапно прервался, – шведа побили, а уж на пакость-то чухонскую нам нассать.
В подтверждение своих слов десятский сыто рыгнул и, загребая сапожищами, двинулся через поляну к камню, рядом с которым, покачиваясь, принялся справлять малую нужду.
– Виват! – Он наконец-таки застегнул штаны, сплюнул тягуче, аккурат в зловонную красноту лужи, и вдруг повалился в кровавую воду следом за харкотиной своей.
– О Господи, свят, свят… – Орловцы принялись как один креститься, а десятник между тем извернулся и медленно, линялым ужом, пополз с поляны прочь, но саженей, почитай, за десяток от опушки замер бессильно – вытянулся.
– Нут-ко, пособите, обчество! – Дав вкруг чертовой поляны кругаля, Иван Худоба первым кинулся начальство вызволять – чай, живая душа, христианская.
Навалившись сообща, выволокли разом, да, видно, пупы надрывали зря – не жилец был десятский. Покуда перли его, весь свой мундир изблевал кроваво, возопив дурным голосом, будто кликуша, а как затих, выкатился у него язык – распухший, багровый, похожий на шмат гнилого мяса.
– Прими, Господи, душу раба твоего грешного… – Охнув, орловцы начали креститься, и внезапно будто темное что накатилось на них.
Перед глазами замельтешили чьи-то хари бесовские, а на душе сделалось так муторно, что изругался Иван Худоба по-черному да по-матерному и в сердцах вогнал топор до половины острия в сосну.
– Эх, обчество. Как бы не пришлось из-за окаянного этого попасть в Преображенский-то приказ – дело не шутейное, десятский преставился. А с дыбы что хошь покажешь и гля – обдерут кнутом до костей да на вечную каторгу. Так жить далее я не согласный, лучше с кистенем на дорогу.
– Истинно, истинно… – Братья Рваные перехватили топорища половчее и, не сговариваясь, начали коситься на дымок от кострища, разложенного в сторонке для сугреву служивым.
Ей-богу, лесовину в сто разов завалить труднее, нежели человека угробить. Сверканула отточенная сталь, булькнуло, и из голов караульщиков, разваленных надвое, поперла жижа тягучая, похожая на холодец.
Орловцев же с тех пор и след простыл. Сказывали, будто бы порядком годов спустя изрядно видели их на новгородской дороге – на конях, о саблях, озорующих. А чертов камень тоже вскоре с глаз пропал – подкопали его да и зарыли в глубокой ямине, лужу зловонную засыпали, а на поляне кто-то из людей государевых задвинул себе хоромы на аглицкий манер. Так что пакость чухонскую поминай как звали.
Глава восемнадцатая
Сентябрьские вечера были уже по-зимнему холодны. Может быть, поэтому трое вылезших из таксомотора мужчин двинулись по Суворовскому быстрым, размашистым шагом, глубоко засунув татуированные руки в карманы пальто. На Первой Советской они свернули налево, пересекли трамвайные пути и, двинувшись вдоль спящих домов, углубились вскоре в грязный проходной двор.
– Харе, попали в цвет. – Шагавший первым высокий широкоплечий мужчина в плевке – кепке-восьмиклинке – остановился у входа в подъезд. – Рыгун – на атмас, Выдра – со мной.
Бритый шилом малыга остался внизу, а амбал вместе со шкилеватым шарпаком принялся медленно подниматься по лестнице, освещая дорогу желтым лучом фонарика. Наконец кружочек света уперся в дверь на втором этаже, и тот, кого называли Выдрой, презрительно ощерившись, положил глаз на скважину замка:
– Балек лажовый, подгони-ка фильду, Глот.
Мгновенно широкоплечий распахнул пальто, выудил с пояса трехзубую отмычку, и скоро нутряк был отмочен. Еще через минуту, заскрипев, подалась вторая дверь. Щелкнула волчья пасть, перекусывая соплю, и амбал наклонился в лестничный пролет:
– Эва, Рыгун, по железке все.
Подождав, пока бритый шилом неслышно поднимется, незваные гости лукнулись в хавиру и, замерев, нюхнули воздуха.
В квартире стояла тишина, только мелодично журчала вода в сортире, да из первой по коридору комнаты доносился сочный, с переливами, храп. Дверь в нее была не заперта. Уперев луч фонарика в урабленную вывеску спавшего на спине бабая, Глот врубился сразу, что это был корынец Чалого.
– Рыгун, заглуши-ка у плесени движок. – Он повернулся к бритому шилом, в руке у того сверкнула приблуда, и храп мгновенно прервался.
– Глушняк. – Глот с одобрением посмотрел на неподвижное тело и смачно цвиркнул. – Двинули, хорош падлу батистовому ухо давить.
Они осторожно открыли дверь в комнату, где спали Чалый с Настей. Пакостно ощерившись, Рыгун потянул из кармана штоф:
– Сейчас, кореша, потешимся.
Он на цырлах приблизился к кровати и, резко махнув зажатой в руке свинцовой битой, принялся сноровисто разматывать свернутую кольцами змею.
В себя Чалый пришел от страшной головной боли – она раздирала мозг на тысячи раскаленных осколков. Чувствуя, как скованный спазмом желудок упирается в горло, он попытался пошевелиться и сразу же понял, что крепко связан и распят на кровати. В тщетной попытке освободиться Чалый напряг мышцы, рванулся и, повернув голову направо, вдруг бешено закричал.
Он увидел Настю. Совершенно голая, с заткнутым ртом, она извивалась на столе, связанная так, что ее высоко поднятые ноги коленями касались плеч, а руки обнимали бедра.
– А вот и Чалый оклемался. – Крепко обхватив Настю за ягодицы, Глот навалился на нее и ритмично двигал поджарым задом. – Кайфовая у тебя хабала, королек в натуре. – На секунду он остановился и, ощерившись, с силой ущипнул женщину за сосок. – Торчит, сучара, по-черному, когда жарят ее в шоколадницу, плывет в шесть секунд.
Истошно заорав, Чалый рванулся так, что веревки врезались до крови в тело, но сразу подскочил Рыгун и с такой силой ударил распятого битой в живот, что его вытошнило.
– Выпрыгнуть надумал, сука, завязать, – свирепея, бритый шилом оскалился и откуда-то дернул перо, – или забыл, что ты крепостной? Ну ничего, мы свое получим, сейчас пустим тебе квас.
– Не гони волну, корешок. – Выдра быстро перехватил его руку. – Трюмить лидера надо, а сразу расписать или ремешок накинуть – беспонтово это.
В это время Глот, хрипло застонав, наконец-таки словил аргон. Отдышавшись, кивнул в сторону кровати:
– А ну-ка, прикройте ему хохотальник.
Взялись за Чалого по-настоящему. Запихав ему в рот носок, повязали сверху полотенце и начали прижигать свечой подмышки, затем долго поджаривали бейцалы, а когда он от боли впал в беспамятство, Рында принялся мочиться ему на лицо:
– Освежись, это тебе заместо светланки.
Тем временем Выдра, перевернув Настю на бок, быстро поимел ее, по-братски уступил свое место бритому шилом, и когда тот наконец отвалился, принялся пихать в щель между женскими ногами водочную бутылку. Потворенная застонала, тело ее забилось, а Глот скривился презрительно:
– Лажу гоните, кореша.
Он вытащил бутылку из влагалища и, одним быстрым движением отбив у нее горлышко, принялся вворачивать стеклянную фрезу в трепещущее женское тело.
– Вот потеха так потеха.
Побежала тоненькой струйкой кровь, Настя вытянулась и замерла, а Рыгун, приметив, что Чалый очухался, широко раззявил в ущере полную гнилых зубов пасть:
– Эй, родитель, на дочку свою позырить не желаешь?
Приволокли зареванную пацанку – тощенькую, не литавры, а прыщики, конечно, однако лохматый сейф был на месте, и чувиху разыграли – вдуть первым подфартило Рыгуну.
– Иди-ка сюда. – Он разложил дочку на столе рядом с истекавшей кровью мамашей и крепко обхватил за ягодицы. – Не вертухайся, шкица, а то матку выверну.
Оказалась она в натуре цацей и, когда бритый шилом начал сворачивать ей целку, завизжала, закорежилась, однако, как проволокли ее по кругу, притихла, даже слезы высохли.
– Эй, корынец хренов, – утомившись, получатели решили перекурить, – из пацанки твоей хорошая вставочка получится, а тебя мы сейчас будем узлами кормить, акробата делать.
Слова эти слышались Чалому откуда-то издалека, из-за кровавого тумана боли, и совершенно его не трогали. Он знал твердо, что случившийся позор пережить не сможет, и уже считал себя умершим. А мертвым, как известно, бояться нечего.
Вот она, боль, пробирает-то как. До зубовного скрежета, до губ, искусанных кроваво, до крика вопленного, вылетающего бешено из судорожно раззявленного рта. Мука, страдание, напасть адская.
Иван Кузьмич разлепил набухшие веки и, ощущая хорошо знакомый сладковатый запах крови – своей на этот раз, – глянул по сторонам. Он лежал в кирпично-красной, уже остывшей луже, которая набежала из глубокой колотой раны у него на груди, как раз под самым сердцем. Коснувшись краев узкой багровой щели между ребрами, отставной чекист в недоумении замер – с такими дырками не живут.
Внезапно он услышал, как за стеной закричали, мучительно, с надрывом, и инстинкт заставил Ивана Кузьмича подняться на ноги. Сразу же на него навалилась слабость, адской каруселью закружилась голова, не удивительно, вон сколько крови потеряно. Однако он доковылял до шкафа и, отыскав на ощупь висевшую в нем кобуру-приклад, на металлической оковке которой значилось: «Тов. Савельву от ОГПУ СССР», неслышно вытащил германский маузер «К-96», который так всегда любили большевики.
Ах, как он способствовал, этот продукт капиталистического способа производства, построению социализма в отдельно взятой стране! Магазин на десять патронов, дальность прицельного огня выше всяких похвал, только вот неудобство одно: после расстрелов в стенках остаются глубокие выбоины, уж больно велика начальная скорость пуль.
Привычно дослав патрон, Иван Кузьмич медленно выбрался в коридор и, держа оружие революции наизготове, с трудом потащился к соседним дверям. За ними раздавались чужие голоса, слышалось перемежаемое частыми стонами омерзительное сопение. Глянув в щель, отставной чекист от ярости задрожал.
В свете пробивавшегося сквозь окно утра он увидел, что его родной сын лежит вытянувшись с отрезанными яйцами, а над внучкой изгаляется какая-то рябая сволочь, которую Иван Кузьмич в былые времена тут же пустил бы в расход. Однако нынче он торопиться не стал – резко распахнув дверь, с наслаждением всадил пару пуль Рыгуну в живот, так, чтобы не издох сразу, двумя выстрелами под ребра завалил Глота, а Выдре не спеша раздробил кости таза, – это вам, ребята, для начала, чтобы лежалось спокойнее.
Не опуская дымящийся ствол, Иван Кузьмич тронул бездыханное тело Чалого, охнул горестно и, посмотрев мельком на замеревшую в кровавой луже Настю, остановил свой взгляд на судорожно ловивших ртами воздух получателях. Не торопясь, он сперва четвертовал Рыгуна – прострелил ему руки и ноги, а когда патроны в магазине закончились, подобрал с полу бандитское перо и принялся отрезать у бритого шилом его мужское хозяйство. Полюбовавшись на свою работу, Иван Кузьмич неспешно обиходил Глота с Выдрой. Морщась от их стремительно затихавших криков, он почувствовал вдруг, как старинный перстень на правой руке начинает превращаться в жгучее кольцо огня. От страшной боли на его глаза накатилась темнота, что-то непонятное полностью подчинило волю, и, двигаясь как во сне, генерал принялся резать свой указательный палец.
«Странно, почему нет крови?» – Иван Кузьмич смотрел на себя как бы со стороны, а непонятная сила уже толкала его к бесчувственному телу внучки. Едва успев надеть перстень ей на руку, он понял, что умирает. Глаза его закрылись, и он увидел стремительно надвигавшуюся, привидевшуюся ему еще в Египте колючую стену, из-за которой доносилась серная вонь и слышались леденящие душу крики.