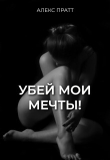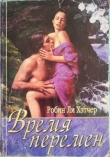Текст книги "Кара"
Автор книги: Феликс Разумовский
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Глава двенадцатая
Вообще-то, подполковница Астахова готовила так себе. Однако цыплята табака всякий раз получались у нее классные – сочные, с хрустящей корочкой, видимо, все дело было в массивном ржавом утюге, который Таисия Фридриховна присобачивала на крышку сковородки. Подполковница сидела за столом не одна – напротив нее размещалась Катя Бондаренко. Запивая жареную цыпу прохладным белым вином, подружки не спеша вели беседу о своем, о девичьем. Собственно, было о чем.
Третьего дня половая жизнь Таисии Фридриховны дала глубокую трещину. Чернявая прелестница, которая еще совсем недавно клялась в вечной любви, на деле оказалась коварной бисексуалкой и надумала выходить замуж.
– Ты понимаешь, Катерина, – подполковница умело выломала курячью ногу и яростно впилась в нее крепкими белыми зубами, – вчера я села ей на хвост, надо, думаю, полюбопытствовать на этого фанера грозного. И что же ты думаешь? Лысый, плюгавый, ездит на обшарпанном четыреста двенадцатом «Москвиче» восемьдесят второго года выпуска – ну не сука ли, а?
– Конечно сука. – Катя разлила остатки вина по бокалам, сочувственно покачала головой. Чай с коврижкой «Московской» пили в молчании.
Возню с посудой подполковница не выносила, я, загрузив раковину грязными тарелками, она взглянула на них с отвращением:
– Завтра, Бог даст, помоем. – Затем быстро перевела взгляд на подружку и улыбнулась: – Ну что, Катерина, пойдем копать под твоего разлюбезного?
В комнате они уселись на тахту у журнального столика. Включив торшер, Таисия Фридриховна взялась за толстенную стопку ксерокопий:
– Ну-ка, на чем мы, мать, остановились?
А остановились они на славном прошлом геройского прадеда Катиного сожителя – генерал-лейтенанта госбезопасности третьего ранга Савельева Ивана Кузьмича. После Гражданской служил он в ИНО ОГПУ, занимаясь делом «архиделикатным» – устанавливал номера и девизы секретных счетов, размещенных в швейцарских банках, на которых буржуазная сволочь хранила награбленные у народа деньги. В двадцать шестом году, возвращаясь из Берна в Париж, он попал в железнодорожную катастрофу и едва не погиб. Пассажирский экспресс врезался на всем ходу в потерпевший крушение грузовой состав с бензином. Топливо вспыхнуло, и савельевский прадед чудом остался жив – у него случился провал памяти, сильно обгорели лицо и руки, однако герой остался в строю. Дав Ивану Кузьмичу как следует оклематься, родная партия послала его в колыбель революции – бороться с внутренним врагом в составе секретно-политического отдела ОГПУ.
– Слушай, а правнук-то как поживает? – Подполковница подняла глаза от ксерокопии и заинтересованно посмотрела на подружку. – Дружите?
– Он странный какой-то стал, – Катя забралась на тахту с ногами и, зябко поведя плечами, руками обхватила колени, – молчит все время, вечерами уходит куда-то, а вчера пришел уже ночью – все лицо в крови, порезано, скорее всего ножом. Думала, надо везти его в травму, а он только рукой махнул и спать завалился, а утром… – Катин голос вдруг задрожал, и на глазах показались слезы. – Ты, Тося, не поверишь, на морде у него даже шрама не осталось, чудеса какие-то. Неделю меня уже не замечает, будто нет меня рядом! – Заревев уже по-настоящему, Катя внезапно прильнула к плечу Таисии Фридриховны.
– Ну-ну, заяц, будет тебе. – Губы подполковницы что-то нежно зашептали ей в ушко, потом ласково коснулись шеи, и как-то само собой получилось, что подружки крепко обнялись.
Снизу вверх по Катиному позвоночнику пробежала горячая волна, прогнувшись в пояснице, она задрожала, а руки Астаховой уже вовсю ласкали ее тело, и прикосновение их было необычайно волнующим.
Короткий осенний день уходил в прошлое. Яркие закатные сполохи багрово играли на куполе Исаакия, поверхность невских вод сделалась кроваво-красною, и казалось, что град Петров был охвачен языками адского пламени.
«Господи Боже мой, что стало со столицей!» – Запустив руки в карманы широкого парусинового пальто, Семен Ильич Хованский неторопливо шел по узким улочкам Петроградской стороны – всюду грязь, развалины, пустошь. Его хорошие хромовые сапоги чуть слышно поскрипывали при ходьбе, курился ароматный дымок папирос «Ява». Немногие встречные старались в лицо штабс-капитану не смотреть – приятного мало, потом всю ночь не заснешь. Миновав обшарпанный забор из ржавого железа, Хованский пересек пустырь, где одиноко паслась тощая коза, и двинулся среди куч щебенки, густо поросших лебедой. Скоро он вышел к Малой Неве, вдохнул вечернюю речную сырость и на середине Тучкова моста остановился.
Разрезая темную ленту воды надвое, трудяга-буксирчик тянул караван барж, в сгустившихся сумерках рогатила небо махина Растральной колонны. Внезапно, до боли сжав кулаки, Семен Ильич застонал. В опустившейся вечерней тишине со стороны Петропавловского собора донеслись торжествующие звуки – это над могилами российских императоров куранты лабали «Интернационал».
Ах, как все стремительно изменилось в Северной Пальмире! А ведь, казалось бы, совсем недавно по ее улицам весело мчались затянутые в мундиры офицеры, степенно гуляли по аллеям Летнего сада милые барышни с хорошим приданым, а вот там, неподалеку от Тучкова моста, пролегала знаменитая дорога – днем на Стрелку, а вечером к беззаботным певичкам на Крестовский.
Да, прошлое не забывалось, хоть и поставлен был Семену Ильичу в свое время диагноз – амнезия, потеря памяти то есть. Однако не врубились красноперые лепилы, что чего он не знал, того и не помнил, а те долго поправляли драгоценную снагу его, полагая, что пользуют железного чекиста Савельева. И не подозревал никто, что настоящего-то Ивана Кузьмича в далекой французской стороне наверняка давно уже сожрали раки.
Далеко выщелкнув окурок в холодную м о креть реки, Хованский миновал Стрелку, пересек Дворцовый мост и двинулся вдоль кое-где расцвеченного огнями витрин Невского. Брякали на стыках рельсов трамвайные колеса, изредка, оставляя шлейф сизого дыма, с грохотом проезжало авто. Из кабаков доносились вскрики веселившейся напоследок нэпмановской сволочи. «Нет, дорогуши, перед смертью не надышитесь, – Семен Ильич криво, улыбнулся и промокнул платком сукровицу на постоянно трескавшейся коже подбородка, – придется скоро вам нюхнуть параши и все рыжье сдать – советская власть шутить не будет».
Неподалеку от Гостиного двора, там, где находилась будка «Справочного бюро», откуда-то из темноты вывернулись двое милицейских и преградили Хованскому дорогу:
– Гражданин, покажите документы.
– Пожалуйста. – Штабс-капитан едва заметно улыбнулся и, не выпуская из рук, продемонстрировал обложку тоненькой книжицы, озаглавленной до гениальности просто: «ОГПУ».
Сразу же окаменев, отдали любопытные милицейскую честь свою и, не оглядываясь, почесали куда подальше. Хованский же, без приключений добравшись до начала Старо-Невского, свернул налево в массивную каменную арку.
Этот загаженный кошками проходной двор он увидел однажды во сне, еще возвращаясь из Египта, будь он трижды неладен, а нынче ни за что не смог бы ответить, что заставляло его бывать здесь и заглядывать в замазанные наполовину мелом окна квартиры на втором этаже, где проживала гражданка Елена Петровна Карнаутская со своим вторым благоверным. Уж во всяком случае, не пылкое чувство к тридцатилетней баронессе, носившей в девичестве фамилию Обермюллер, первый муж которой был расстрелян еще в восемнадцатом. Нет, дело было в чем-то совершенно другом, и сколько штабс-капитан ни думал об этом, ответ до поры до времени не находился.
Глава тринадцатая
Кровь невинных вдов и девиц.
Так много зла совершивший Великий красный.
Святые образа погружены в горящий воск.
Все поражены ужасом, никто не двинется с места.
(Мишель де Нотр Дам. VIII, 80)
Служебный кабинет Ивана Кузьмича Савельева был помещением небольшим, однако по-своему уютным. Забранное решеткой окно, пара расположенных перпендикулярно друг другу письменных столов, огромный сейф на толу да несколько венских стульев с гнутыми ножками. Словом, стандартный чекистский комфорт. Слева на стене висела образина вождя всемирного пролетариата, справа – усатого отца прогрессивного человечества, а из красного угла взирал на все происходившее железный рыцарь революции, суровым ликом весьма походивший на святого Модеста, от падежа скота избавляющего.
Была середина недели. Присобаченные под самой ленинской бороденкой часы с кукушкой показывали начало первого. Снаружи сквозь решетку доносились трамвайные звонки, стучала изредка копытами лошадь ломовика. Рабочий процесс в кабинете был в самом разгаре.
Сам хозяин кабинета расположился за столом у окна, по левую руку от него, изящно закусив желтыми зубками папиросу «Молот», застыла над клавишами «Ундервуда» вольнонаемная сотрудница О ГПУ товарищ Фрося. В самом дальнем углу, у дверей, в ожидании предстоящего разминал суставы пальцев бывший мокрушник-анархист, а ныне помощник уполномоченного несгибаемый товарищ Сева.
В центре помещения на массивном стуле с подлокотниками и прибитыми к полу ножками сгорбился бывший инженер-путеец, теперь владелец мастерской по ремонту швейных машинок Савелий Ильич Карнаутский в виде, надо сказать, очень бледном. Взяли его вчера поздним вечером, и ночевать ему пришлось в «холодной» – просторной камере с выбитыми стеклами, параши в которой не полагалось, и на полу по щиколотку была налита освежающая, как и погодка снаружи, водичка.
Прохладно-стоячая ножная ванна возымела эффект, и сейчас, громко клацая зубами от холода, бывший путеец поспешил покаяться: да, грешен, не все золото сдал, остались царские червонцы, запрятанные в ножках рояля. Укоризненно взглянул на несознательного нэпмана из своего красного угла товарищ Дзержинский, затрещал со скоростью пулемета «Ундервуд» товарища Фроси, а штабс-капитан осторожно, чтобы не лопнули струпья на подбородке, скривился:
– Очень хорошо, – и не спеша перешел к главному.
Однако факт своего пребывания в рядах МОЦРА – монархической организации Центральной России, равно как и участие во взрыве Ленинградского партклуба в июне двадцать седьмого года любитель швейных машинок стал усиленно отрицать. Хованский умело сфабрикованный донос подколол к делу:
– Ладно, в «парную» его.
Умные все-таки головы блюли советскую власть. Мало того что придумали они вначале для классовых врагов «холодную» камеру, затем карцер в виде колодца, забитого бухтами колючки, так еще догадались на защиту революции употребить и русскую баню. А сделать это совсем несложно. Закут какой-нибудь надо набить контрреволюционным элементом поплотнее, чтобы воздуха ему проклятому оставалось поменьше, а потом вволю водички горячей на пол, и к УФУ глядишь, тот, кто не загнется, власть советскую будет уважать самым жутким образом.
Тем временем хлопнули двери, и конвойный, топая сапожищами, поволок гражданина Карнаутского париться, товарищ Фрося выпорхнула из «Ундервуда» поссать, а Хованский строго посмотрел на разочарованно разминавшего пальцы товарища Севу:
– Что, обосрались давеча с обыском-то? Давай, сыпь за машиной, будем этих Карнаутских вторично шмонать, чтобы взять все, до копейки.
Бывший путеец не обманул – рояль в гостиной действительно был набит золотом. Посмотрев по сторонам, штабс-капитан тихо выругался про себя: «Такую мать, как все просто, стоило вчера паркет разбирать».
Полегоньку крысятничая, шарили в шкафах гепеушники, сидевшие за столом понятые тихо им завидовали. Хованский ненадолго задержался на кухне возле рыдавшей взахлеб хозяйки:
– Полно, Елена Петровна, убиваться так из-за барахла, оно того не стоит.
– Ах, вы не понимаете, – Карнаутская отняла ладони от лица, и стало видно, что, несмотря на зареванность, она была еще очень даже ничего из себя, – я тревожусь за Савелия и… за себя. Кроме него у меня нет никого, всех, всех ваши расстреляли.
Она снова заплакала навзрыд, но, неожиданно успокоившись, вплотную придвинулась к штабс-капитану:
– Скажите, нельзя помочь ему? В доме уже ничего не осталось – возьмите меня. Как последнюю девку. Делайте что хотите со мной, только мужу помогите, хоть раз будьте человеком, вы, сволочь, животное. Господи, как я ненавижу вас всех!
Плечи ее вздрагивали, пахло от них французскими духами, и Семен Ильич не спеша закурил «Яву»:
– Помочь всегда можно, было бы желание. Поговорим не сейчас, – и, сделавшись серьезным, двинулся из кухни прочь.
Разговор продолжился вечером этого же дня. Пока хозяйка дома неумело – что с нее взять, благородных кровей – раскладывала по тарелкам принесенное штабс-капитаном съестное, он откупорил литровую «Орловской», вытащил пробку из бутылки с мадерой и сорвал мюзле с шампанского:
– Довольно хлопотать, Елена Петровна, давайте, за встречу!
Стараясь не смотреть на покрытое засохшими струпьями лицо Хованского, та покорно выпила большую рюмку водки, поперхнулась и, едва справившись с набежавшими слезами, прикусила красиво очерченную нижнюю губу:
– Скажите, что с ним будет?
– С мужем-то вашим? – Семен Ильич не спеша жевал ветчину, старательно мазал ее горчицей, и трещинки на его лице медленно сочились сукровицей. – Да уж определенно ничего хорошего. Активное членство в монархической организации, пособничество кутеповским боевикам – тут пахнет высшей мерой социальной защиты.
– Господи, ну сделайте что-нибудь. – Карнаутская залпом выпила еще рюмку водки. Внезапно резко поднявшись, она положила узкие ладони Хованскому на плечи. – Я вас очень прошу, я вас умоляю. Все сделаю, что вы захотите, я очень развратная.
– Ладно, придумаем что-нибудь. – Семен Ильич хватанул стаканчик мадеры. – Хватит разговоров, раздевайся давай.
Как во сне, Карнаутская щелкнула кнопками платья – сильнее запахло духами. Одним движением она распустила волосы по плечам и, оставшись в шелковых чулках и кружевном белье от мадам Ренуар, на мгновение замерла.
– Давай поворачивайся. – Хованский налил себе водочки, хватанув, закусил балыком и почувствовал, что жратва его больше не интересует. – Все снимай, не маленькая.
Елена Петровна как-то странно всхлипнула и, избавившись от пояса с чулками, принялась медленно стягивать с бедер панталоны.
Что бы там ни говорили, но порода в женщине чувствуется сразу. У нерожавшей Елены Петровны белоснежное тело было по-девичьи стройным, живот отсутствовал, а грудь напоминала две мраморные полусферы восхитительной формы. Вспомнив острые тазовые кости раскладушки Фроськи, о которые он всегда натирал себе живот, Хованский поднялся из-за стола и начал освобождаться от штанов:
– Иди сюда, сирена.
С видимым усилием Елена Петровна переступила изящно очерченными босыми ногами по развороченному полу, при этом ненависть, смешанная с отвращением, промелькнула на ее лице. Заметив это, штабс-капитан рассвирепел:
– Ну-ка, белуга, раздвинься. – Крепко ухватив густую волну каштановых волос, он с силой пригнул лицо Карнаутской к остаткам жратвы на столе, помог себе коленями и, разведя женские бедра, натужно вошел в едва заметную розовую щель между ними.
Затравленно застонала Елена Петровна, по телу ее пробежала судорога, а штабс-капитан уже навалился сверху – не лаская, грубо, как ни распоследнюю вокзальную шлюху.
Так прошла вся ночь. Когда наступило утро, Семен Ильич выбрался из просторной двуспальной кровати и, пообещав еле живой хозяйке дома вернуться вечером, отправился разбираться с ее мужем.
Пребывание в «парной» повлияло на гражданина Карнаутского отрицательно. Его мучил сухой, отрывистый кашель, от слабости шатало. Сразу же экс-путейцу было объявлено, что в случае отказа от дачи показаний его ждет «холодная». А это означало пневмонию нынче и затяжной туберкулез в ближайшем будущем. Однако проклятый нэпман сделался упрям и расписаться в своем пособничестве террористам упорно не желал.
– Так, гражданин Карнаутский, говорите, вам нечего сказать по данному вопросу? – Голос штабс-капитана стал необычайно вкрадчивым, и товарищ Сева радостно улыбнулся – наступала пора решительных действий.
Нэпман между тем утвердительно кивнул лысой головой. В то же мгновение Хованский пружинисто ударил его по ушам сложенными особым образом ладонями:
– А теперь вспоминаете что-нибудь?
Это были лодочки – проверенный еще со времен ЧК старый добрый способ общения с неразговорчивыми. Боль, говорят, была адова, однако чертов путеец хоть и заорал дурным голосом, но продолжал стоять на своем. Не помогли ни закуска – резкий хлест по губам, ни временное перекрывание кислорода. Штабс-капитан мотнул головой в сторону ассистента:
– Давай.
Точным, доведенным до автоматизма движением товарищ Сева крепко зажал пассатижами путейцу нос и, когда, пытаясь вдохнуть, тот широко открыл пасть, принялся неторопливо шкрябать рашпилем врагу народа по зубам. Накрепко привязанный к стулу нэпман вначале истошно заорал, потом пустил слезу и обмочил штаны, а наблюдавшая пристально за происходившим Товарищ Фрося с девичьей непосредственностью засунула ручонку себе между колен и принялась елозить по давно не стиранным трусам «мечта ленинградки» – уж больно момент был волнительный.
Наконец Карнаутский дозрел: голова его свесилась на грудь, изо рта веселым ручейком побежали смешанные с кровью слюни. Еле шевеля распухшим языком, он прошептал:
– Я подпишу все, что нужно.
Ясное дело, подписал, не таким рога обламывали, однако старался путеец зря. Все равно отправили его дохнуть в «холодную» – не к лохам попал, чекисты все-таки.
Глава четырнадцатая
Над замеревшим городом повисла ночь. Изредка за окнами проносилась припозднившаяся машина, и улицы снова погружались в тишину, но Кате почему-то не спалось. Понаблюдав недолго за тонким молочным лучиком, пробивавшимся сквозь занавеску, она освободилась от объятий негромко посапывавшей подполковницы и беззвучно ступила на лакированную прохладу пола.
Светящиеся стрелки настенных часов показывали начало четвертого, однако сна не было ни в одном глазу. Обрадовавшись внезапно пришедшей в голову мысли, Катя взяла с журнального столика кипу ксерокопий и осторожно двинулась на кухню. Прищурившись от вспыхнувшего света, она включила кофеварку и тут же услышала тоненький писк около своей ноги Нюся, младшенькая и самая любопытная из астаховских кошек, стоя сусликом, разевала розовую пасть и заинтересованно смотрела на голую полуночницу: чего, тетка, не спится тебе? Пока та думала, чем бы приветить мохнатое чудо, в прихожей заскрипели половицы. В кухню пожаловали ее родители – огромный британский котище Драйзер с вечно беременной супружницей Флорой. Потягиваясь спросонья, хвостатые ничего плохого в ситуации не усмотрели и, заурчав, принялись в унисон хрустеть «Вискасом». Катя, заварив себе «Липтона», уселась половинкой зада – чтобы не так прохладно было – на табуретку и начала раскладывать листы ксерокопий по столу.
Героический савельевский прадед женился, оказывается, только в тридцать шестом году, да и то как-то странно – на бывшей супруге расстрелянного за контрреволюционную деятельность нэпмана, причем ничуть не смущаясь благородного происхождения своей жены, усыновил ее восьмилетнего ребенка Тишу. У другого этот факт, может быть, и повлиял бы на карьеру, но Иван Кузьмич по служебной лестнице пер напористо, как средний гвардейский танк, благополучно пережил все каверзы репрессий и к началу пятидесятых был уже вторым чекистом в Ленобласти, а если бы не внешность, то, наверное, мог бы пролезть и в первые. Только вот в личной жизни не повезло ему: жена умерла еще перед войной, а сынок Тиша был просто вырви глаз, если не сказать чего похуже.
Каждый ворует как умеет. Можно, скажем, упереть мешок колхозной муки из закромов любимой родины и потом лет десять вспоминать справедливость советского законодательства, а можно, к примеру, опустить сразу всю страну, да еще остаться при этом любимым вождем и учителем опущенных. Правда, такое под силу не каждому – здесь нужны классовое чутье и настоящая большевистская хватка.
Тиша Савельев воровать начал рано. Еще в младших классах мальчонка пытался ушканить – красть из парт и портфелей своих школьных товарищей. Но делал это по наивности с такой милой беспечностью, что очень скоро влетел, и счастливое детство для него однажды чуть не закончилось: любимые учителя решили запихать его в специнтернат. Однако вмешался папа. Пообщавшись с ним, педагоги сразу передумали, а парнишка со всем энтузиазмом молодости начал гнать марку – бегать по карманам в общественном транспорте, правда, недолго.
Однажды, когда он тянулся проездом в нахале – воровал в троллейбусе – и попытался обнести какого-то приличного с виду заплесневевшего фраера, тот мгновенно трехнулся и, крепко схватив молодого Савельева за бейцалы, тихо в ухо сказал обидное:
– Не вор ты, а козолек бесталанный. Блатыкаться тебе еще надо, а не марку гнать, – после чего коленом под зад Тишу из нахала выпер и сам сошел.
Так вот улыбнулась юному Савельеву блатная удача и свела его с Клювом, старым, опытным вором. Был он одним на льдине – блатным, не признававшим воровских понятий. Хотя советский суд объявил его особо опасным рецидивистом, никто из законников с ним не контачил – было западло. Так что жизнь заставляла Клюва держаться маром – быть вором-одиночкой. Работал он как волынщик: затевал ссору с пассажиром в транспорте, разговаривал с ним на пальцах, а потом внезапно добрел и отлезал, успевая прихватить чужой лопатник, а то и часы – квалификация позволяла. Словом, с учителем молодому Савельеву повезло – целый год он бегал полуцветным с паханом.
Оказалось, чтобы стать чистоделом – вором, покупающим удачно, нужно было, по завету самого главного блатаря, «учиться, учиться и учиться». «Если хочешь быть кучером настоящим, не знающим вязало, – не раз говаривал Клюв, улыбаясь всеми своими фиксами, – то вначале, обезьяна, шевели извилинами, а уж потом щипальцами».
Учеником Савельев был прилежным. Скоро он узнал, как полагалось правильно нюхать воздуха и грамотно делать ножницы, чтобы смехач не трехнулся и не случилось нищака, говоря проще, чтобы кража была удачной. Показал ему Клюв и как работают со щукой, и как приготовляют правильно каню, а уж на практике это все Тиша отработал до совершенства. «Ну прямо пацан золотой», – часто приговаривал старый вор, глядя, как ловко мальчонка принимал лопатник и, если была нужда, спускал верха – клал ворованный кошелек в минуту опасности какому-нибудь фраеру ушастому в карман, чтобы потом спокойно его забрать. Научился верхушник и дурки бить – расстегивать сумки, и сидку держать – красть во время посадки, и начинку расписывать – разрезать одежду при краже. И все было бы хорошо, если б однажды не схватился Клюв за сердце и не рухнул бы прямо на натертые каней руки ученика:
– Умираю на боевом посту, как дезертир пятилетки. – Старый вор криво улыбнулся, глаза его начали закатываться. – Хана мне, кранты. А погоняло возьми себе, Чалый, кучер ты… – сказал так и, пуская носом кровь, перекинулся.
С тех пор прошло пять лет. Наступило лето сорок пятого, цвела сирень, наконец-то начали ходить трамваи, и маршрутник Чалый работал теперь с мышью – перезрелой девицей по кличке Букса. Про себя она пела, что сгубила ее тяга к знаниям. Еще до войны рванула она из своей деревни поступать в техникум, но не прошла по конкурсу, из общежития ее поперли, а возвращаться в родные леса было в лом, вот и пришлось Буксе стать долбежкой – жила в общаге с тем, кто кормил и с койки не гнал. Потом она служила сыроежкой в блудилище – делала миньет по-походному солидным, занятым людям, да, видно, нахавалась гормонов на всю оставшуюся жизнь, поэтому, наверное, и вписалась в блатную тему с легкостью. Была она блондинкой среднего роста, с хорошей фигурой и красивыми ногами, губастенькая, зеленоглазая, правда, носик подкачал – курносый больно. Сам Чалый был уже не давешней обезьяной беспонтовой, а фартовым вихером-чистоделом, расчетливым и осторожным. Прежде чем по музыке идти, он нюхал воздуха, лабал фидуцию – составлял план действий и только потом шел в коренную с мышью на колеса. Не уважал он всякие приспособы, типа щупалец или щуки, и даже дурки расписывал – разрезал сумочки – пиской – остро заточенной монетой. Крепко помнил он петюканье Клюва о том, что шуша – карманная кража в толпе – занятие не для фраеров и лажи не терпит.
Одним июльским деньком Чалый с Буксой проснулись на малине поздно. Над городом уже висело душное летнее марево, и прохожие обливались потом. Предыдущий день парочка опухала и набралась бурым медведем изрядно. А кроме того, Букса всю ночь желала «ездить на мотоцикле» и спать Чалому не давала. Откровенно говоря, хоть и долбилась она в своей жизни достаточно, но раскачать ее по-настоящему было непросто. Если бы не шпоры, ни за что Чалый подружку бы не заиграл. Спасибо людям нормальным, что подсказали всобачить в болт не шары, а целлулоидные уши..
Тем временем Букса поправилась разбодяженным шилом и ковырнула из консервной банки американскую сосиску. Чалый же по утрам ничего не хавал кроме паренки, полагая, что вор должен быть злым и голодным. Нынче районному пролетариату выдавали аванс, а значит, блатному надо было быть в хорошей форме.
Щипач обрядился в лепеху разбитую, начищенные мелом матерчатые корды, и на его фоне Букса, надевшая юбку по колено, настоящие фельдиперсовые чулки и прозрачную шифоновую блузку с трофейным ажурным лифчиком, смотрелась волнительно и призывно.
Не доходя метров ста до кольца трамваев у завода имени Котовского, Чалый от Буксы отстал и не спеша проследовал за ней на остановку. Там уже толпился гегемон – первая смена тружеников, получив то, что коммунисты называли деньгами, двигала к дому. Как только железный сарай на колесах подъехал и народ с энтузиазмом попер, Чалый выкупил для разгону кошелек и спустил его содержимое в «погреб» – специальный карман для натыренного. «Пошла мазута», – прошептал он, и лед экспроприации тронулся.
Букса подняла свою хорошенькую ручку, ухватившись за поручень у потолка, и сейчас же взгляды всех обладавших потенцией строителей социализма устремились на выпуклые девичьи соски, туго обтянутые прозрачной тканью. Тем временем Чалый работал с огоньком, пользуясь ширмой – предметом, которым вор обычно прикрывает свою руку во время кражи. В качестве ее он употреблял небольшую книжонку с волнующим названием «Маленьким ленинцам о манифесте дедушки Маркса». Между тем Букса медленно продвигалась по вагону, сопровождаемая плотоядными взглядами коммунистов и беспартийных, а также негодующим шипением тружениц. Следом за ней ловко пробирался Чалый, умудряясь тырить из чердаков и шкаренок, а кроме того, срезать ручники – ручные часы.
Наконец трамвай дернулся и встал. Труженики дружно навалились друг на друга и рванули на выход, в этот момент, выкупив еще один лопатник, Чалый начал бодро сходить. Однако увиденное на остановке ему весьма не понравилось – один из гегемонов, уже успевший врезать по случаю аванса, прижал грязную ладонь с траурной каймой под ногтями к девичьему бедру и что-то горячо шептал Буксе на ухо, другой, оставляя масляные следы на блузке, пытался ухватить ее за талию. Умная девка подняла кипеж, но в меру, тем не менее окружающим было наплевать: кто отвернулся, кто отчалил в сторону. А между тем гегемоны крепко прижали Буксу к зеленому заборчику, на котором висело заблуждение: «Пролетариат – авангард человечества», и стали ее откровенно лапать.
Такого беспредела Чалый не стерпел. Пнув одного из гегемонов в гузно, он с улыбкой попросил:
– Отлезь, дешевка, а то матку выверну.
Фраера опешили, однако интонации не вняли, и один из них попытался наотмашь ударить Чалого в нюх. Тот успел уклониться, но чтобы фраер ушастый прыгал на блатного – это западло. Мгновенно ширмач выхватил жеку, небольшую, острую как бритва финку, и, вонзив ее между ключиц непонятливого труженика, развернул в ране. Секунду спустя он расписал и второго – разрезав полукругом тезево, вывернул требуху наружу – и, схватив оцепеневшую Буксу за руку, что было сил рванул когти.
Стремглав они пробежали проходным двором, пролезли через дыру в заборе и, нырнув в подвал огромного, разрушенного дома, затаились – попробуй-ка теперь их найди.