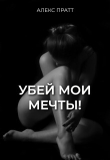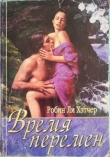Текст книги "Кара"
Автор книги: Феликс Разумовский
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Глава первая
Уже начало темнеть, когда за Харьковом, на одном из перегонов, поезд встал. Со стороны паровоза, как водится, грохнули выстрелы, и скоро в вагон вошли гарны хлопцы в папахах и синих свитках:
– Которые жиды, комиссары и белая кость, выходите.
Сквозь грязь вагонного стекла были видны стоявшие вдоль путей тачанки. Почуяв сразу, что хорошо все не кончится, Семен Ильич Хованский незаметно переложил наган из внутреннего кармана френча в боковой. Дурное предчувствие не обмануло его.
– А ты что за человек будешь? – Даже толком не посмотрев на купленный в Харькове у спеца-гравера паспорт, приземистый, широкоплечий атаманец обдал Хованского чесночным угаром, густо замешанным на самогоне. – Я нутрями благородную сволочь чую.
Прямо не в бровь, а в глаз попал, бандитское отродье, потому что Семен Ильич не так уж давно носил погоны штабс-капитана и рода был хотя и не древнего – от опричнины, однако знатного.
– Двигай, сейчас атаман решит, что с тобой делать! – Сильные руки подтолкнули его к тамбуру, где уже скопилось с десяток животрепещущих душ, и, понимая прекрасно, какое будет резюме, Хованский резко ударил провожатого кулаком в пах.
Частые драки в кадетском корпусе, офицерские курсы рукопашного боя да пластунская служба в Германскую даром не пропали. Не глянув на скрючившегося на полу атаманца, Семен Ильич стремглав бросился к выходу. За его спиной раздались вскрики, тут же послышалось топанье сапог, и, с ходу раздробив колено стоявшему у дверей чубатому парубку, штабс-капитан спрыгнул на землю, инстинктивно засунув руку в боковой карман френча. Наган у него был офицерский, с самовзводом. Нажав на спуск, Хованский сразу же завалил рванувшегося было к нему широкоплечего хлопца, нырнул под вагон и что есть мочи припустил к пролегавшему неподалеку оврагу, не забывая в то же время для затруднения прицеливания забирать на бегу справа налево.
Между тем уже темнота окутала степь мрачным покрывалом своим, и сколь бешено ни палили по Семену Ильичу, но он упал невредимым в высокую полынь и затаился, нехай думают, что попали. Совет рядом пули со свистом срезали верхушки репейников, но Хованский знал, что судьбой уготованные девять граммов прилетают беззвучно. Не шевелясь, дождался он наконец, пока стрельба затихла, а со стороны вагонов раздалась громкая матерная речь, смешанная с проклятьями на мове.
Ночь была безлунной. Хорошо понимая, что искать его в кромешной тьме никто не станет, Хованский, перевернувшись на спину, закрыл глаза. Действительно, тут же пустив в расход пойманных жидов, москалей и комиссаров, атаманцы взорвали железнодорожный путь, живо погрузились в тачанки, позади каждой из которых дегтем было написано: «Хрен догонишь», и с конским топотом, гиканьем да звоном колокольцев быстро растворились в степи.
Скоро подул свежий ветер, и лежать сделалось холодно. Штабс-капитан осторожно поднялся и, чутко вслушиваясь в ночные шорохи, беззвучно двинулся вперед. Приобретенное еще на фронте чувство пространства его не подвело. Очутившись в сухой, защищенной от ветра балке, Семен Ильич, горько усмехнувшись, принялся сворачивать из скверной махры-самосадки огромную «козью ногу».
Вот он, потомок знатного рода, венец мироздания, награжденный за доблесть золоченым оружием да крестами, сидит затаившись, как обложенный зверь, а серое, неумытое быдло, коему сапожищем бы в пьяное мурло, уже вовсю разгулялось на бедной, видимо, Богом проклятой Руси.
«Господи, за что же это все?» – Хованский зябко повел широким плечом, сплюнул и принялся добывать огонь, осторожно чиркая спичкой. Из себя он был роста среднего, однако сбитый весьма крепко. Несмотря на происхождение, ничего особо хорошего в жизни он не видел. Отец его, граф Хованский, разорившийся вследствие пагубных устремлений к картам и женскому полу, однажды спьяну повесился, а сыну оставил лишь долги да наказ поступать в кадетский корпус.
На Германской Семен Ильич дрался лихо, заслужил полный завес офицерских «георгиев», однако после войны что-то случилось в душе его. Не принимала она ни бессилия государева, ни шельмоватого бородатого ерника, помыкавшего государыней, а вся Россия виделась ему залитым кровью лобным местом, где высились плахи с топорами и слеталось черное воронье на поживу.
Революционный кошмар семнадцатого года он встретил с пониманием, неделю беспробудно пил горькую, а затем вместе со своим бывшим командиром полковником Погуляевым-Дементьевым занялся самочинами. Было их поначалу с десяток, в прошлом боевых офицеров, коих по первости окрестили уркачи презрительно «бывшими», но в скором времени им по-рыхлому подфартило, и они забурели.
Одетые в кожаные штурмовые куртки а-ля ЧК, прикрываясь липовыми мандатами, Хованский со товарищи с энтузиазмом производили самочинные обыски, вламывались в богатые квартиры и убивали хозяев при малейшем сопротивлении – благо фронтового опыта хватало. Однако, как-то погорячившись, они вручили потерпевшим предписание о явке за изъятым на Гороховую, и, наглости такой не стерпев, чекисты задумали опасных конкурентов устранить. Не мешкая, устроили подставу с засадой и в упор расстреляли из маузеров почти всех «бывших», ушел только Хованский, унося по давней фронтовой традиции на своих плечах смертельно раненного командира, пахана то есть.
После этого авторитет его вырос, приклеилось погоняло Граф, и сам фартовый питерский мокрушник Иван Белов с кликухой Ванька Белка почтил его вниманием, а также удостоил чести вступить без «засылания в оркестр» в свою кучерявую хевру. Недолго, правда, урковал Семен Ильич вместе с ним: уж больно была неизящна окружавшая штабс-капитана блатная сволочь – серой, непоротое мужичье, а кроме того, ощутил он явственно, что жизни нормальной теперь в России не будет, а свет на ней не сошелся клином. И потому вышиб он в одиночку денег из меховщика на Казанской, справил себе чистую бирку, и понесла его нелегкая в Москву.
А тем временем на молодую республику навалились Врангель, Деникин и Юденич, Антанта начала высаживать десанты на Мурмане да в Архангельске. Казалось всем, что скоро большевикам придет хана. Но краснопузые были хитры и изворотливы, как тысяча чертей, не боялись крови, а самое главное – хорошо понимали суть души российской. Они никому ни в чем не отказывали. Крестьянам пообещали землю, измученным войной народам мир, а примазавшимся к ним не лучшим представителям рода человеческого – экспроприировать экспроприаторов, а затем все награбленное в соответствии с заслугами поделить, то есть, говоря проще, выдать каждому его долю из общака. Ну как же своротить такую махину?
В Москве было нехорошо: черной грозовой тучей надвигался красный террор, крутые декреты нового правительства выматывали душу, – и штабс-капитан в первопрестольной не задержался. Более того, после неудачной попытки взять на гоп-стоп жирного бобра, когда пришлось шмалять и многие зажмурились, а потерпевший на деле оказался красноперым из бурых, пришлось рвать когти и расставаться с первопрестольной, притулившись на крыше товарного вагона.
И полетели навстречу Хованскому обшарпанные железнодорожные станции с неподвижными паровозами на запасных путях, заброшенные села среди запустевших полей, покосившиеся креста на погостах – всюду голод, разруха, конца которым не видно. Показалась ему Россия забитой худосочной кобыленкой, которую сволочи большевики подняли на дыбы и гонят неизвестно куда.
Наконец Семен Ильич прибыл в Харьков и будто вернулся в старые довоенные времена. Из городского сада был слышен духовой оркестр; с гиканьем проносились на лихачах потомки древних украинских родов – поголовно в червонных папахах; одетые в синий шевиот военные маклеры важно курили гаванские «Болеваро»; и лишь присутствие на улицах немецких, со стальными шлемами на головах солдат наводило на мысль, что все это великолепие ненадолго.
В сумерках, когда озарились ртутным светом двери кабаре, штабс-капитан отправился на берег покрытой ряской неторопливой речки Нетечи. В уютной беседке, что отстояла несколько от центральной парковой аллеи, он приласкал рукоятью нагана сидевшего там с барышней какого-то знатного отпрыска, взял лопатник, кое-чего из мишуры, а чтобы гарна дивчина не убивалась о потерянном вечере, закинул подол шелкового платья ей на голову и отодрал как Сидорову козу.
На следующее утро Семен Ильич переехал в гостиницу «Националь» и пил шампанское, однако на сердце у него было гадостно, а в глубине души он был уверен, что все это – на ниточке. На деле так и вышло.
Императора Вильгельма вскоре с престола свергли, немцы начали оставлять Украину, и, конечно, без большевиков не обошлось – тут же их скопища поперли на Харьков. Снова штабс-капитану пришлось уносить ноги от восставшего неумытого хама, и вот пожалуйста – нигде от него просто спасу нет. Вспомнив сегодняшнее приключение в поезде, Семен Ильич от злости даже засопел и затянулся так, что «козья ножка» затрещала: «Просрали Россию матушку, похерили, а все оттого, что либеральничать стали, в демократию решили поиграть. А у русского мужика все сознание на страхе держится – кто Бога боится, а кто батогов с шомполами. Вот и надо было больше церквей строить да драть всех без разбору, был бы порядок полнейший».
«Козья ножка» иссякла, зато облака на небе разошлись, и выглянувший сквозь разрыв бледно-молочный лунный блин излился на землю тусклым, загадочным каким-то светом. «Иди-ка сюда, дружок». – Штабс-капитан вытащил из изуродованного здоровенной обгоревшей дырой кармана револьвер, перезарядил барабан и неслышно, по давней, еще пластунской привычке ступая по дну оврага, двинулся вдоль него.
Он шел всю ночь, и когда звезды на небе побледнели, а солнце поднялось над разрывчатой туманной стеной, он увидел полотно железной дороги.
Один Бог знает, как ему пришлось ехать в последующие дни – большей частью на крышах вагонов. На перегонах стреляли из придорожных кустов в окошки. У теплушек горели буксы, на подъемах вагоны отрывались от состава и сваливались под откос. Люди с черт знает какими рожами отцепляли паровозы и угоняли их, матерясь нечеловечески. Порядок отсутствовал напрочь, начальники станций прятались, а на самих станциях шла непрекращающаяся стрельба.
«Прочь, подальше от этой нищей, проклятой Богом страны». – Подгоняемый ненавистью к окружающему, Семен Ильич все превратности путешествия перенес невредимым и к новому, 1919 году, благополучно добрался-таки до российской морской жемчужины – вечно молодой красавицы Одессы-мамы.
Глава вторая
Господи, сколько всякой шушеры хиляет по темной ленте Одессы-мамы в послеобеденное время! Военная блестит золотом погон и, тряся наградами, которым нынче цена – насыпуха, надувается сознанием собственной значимости. Гражданская с надеждой смотрит на рослых английских моряков, на смеющихся французов в шапочках с помпонами да на лежащие серыми утюгами далеко в море громады дредноутов – неужели обо все это проклятые большевики не обломают в конце концов себе зубы?
Дамы хороши, что и говорить, на любой вкус, да и цену тоже. Одесситки – плотные, знающие свое женское дело до мелочей, у них не сорвется, петербургские красавицы будут в кости потоньше, пожеманнее и уж совсем попроще, да, к слову сказать, и подешевле всякие там актрисы, актрисочки, актрисульки, многим из которых нет еще и двадцати годков, а в нежно-голубых глазенках уже пустыня. А профураток не ищите здесь в это время, спят они, сердечные, умаявшись с клиентами за ночь.
«Неужели это все, что осталось от империи?» – Бывать на Дерибасовской днем Семен Ильич Хованский не любил, уж больно раздражала его вся присутствовавшая там сволочь. Другое дело ночью, и не далее как вчера он взял здесь с мокрым грантом жирного клопа, посаловья у которого было столько, что добром отдать не пожелал. Теперь, одетый в деревянный макинтош, жалеет, наверное.
Была середина марта, и хотя с моря дул прохладный ветерок, штабс-капитан распахнул дорогую хорьковую теплуху, отобранную у хламидника Пашки Снегиря в счет карточного долга, сдвинул на затылок кепку-отымалку, и обутые в прохаря со скрипом ноги сами собой понесли его прямо на баноску. Миновав сплошь заколоченную досками фиксатую банду, где третьего дня местный гетман Васька Косой, замочив хранилу, набрал рыжья немерено, Семен Ильич презрительно цвиркнул при виде неторопливо прогуливавшегося цветняка из Варты. Еще издали нос его учуял сложную смесь запахов, густо доносившихся с рынка.
На Привозе, как всегда, было суетно. Плотно толпились мелкие спекулянты – цыплята пареные, топали по мелководью алтыры, а какая-то с утра еще бухая гумазница предлагала всем желающим немедленно справить под забором удовольствие. Местные богодулы, выбивавшие прохожих из денег на торчаке, при виде штабс-капитана разом поджались, а рыночное циголье, мгновенно узнав его гнедую масть уркаганскую, решило от греха подальше сделать в работе перерыв.
«Канайте, дешевки». – На губах Семена Ильича появилась кривая ущера. Внимательно оглядевшись, он сразу же срисовал подходящего ламдана – хорошо одетого сына израилева, на чернявой вывеске которого блестело пенсне, а в пройме лапсердака – толстая серебряная цепура от луковицы.
– Соломон Абрамович, шолом! – Изображая на лице несказанную радость, штабс-капитан мгновенно подскочил к нему и заключил пархатого в объятья, – Вот это встреча, чтоб мне так жить!
Недоуменно выкатил прохожий на него глаза свои, а Хованский, стремительно ударив его головой в лицо, хлопнул вдобавок воротником пальто по шее, моментально вычистил карманы, вырвал часы и, оставив потерпевшего в бледном виде, растворился в толпе.
Обедать нынче он решил в «Одесском Яре» – открывшейся недавно ресторации с названием ностальгическим. Быстро добравшись на пролетке с резиновым ходом до освещенных ртутным светом дверей, Хованский скинул шубу на руки ужом извернувшемуся алешке и, приосанившись, двинулся в зал.
Несмотря на несуразное время – не вечер еще, – народу в заведении было полно. Пили с неуемной жаждой водку и шампанское, жрали от пуза и, громко поминая прожитое, со скупой офицерской слезой грозились большевикам отомстить.
– Я тебя сейчас в бараний рог согну, бабируса позорная. – Улыбаясь одними губами, штабс-капитан неласково посмотрел на ресторатора, решившего усадить его на паршивое место рядом с кухней, и тот сразу же передумал:
– Ошибочка вышла-с, пардон-с.
Минуту спустя халдей уже притащил для начала суточные щи, расстегай с вязигой, с севрюжкой, при свежей зернистой, да заросший инеем графинчик с водочкой. Придя сразу же в спокойное расположение духа, Семен Ильич принялся обедать. В качестве мясного он заказал лопатки и подкрылки цыплят со сладким мясом, на рыбное – разварных речных окуней с кореньями, а для основательности приказал принести жаркое из молочного поросенка с гречневой кашей.
И все было бы хорошо, если бы не начал весь ресторан заунывно реветь в честь доблестной Франции «Алла верды» – громко и безобразно. Ах, то ли дело задушевные, берущие за самое русское нутро песни Александра Вертинского или уж, на худой конец, бодрящее звучание Измайловского марша!
Наконец, сунув оторопевшему халдею пятьдесят карбованцев на чай, Семен Ильич из заведения вышел, завернул на Екатерининскую и, двинувшись вдоль набережной, на секунду задержался у подножия бронзового дюка Ришелье.
Широким жестом простер тот свою длань в бескрайний морской простор. Глянув на темневшие вдали пески Пересыпи, где у ивана всех одесских армаев Васьки Косого размещалась штаб-квартира с телефонной связью, штабс-капитан вздохнул и принялся спускаться по каменной герцогской лестнице в порт. Путь его лежал в одну из здешних нешухерных малин, содержал которую старший шлиппер Корней – отошедший от дел старый вор, наведенные с уркаганами коны никогда не терявший.
Очутившись наконец перед ободранной дверью в бельэтаж, Семен Ильич особым образом постучал, подождал, пока на него поглазеют в щелочку, и, миновав темный, в котором сам черт ногу сломит, предбанник, очутился в просторном, освещенном ярко помещении. В левом его углу пили и жрали, в правом – катали, а из отгороженных занавесками дальних комнат раздавался заливчатый женский смех. Придвинувшись к игральному столу, Семен Ильич оглядел за ним собравшихся:
– Талан на майдан.
Присутствовавшие ему были знакомы: авторитетный кучер-анархист Митька Сивый со своим брусом шпановым Васькой, бывший марошник с погонялом Антихрист, как-то раз поделившийся с Богом, а между ними сидел, уже изрядно нарезавшись шила, вор-фортач Паша Черный. Здесь же находились кое-кто из шелупони – марушник Бритый, вурдалак Соленый Хвост да старый огрош Шнуровой, которых бы вообще в порядочное общество пускать не следовало. Посмотрев на них презрительно, Семен Ильич все же через губу пожелал:
– С мухой.
На столе плясали танго японское, то есть играли в секу, и, поскольку самому штабс-капитану катать в такой компании было западло, с минуту он просто наблюдал за судьбой, сразу же срисовал, что шмаровоз-крыса играет с насыпной галантиной. Едва удержавшись, чтобы не засветить ему рукояткой нагана прямо между ушей, Хованский внезапно почувствовал за своей спиной густую композицию из ароматов духов «Колла», разгоряченного женского тела и не так давно выпитого коньяка с шампанским.
– Граф, ну не будь же как памятник дюку, на морде бифсы фалуй. – Нарисовавшаяся из-за занавески длинноногая жиронда Катька Трясогузка была прикинута во французское платьишко от «Мадлен и Мадлен» – спина открыта до середины ягодиц, всюду черный прозрачный шелк, а пышная юбчонка оставляла открытыми до колен хорошенькие ножки в белых шелковых чулках.
Не далее как вчера Семен Ильич пошел на дзюм с тяжеловесным уркаганом Кондратом Спицей и подписался сработать с ним на пару захарчеванного фраера, который в натуре являлся филером позорным.
– Не раскатывай губу, ласточка, в другой раз. – Штабс-капитан потрепал марьяжницу как раз по тому месту, где заканчивалось на рябухах декольте, посмотрел с важностью на отметенную сегодня на Привозе у пархатого луковицу и скоро услышал, как в дверь «ляды» постучали.
Это наконец-таки заявился Кондрат Спица – огромного роста, в бобровой, сразу видно, взятой на гоп-стопе, шапке пирожком. Многие в малине, увидев его, опустили глаза – очковались.
Между тем на улицах Одессы уже загорелись огни – мартовский день подошел к концу, из распахнутых настежь дверей заведений раздавалась громкая музыка, а кое-где из темноты переулков доносилось не менее громкое: «Помогите, грабят». Мягко прошелестев резинками пролетки по мостовой, извозчик живо домчал Семена Ильича с подельником до кабака с названием впечатляющим: «Ройял палас».
Как и везде, здесь много пили и шумно жрали, вытирая слюни, разбавленные слезами, грозились повесить проклятых комиссаров на каждом телеграфном столбе, а на сцене с десяток безголосых мамзелей демонстрировали под музыку цвет своих французских панталон:
Поручик был несмелай, меня оставил целай,
Ах, лучше бы тогда я мичману дала…
– Вон он, задрыга. – Кондрат Спица указал урабленным подбородком на столик в глубине зала. – Я лабаю на подкачку. – И, заложив руки в карманы генеральского мантеля без погон, враскачку направился к плотному усатому господину, в одиночку убиравшему жареную утку с яблоками.
– Ах вот ты где, паскуда! – Уркаган пошатнулся, как сильно пьяный человек и заплетающимся языком поинтересовался: – Когда, сука, на дочке моей обрюхаченной жениться? Ты, козел душной, скотина безрогая, хам неумытый.
– Вы ошиблись, любезный, мы незнакомы. – Голос любителя жареной утки был негромок, но тверд, и рука его незаметно потянулась под стол, скорее всего, к револьверу.
– Ты что к человеку пристал, наглая твоя харя? – Быстро приблизившись, Хованский принялся Кондрата Спицу отталкивать в сторону. Обернувшись к плотному усачу, широко улыбнулся: – Извините, господин хороший, пьян он, не соображает ничего, – а заметив, что тот руку из-под стола убрал, тут же всадил ему в горло по рукоять приблуду остро заточенный финский нож.
– Зеке! – Сбивая встречных с ног, Кондрат Спица уже мчался к выходу. Не мешкая штабс-капитан кинулся за ним следом. Очутившись в темноте улицы, негодяи стремительно побежали в разные стороны – ищи ветра в поле. Да и кто искать-то будет?
Глава третья
Урим и Туммим (древнееврейское «свет» и «совершенство») – предметы на наперснике первосвященника, через которые давалось откровение воли Божьей, способ его неизвестен.
(Из комментариев к Ветхому Завету)
– Ну, как он? – Подполковница Астахова решительно изъяла из своей креманки ошметки экзотических фруктов, щедро плесканула в нее кофе из чашки и, тщательно размешав, принялась черпать ложечкой. – Чем дышит-то?
– Вчера у нас опять был моцион к сфинксу. – Катя внимательно наблюдала, как кроваво-красный сироп медленно расползается по подтаявшему шоколадному пломбиру. Внезапно ей сделалось тошно. – А третьего дня были мы у доктора, никаких, говорит, выраженных патологий нет, а отчего люди бродят ночами, толком не знает никто. Мол, психика человеческая – терра инкогнита, и со времен папы Фрейда мало чего узнали нового. Рекомендовал попробовать гипноз.
Они сидели в небольшой, уютной кафешке с названием располагающим – «На жердочке». Неудовлетворенно посмотрев на свою опустевшую креманку, Таисия Фридриховна помахала официантке рукой:
– Алло, девушка, два по сто коньяку, орехов да бананов сушеных пачку, – и, дождавшись заказанного, посмотрела на подругу испытующе: – Слушай-ка, мать, а может, выслать тебе этого Берсеньева-Савельева к чертовой бабушке, чего жизнь-то молодую изводить? Много было таких, сколько будет еще впереди – какие твои годы.
Она попыталась улыбнуться, но Катя ее не поддержала и, хотя была за рулем, приложилась к коньяку:
– Слышь ты, Тося, как с ним, мне ни с одним мужиком так хорошо не было. Потом, нравится он мне. А кроме того, – она внезапно невесело усмехнулась, – кажется, я в залете.
– Ну ты, мать, даешь! – Подполковница поперхнулась даже и соболезнующе закивала головой: – Времени нет спираль всобачить, такие мы занятые?
– Да нет, недавно я новую освоила, японскую. – Разговор Кате явно не нравился. Заметив это, Астахова мгновенно переменила тему:
– Прокачала я тут кое-чего, с архивом связалась, и доложу тебе, что открываются вещи интереснейшие. Дед твоего Савельева, знаешь, к примеру, кто был? Ни за что не угадаешь – самый что ни на есть орел-чекист, генерал энкаведешный.
– Да? – Катя рассеянно посмотрела на ворох бумаг, который подполковница потащила из своей сумки, и внезапно горько, по-бабьи, заревела – наверное, не надо было пить ей коньяк на голодный желудок.
В то время как подполковница Астахова жевала засушенный банан, а Катя в ее обществе пускала слезу, доктор наук Чох сидел перед экраном монитора и от нетерпения покусывал губу.
Весь сегодняшний день он занимался анализом древнейших религиозно-философских систем. Хотя даже при беглом рассмотрении в них ощущалась какая-то общность, никаких конкретных результатов пока получено не было. Отодвинув стул, Игорь Васильевич подошел к окну, где на подоконнике закипал чайник, заварил «Липтона» и, глотнув, крепко потер ладонью седоватый ежик на затылке.
Ведь если вдуматься, везде одно и то же, только в разных вариациях.
В тантрическом учении – это высший космический принцип Кала, в индуизме – изначально сущий Брахман, в учении китайского патриарха Фуси – всемирный закон Дао, у мусульман – лишенная образа Воля Аллаха, а у древних иудеев – бесконечный невыразимый Эйн-Соф. То есть речь идет о безличном и бескачественном Абсолюте, который, по словам гениального мистика средневековья Иоганна Экхарта, стоит за Богом и представлен в трех лицах. И каждое учение возникало именно затем, чтобы научить человека сливаться с этим Вселенским Единством, будь он последователь тантризма, даос или суфий. Проявлением же Абсолюта является та пустота, которой нет, но одновременно она во всем и содержит потенции всего сущего. Именно она определяет единство мира, закон подобия и неразрывность бытия.
Физики называют сейчас это вакуумом. Наука в настоящее время только подходит к пониманию его глубинных свойств и осознанию того, что из него появилось все сущее во Вселенной. «Весь вопрос только как и зачем. – Игорь Васильевич чаек допил и, разминая шею, хрустнул позвонками. – А главное, почему все древние учения подобны друг другу, будто описывают одно и то же, только с разных точек зрения? Так, буддийская теория „трех сосудов бытия“ опирается в основном на энергетический аспект мироздания, ведическая – на структурный, а в древнеиудейской доктрине весь упор делается на причинно-следственные связи».
А где он, первоисточник древнейших эзотерических знаний, необъяснимо высоких по уровню современных представлений? Почему мифы древних догонов детально описывают планетные системы Сириуса, а возникшая на Тибете традиция Рабчжуна обязана своим появлением двенадцатилетнему циклу обращения Юпитера по эклиптике?
«А фиг его знает». – Вытащив из холодильника необыкновенно вкусное, густо натертое красным перцем и чесноком сало, доктор Чох принялся нарезать его на жеребейки. Облизываясь, потянулся за горчицей, и в этот момент, протяжно пискнув, компьютер разродился. Собственно, программа оставляла желать лучшего, да и информации было маловато, а потому, намекнув Игорю Васильевичу на Калаваду и зерванитскую систему, машина упомянула трогательную историю о древней святыне из храма Абсолюта и послала доктора за дальнейшим к Авесте. Электронный помощничек, мать его за ногу!
Калавада является составной частью в высшей степени эзотерической науки Аннутара-йога-тантра, по которой никакой информации практически нет, а зерванизм – это тайное учение в системе зороастризма, полностью изложенное в священном тексте древних ариев Авесте. Но только вот незадача: из двадцати одной книги существуют в письменном изложении только пять, остальные же передаются изустно, от учителя к ученику. А история с небесным подарком из Ориона вообще туманна и, наверное, является одной из самых загадочных страниц земной истории.
Давным-давно в Арктиде, легендарной родине древних ариев, которые пришли, согласно древним источникам, со звезд Большой Медведицы, на горе Хара-Березайти стоял храм Абсолюта. А в нем помимо прочих святынь находился некий предмет, предположительно кристалл, прибывший, согласно поверью, из созвездия Ориона и обладавший какими-то чудесными свойствами. После гибели Арктиды судьба его неизвестна, но существует ряд гипотез, усматривающих, что египетский «глаз фараонов», еврейский Урим с Туммимом, а также святой Грааль связаны напрямую с наследием древних ариев.
«Пища духовная – это, конечно, хорошо, но…» – Игорь Васильевич отрезал кусок Бородинского, смачно шмякнув поверх него жеребейку сала, намазал сверху горчицей и, откусив, сразу же о священной реликвии и думать забыл – так ему было хорошо.
– Итак, товарищи курсанты, что главное в бою, и в рукопашном в частности? Правильно, лейтенант, состояние духа. Приоритет в области боевых психотехник несомненно принадлежит древним посвященным – именно они разработали методики, позволявшие соплеменникам входить в состояние транса, носящее название «безумие воина». Самый старый из них, однако и самый надежный, – это метод подражания или, выражаясь по-научному, ролевого поведения. Какова же суть его? Боец выбирает себе объект для подражания, то есть отождествляется с ним. Это может быть как реальное лицо – знаменитый воин, известный мастер-рукопашник, так и вымышленное – персонаж мультфильма, мифический герой, продукт компьютерной графики, а также – хищное животное. Именно так и поступали скандинавские берсерки, изображая себя кровожадными волками. За много веков до них примерно так же действовали адепты звериных стилей и конечно легендарные представители синоби-дзюцу – воины кланов ниндзя, на которых я хотел бы остановиться подробнее. Так вот, на какое-то время они умели приобретать сверхвозможности путем произнесения магических заклинаний (дзюмон) – суть мантр, сплетая пальцы в определенной комбинации (кудзи-ин) и мысленно отождествляя себя с одним из девяти мифических существ: вороном-оборотнем Тэнгу, небесным воином Мариси-тэн, повелителем ночи Гарудой и другими, то есть, говоря с позиций современной науки, можно сказать, что древние японские лазутчики использовали самогипноз на основе «якорной» техники. Ниндзя задействовали сразу три якоря: кинестетический (сплетение пальцев), аудиальный (звукорезонансная формула) и визуальный (зрительный образ), а в результате они обретали качества, необходимые в данный момент: силу, прилив энергии, нечувствительность к боли и ранениям.
(На занятиях в Днепропетровской школе ГРУ)
За гостиничным окошком уже опустился темный осенний вечер, и Савельев решил, что тянуть дальше не имеет смысла. Переставив лампу с тумбочки на стол, он выложил на чистую салфетку приготовленную еще вчера иглу с кунжутовой нитью, хорошо наточенную опасную бритву, пузырек йода и, чтобы случайно не испоганить одежду, разделся до пояса.
Всю свою жизнь он старался действовать согласно здравому смыслу. Сейчас этот самый здравый смысл громко говорил ему, что от материнского наследия надо избавиться любой ценой. Все беды последних дней, несомненно, от проклятого кольца, и хотя никакими усилиями его не снять – ни с мылом, ни как-нибудь по-другому, а надфиль скользит по его поверхности, не оставляя ни малейшей царапины, у настоящего воина всегда есть выход.
Савельев тщательно продезинфицировал спиртом бритву с иглой, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Палец он отрежет чуть выше средней фаланги, затем избавится от кольца и, залив рану йодом, кожу на культе аккуратно зашьет, чтобы все было стерильно и красиво. Но делать это надо в боевом трансе, когда не чувствуешь ничего, кроме холодной решимости. Сжав определенным образом кулаки, ликвидатор громко произнес свою мантру входа в измененное состояние сознания: «Граум».
Запрограммирован Юрий Павлович был на берсерка-русича Евпатия Коловрата. Вызвав в мозгу образ могучего, бешено вращающегося по кругу воина – Коловрат суть коловорот, – он сразу же почувствовал, как в нем просыпается клокочущий вулкан энергии, бесстрашия и презрения к смерти. Громко засмеявшись от радости, что сейчас все закончится, Савельев обильно полил палец спиртом и, потянувшись за бритвой, внезапно замолчал. Она была необыкновенно тяжелой, и всех сил ликвидатора еле-еле хватило, чтобы оторвать ее от поверхности стола. Страшным усилием воли он приблизил сверкающее лезвие к пальцу, и внезапно что-то непроницаемо темное начало стремительно наваливаться на его сознание. Протяжно закричав, Савельев попытался довести начатое до конца, но голова его беспомощно упала на стол, и последнее, что он увидел, был образ Евпатия Коловрата, которого душило что-то темное и бесформенное.