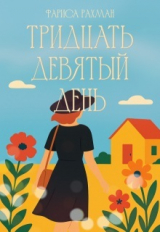
Текст книги "Тридцать девятый день (СИ)"
Автор книги: Фариса Рахман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
– Вот, – сказала Анна, обводя рукой зал. – Это ваше поле битвы. Тема выставки «Перерождение».
Марина только кивнула, чувствуя, как внутри всё сжимается. Весь оставшийся день она провела в галерее. Ходила из зала в зал с рулеткой и блокнотом, делала замеры, наброски, пыталась почувствовать пространство. Но вместо вдохновения её окутывала пустота. Белые стены давили, отражая её собственную неуверенность. Вечером, вернувшись домой, она разложила на полу большие листы ватмана, но карандаш не слушался. Все идеи казались мелкими, банальными, недостойными этого места. Она скомкала один лист, потом другой. К полуночи пол её гостиной был усеян бумажными снежками её провалов. Старый страх, знакомый липкий шёпот в голове вернулся.
Саша приехал поздно. Он не предупреждал о визите, просто позвонил в домофон. Когда Марина открыла дверь, он стоял на пороге с пакетом, из которого пахло имбирным печеньем и кофе. Он сразу увидел её потухшие глаза и бумажное побоище на полу. Он не стал задавать вопросов. Молча прошёл на кухню, поставил чайник, а вернулся уже с двумя дымящимися кружками. Он сел на пол рядом с ней, среди скомканных листов, и протянул ей одну из кружек.
– Творческий кризис? – спросил он мягко.
– Творческая катастрофа, – выдохнула она, отпивая обжигающий чай. – Я не могу. Саша, я ничего не могу придумать. Всё, что я рисую, мусор. Анна ошиблась во мне. Я не смогу.
Он ожидал слёз, истерики, но её голос был тихим и пустым, и от этого становилось ещё страшнее. Саша на мгновение замер, его первым инстинктом было начать её утешать, предлагать идеи, решать проблему за неё. Сказать: «А давай попробуем вот так? Или, может, сделать акцент на свете?». Но он вовремя прикусил язык. Он видел перед собой не слабую женщину, нуждающуюся в спасении, а сильного человека, который на мгновение потерял веру в себя. И сейчас ей нужен был не спасатель, а тот, кто просто будет рядом.
– Хорошо, – сказал он спокойно, отставляя свою кружку. – Тогда не придумывай.
Марина удивлённо подняла на него глаза.
– В каком смысле?
– В прямом. Перестань пытаться что-то «придумать». Ты слишком стараешься оправдать чьи-то ожидания. Анны, критиков, свои собственные. Ты пытаешься нарисовать то, что, как тебе кажется, от тебя ждут. А ты нарисуй то, что у тебя внутри. Прямо сейчас.
Он взял чистый лист, положил перед ней и протянул ей карандаш.
– Не для галереи. Не для выставки. Для себя. Что ты чувствуешь? Нарисуй этот страх. Эту пустоту. Эти скомканные листы.
Марина смотрела то на него, то на карандаш. Её рука дрожала.
– Я не могу…
– Можешь, – его голос был твёрдым, но нежным. – Я не уйду. Я буду сидеть здесь, рядом. Даже если ты нарисуешь просто чёрный квадрат. Я просто посижу рядом.
И она взяла карандаш. Сначала линии были неуверенными, рваными. Она рисовала тёмные, спутанные клубки, острые углы, ломаные силуэты. Потом, сама не заметив как, она начала вырисовывать из этого хаоса что-то другое. Из клубков начали прорастать тонкие, хрупкие ветви. Из острых углов, распускаться бутоны. Она рисовала долго, не замечая времени, а он сидел рядом, молча, и его тихое, спокойное присутствие было лучшей поддержкой, которую только можно было представить. Он не давал советов, не хвалил, не критиковал. Он просто был. И этого было достаточно, чтобы она перестала бояться.
Когда она наконец отложила карандаш, на листе был изображён старый, корявый ствол дерева, из трещин которого пробивались молодые, полные жизни побеги. Это был её ответ. Её «Перерождение».
Дни пролетели в тумане кофейных стаканчиков, запаха краски и строительной пыли. Марина работала с одержимостью человека, который боится остановиться. Галерея стала её миром, высоким, гулким, наполненным эхом её собственных шагов. Она приходила туда с рассветом и уходила, когда за окнами уже зажигались фонари. Анна, как куратор, оказалась женщиной строгой, но справедливой. Она не лезла с советами, но её редкие, точные замечания всегда попадали в цель, и Марина чувствовала, что работает с профессионалом, который её уважает. Страх постепенно уступал место азарту. Белые стены перестали быть врагами, а стали холстом, на котором она наконец-то могла рассказать свою историю.
Однажды он застал её на высоких строительных лесах, почти под самым потолком. Она, высунув от усердия кончик языка, выводила тонкой кистью изгиб ветви сакуры. Волосы были собраны в небрежный пучок, щека испачкана розовой краской, а старая футболка забрызгана так, будто она попала под обстрел цветным дождём, пришёл Саша с картонным коробом горячей пиццы. Он постоял внизу, глядя на неё, а потом громко, чтобы она услышала, крикнул:
– Эй, Рапунцель! Ты там замок себе строишь или всё-таки спустишься к простым смертным? Я принёс твоей внутренней богине подношение в виде латте и чизкейка.
Марина вздрогнула от неожиданности, чуть не смазав линию. Она посмотрела вниз. Он стоял, задрав голову, и улыбался так широко и открыто, что у неё самой невольно растянулись губы.
– Если ты ещё раз назовёшь меня Рапунцель, я сброшу на тебя кисточку, – проворчала она, но в голосе слышался смех. – И вообще, что за неуважение к творческому процессу? Я тут, между прочим, создаю вечное.
– Вечное подождёт, а чизкейк нет. У него короткий срок годности и длинный список желающих его съесть, – парировал он. – Спускайся, говорю. У меня к тебе деловое предложение.
Она спустилась, вытирая руки о тряпку. От него пахло кофе и чем-то неуловимо свежим, как после дождя. Он протянул ей стаканчик с латте. Она сделала глоток, прикрыв глаза от удовольствия.
– Ну, что за предложение? Хочешь, чтобы я и тебе на стене сакуру нарисовала? Сразу говорю, за чизкейк не работаю. Только за наличные.
– Нет, предложение серьёзнее, – он сел на край строительных козел, отпивая свой кофе. – Марин, нам надо поговорить.
Её сердце пропустило удар. Это «нам надо поговорить» всегда была для неё предвестником чего-то плохого. Она сразу напряглась, её улыбка погасла. Она приготовилась защищаться, оправдываться, спорить.
– Что-то не так? – спросила она осторожно.
– Да, – кивнул он с абсолютно серьёзным лицом. – Я не могу больше молчать. Это касается основ наших с тобой отношений.
Она смотрела на него, ожидая худшего. В голове уже пронеслись десятки вариантов, он или возвращается к Эмили, или уезжает навсегда, он считает, что они слишком поторопились.
– Я должен знать, – продолжил он, глядя ей прямо в глаза. – Ты действительно считаешь, что ананасы в пицце, это нормально?
Марина замерла. Несколько секунд она просто смотрела на него, пытаясь понять, шутит он или нет. А потом не выдержала и расхохоталась. Так громко и искренне, что эхо её смеха прокатилось по всей галерее. Она смеялась до слёз, согнувшись пополам, а он смотрел на неё, и в его глазах плясали смешинки.
– Ты… ты идиот, Саша! – выдохнула она, вытирая слёзы. – Я уж думала, всё. Конец света.
– Для меня это и есть конец света! – возмутился он с наигранной серьёзностью. – Как я могу строить будущее с женщиной, у которой такие варварские гастрономические пристрастия? Это же против всех законов природы!
– А по-моему, это гениально, – заявила она, уже полностью придя в себя. – Это идеальный баланс солёного и сладкого. Ты просто ничего не понимаешь в высокой кухне.
– Высокая кухня, когда ты не кладёшь консервированные фрукты на сыр и тесто! Это кощунство!
Они спорили ещё минут десять, смеясь и перебивая друг друга. В этом дурацком, бессмысленном споре было больше близости и тепла, чем во всех правильных разговорах за её прошлую жизнь. Она поняла, что с ним «серьёзные разговоры» могут быть и такими, лёгкими, смешными, не ранящими.
Глава 15.
В последние дни Марина стала замечать в Александре перемены. Его привычная лёгкая ирония сменилась тихой задумчивостью. Он чаще обычного смотрел в телефон, хмурился, отвечал на звонки короткими, резкими фразами. Он не жаловался, но Марина, ставшая гораздо внимательнее не только к линиям и цветам, но и к людям, видела напряжение в его плечах, едва заметную складку между бровями. Она поняла, что игра в одни ворота, где он сильный и поддерживающий, а она слабая и нуждающаяся в опоре, закончилась. Теперь была её очередь.
Однажды вечером, когда они сидели у неё на кухне над тарелками с наскоро заказанной лапшой, он снова отвлёкся на звонок. Говорил по-английски, обсуждал какие-то поставки, разрешения, и в его голосе сквозило с трудом сдерживаемое раздражение. Закончив разговор, он с силой бросил телефон на стол и провёл рукой по волосам.
– Прости, – выдохнул он. – Бюрократия. Кажется, открыть ресторан в Нью-Йорке сложнее, чем запустить ракету на Марс. Отец был бы в восторге, он всегда говорил, что моя затея с едой, несерьёзно. «Мужики бизнесом занимаются, а не у плиты стоят», – он усмехнулся, но в этой усмешке не было веселья, только старая горечь.
Марина молча встала, подошла к нему сзади и положила руки ему на плечи, мягко разминая напряжённые мышцы. Он удивлённо поднял голову, но не сопротивлялся, наоборот, откинулся на спинку стула, прикрыв глаза.
– У тебя сильные руки, – пробормотал он.
– Я художник, – ответила она, продолжая своё дело. – А что, по-твоему, твой отец считал «серьёзным бизнесом»? Перекладывать бумажки в офисе и носить галстук, который душит?
– Примерно, – он хмыкнул. – Главное, чтобы солидно и прибыльно. А удовольствие от процесса для слабаков. Единственное светлое пятно в том доме, это когда то бабушкины пироги по воскресеньям. Она пекла такой яблочный штрудель… с корицей и орехами. Отец ворчал, что это баловство, но всё равно съедал два куска. Бабушка подмигивала мне и говорила: «Путь к сердцу любого мужчины, даже самого сердитого, лежит через тёплый пирог».
Он замолчал, и Марина почувствовала, как под её пальцами он немного расслабился. Она прекратила массаж, поцеловала его в макушку. У неё появилась одна идея.
На следующий день она отпросилась из галереи пораньше. Забежала в несколько магазинов, а потом вернулась домой и закрылась на кухне. Она не была профессиональным поваром, как Саша, но бабушкин рецепт, который она когда-то давно записала в старую тетрадку, был простым и надёжным. Она раскатывала тесто, резала яблоки, и кухня постепенно наполнялась густым, сладким ароматом корицы и печёных яблок. Это был запах не просто еды, а уюта, дома, того самого настоящего дома, о котором она ему говорила.
Вечером она позвонила ему.
– Саша, ты можешь заехать за мной? У меня для тебя сюрприз.
– Сюрприз? – в его голосе послышалось удивление. – Марин, я сегодня не в настроении…
– Просто заезжай, – повторила она мягко, но настойчиво. – Пожалуйста.
Когда он приехал, она уже ждала его на улице с большой плетёной корзиной в руках. Она молча села в машину и назвала адрес галереи.
– В галерею? Зачем? – он удивлённо посмотрел на неё.
– Увидишь. Просто вези.
В пустом, гулком зале галереи было темно. Только её росписи на стенах слабо угадывались в свете уличных фонарей. Марина достала из корзины несколько свечей, расставила их на полу, и зажгла. Мягкий, тёплый свет заплясал по стенам, превращая строительную площадку в сказочное, таинственное пространство. Затем она достала тарелки, вилки, термос с чаем и, наконец, главный экспонат, румяный, ещё тёплый яблочный штрудель.
Саша стоял посреди зала и смотрел на всё это, не в силах вымолвить ни слова.
– Это… – начала она, чувствуя, как волнение подступает к горлу. —… я подумала, что тебе нужно что-то, что пахнет домом. Настоящим домом.
Она отрезала кусок штруделя и протянула ему на тарелке. Он медленно взял его. Он посмотрел на золотистую корочку, на ароматную начинку, и Марина увидела, как его глаза увлажнились. Он сделал шаг к ней, поставил тарелку на ближайший ящик и просто притянул её к себе, крепко-крепко обнимая.
– Как ты узнала? – прошептал он, его голос дрогнул.
– Ты сам рассказал, – ответила она, обнимая его в ответ. – Я просто слушала.
Он отстранился, взял её лицо в ладони и посмотрел на неё так, как будто видел впервые. В его взгляде было столько нежности, удивления и благодарности, что у неё самой защемило сердце.
– Знаешь, – сказал он хрипло, – я всю жизнь пытался доказать отцу, что еда это серьёзно. Что это тоже бизнес, тоже искусство. А ты… ты просто показала мне, что это любовь.
Он несколько секунд молчал, а потом тихо рассмеялся, утыкаясь лбом ей в плечо. Смех был немного сдавленным, будто прорывался сквозь долго сдерживаемые эмоции. Марина почувствовала, как его плечи дрожат.
– Ну всё, не плачь, а то штукатурку на моей новой стене размочишь, – проворчала она, мягко поглаживая его по спине.
Он поднял голову, на глазах действительно блестели слёзы, но он уже улыбался.
– Это стратегические слёзы, – заявил он с максимально серьёзным видом. – Я проверяю качество твоей работы на влагоустойчивость. Пока что держится. Можешь гордиться.
Марина фыркнула и легонько стукнула его кулаком в плечо.
– Идиот. Я тут, значит, душу вкладывала, пекла, старалась, а он мне про влагоустойчивость.
– Так в этом и есть душа! – он подцепил вилкой ещё один кусочек штруделя. – По-настояшему душевные вещи должны выдерживать мужские слёзы, потопы и споры об ананасах в пицце. Это, считай, высший знак качества. Твой штрудель его прошёл. И ты тоже.
Они сидели на полу посреди её незаконченной вселенной, ели его детство и смеялись. В этом смехе не было ни игры, ни страсти. В нём было что-то гораздо большее, лёгкость и доверие. Он больше не был её спасателем, а она – его проектом по спасению. Они были просто Сашей и Мариной, которые едят пирог на полу в пустой галерее и понимают, что их собственная история только начинается.
– Значит, теперь моя очередь тебя поддерживать, пока ты воюешь со своими бюрократическими ракетами? – спросила она, убирая пустые тарелки обратно в корзину.
– Считай это нашим первым совместным проектом, – кивнул он, помогая ей. – Проект «Как не сойти с ума в Нью-Йорке». Судя по всему, у нас есть все шансы на успех.
День открытия выставки был похож на яркий, лихорадочный сон. Галерея «Перспектива» гудела, как растревоженный улей. Воздух, ещё вчера пахнувший краской и растворителем, теперь был пропитан сложным букетом дорогих духов, шампанского и едва уловимым запахом успеха. Мягкий свет софитов выхватывал из полумрака её работы, огромные, расписанные вручную панно, которые превращали холодные белые стены в живой, дышащий мир. Люди, критики в строгих очках, богемные художники в немыслимых нарядах, солидные коллекционеры перетекали из зала в зал, останавливались, прищуривались, обсуждали что-то вполголоса. И всё это было о ней. О её работе.
Марина стояла рядом с Анной, вежливо улыбалась, отвечала на вопросы и чувствовала себя немного не в своём теле. Она была одета в простое, но элегантное тёмно-синее платье, которое выгодно подчёркивало её светлые волосы. Она держала в руке бокал шампанского, но почти к нему не притрагивалась. Нервное возбуждение было сильнее любого алкоголя. К ней подходили, жали руку, говорили комплименты. Она кивала, благодарила, но внутри всё ещё жила маленькая испуганная девочка, которая боялась, что вот-сейчас кто-нибудь подойдёт и скажет: «А мы всё поняли. Вы самозванка. Уходите». Но никто не говорил. Наоборот, пожилой критик из известного арт-журнала долго рассуждал о «неожиданной глубине и лиричности её палитры», а молодая пара, владеющая сетью бутиков, уже на ходу предлагала ей новый проект.
Где-то в толпе она видела Сашу. Он стоял у дальнего окна, разговаривал с кем-то, но его глаза то и дело находили её в толпе. Он подмигивал, едва заметно улыбался, и от этих коротких, безмолвных сигналов ей становилось спокойнее. В какой-то момент, когда очередной гость начал с умным видом рассуждать о влиянии постмодернизма на её творчество, Саша поймал её взгляд и беззвучно изобразил, как тот самый гость тонет в бокале с вином. Марина едва сдержала смех, прикрыв рот рукой, и почувствовала, как напряжение отступает.
Ближе к концу вечера, когда основная волна гостей схлынула, он подошёл к ней, пока она на секунду осталась одна, разглядывая собственную работу.
– Устала? – спросил он тихо, вставая рядом.
– Немного, – призналась она. – Но это хорошая усталость. Знаешь, я всё ждала, когда кто-нибудь разоблачит мой обман.
– Какой ещё обман? – он удивлённо поднял бровь.
– Ну, тот факт, что я просто рисовала то, что чувствовала, а не то, что положено по канонам «современного искусства», – она усмехнулась. – Я всё боялась, что кто-нибудь спросит, какой «концептуальный нарратив» я заложила в этого зайца на лужайке.
Саша рассмеялся. – И что бы ты ответила?
– Сказала бы, что нарратив простой, заяц хочет морковку.
Он взял её за руку, переплетая свои пальцы с её. Его ладонь была тёплой и сильной.
– Ты видела, как они на тебя смотрели? – сказал он уже серьёзно. – Не на вдову, не на чью-то бывшую. На художника. Ты это сделала сама, Марин.
От его слов в груди разлилось тепло. Она благодарно сжала его руку.
– Шампанское, конечно, хорошо, – продолжил он, кивая в сторону бара, где всё ещё звенели бокалы, – но от него в голове туман. Пойдём прогуляемся? Нужно немного выветрить весь этот пафос.
– Пойдём, – согласилась она без колебаний.
Они тихо выскользнули из галереи, оставив за спиной приглушённый гул голосов и музыки. Ночной Нью-Йорк встретил их прохладой и россыпью огней. Улица была почти пустой, и звук их шагов отчётливо разносился в тишине. Он не отпускал её руку, и это простое прикосновение сейчас было важнее всех слов. Они шли молча, вдыхая свежий, влажный воздух.
– Знаешь, о чём я подумала там, внутри? – нарушила она тишину.
– Ну-ка?
– О том, что куплю на свой первый гонорар.
– И о чём же мечтает признанный художник? О вилле на Бали? О спортивной машине?
– Нет, – она рассмеялась. – Я куплю себе ананасовую пиццу. Огромную. Может, даже целую плантацию ананасов, чтобы тебе назло.
Саша остановился и посмотрел на неё с притворной трагедией в глазах.
– Я знал, что слава тебя испортит. Знал! Всё, наши отношения обречены. Я не могу быть с человеком, который так открыто попирает кулинарные святыни.
– Придётся смириться, – она пожала плечами, продолжая улыбаться. – Или есть свою, правильную, пиццу в гордом одиночестве.
Они шли дальше, и их лёгкий, дурашливый спор был лучшим завершением этого сложного дня. Напряжение окончательно ушло, оставив после себя только чистое, звенящее счастье. Они остановились на углу, ожидая зелёного сигнала светофора. Город жил своей жизнью, сигналили такси, спешили куда-то прохожие, из бара на другой стороне улицы доносилась музыка. Саша повернулся к ней. Шум улицы отошёл на второй план. Он смотрел на неё, и в его глазах больше не было иронии, только глубокая, тихая нежность.
– Марин, – сказал он, и его голос прозвучал как-то по-новому, – а о чём ты мечтаешь теперь? Когда не нужно больше убегать.
Она подняла на него глаза. Вопрос застал её врасплох. Она так долго жила в режиме выживания, что совсем забыла, каково это мечтать. Она смотрела на него, на огни большого города за его спиной, и впервые за много лет почувствовала, что впереди не туман, а бесконечное количество дорог. Вопрос повис в прохладном воздухе, смешиваясь с шумом далёких машин и запахом мокрого асфальта. О чём ты мечтаешь теперь? Она усмехнулась, качнув головой, и в её глазах заплясали озорные огоньки.
– Я мечтаю о диване, – заявила она с абсолютно серьёзным видом.
Саша моргнул, явно не ожидая такого ответа. – О диване?
– Да, – кивнула она с нажимом. – Об огромном, плюшевом, бессовестно дорогом диване. Чтобы на нём можно было спать, есть, рисовать, смотреть глупые фильмы и прятаться от мира. Это не просто диван, Саша, это целая крепость. Моя личная крепость уюта, которую никто не посмеет штурмовать с непрошеными советами.
Он смотрел на неё, пытаясь понять, шутит она или нет, а потом рассмеялся.
– То есть, твоя главная мечта после всего, через что ты прошла, предмет мебели?
– Это не предмет мебели, это состояние души! – с жаром возразила она, входя в раж. – А ещё я мечтаю, чтобы в холодильнике всегда был тот самый сыр, который стоит как крыло самолёта, и чтобы он никогда не заканчивался. И чтобы никто не говорил мне, что от него пахнет «старыми носками»… Но…если честно? Я мечтаю никогда в жизни больше не носить бейджик с моим именем, – заявила она с абсолютно серьёзным видом.
Саша моргнул, явно не ожидая такого ответа. – Бейджик? У тебя была работа с бейджиком?
– Хуже, – она театрально закатила глаза. – Я была консультантом в магазине косметики. Летом, на каникулах после первого курса. Мне приходилось с натянутой улыбкой говорить очень взрослым и серьёзным женщинам, что этот перламутровый-лиловый оттенок теней им «невероятно идёт», даже если они становились похожи на павлина после драки. Это был мой актёрский дебют.
Он смотрел на неё, пытаясь представить эту картину, а потом расхохотался.
– Не верю. Ты? Продавала лиловые тени?
– И убеждала, что крем от морщин за сто долларов действительно работает! – с жаром добавила она. – А у тебя что? Не говори, что ты сразу родился с серебряной ложкой во рту и бизнес-планом собственного ресторана.
– Хуже, – сказал он, и его лицо приняло такое страдальческое выражение, что она приготовилась услышать что-то страшное. – Я был ростовой куклой. Огромным хот-догом. Раздавал листовки у закусочной на окраине города.
Марина замерла. Секунду она смотрела на него, а потом её прорвало. Она расхохоталась так громко и заразительно, что несколько прохожих обернулись на них с улыбкой. Она смеялась, утирая выступившие слёзы, и не могла остановиться, представляя этого высокого, уверенного в себе мужчину в костюме сосиски в булке.
– Хот-дог?! Ты?! Нет, серьёзно? – выдохнула она, пытаясь отдышаться.
– Да. Отец решил, что мне нужно «узнать цену деньгам», отобрал карманные расходы и сказал идти работать. Я назло ему пошёл на самую дурацкую работу, которую нашёл. Он думал, я сдамся через день. А я продержался месяц. Правда, съел за этот месяц столько бесплатных хот-догов, что до сих пор смотреть на них не могу.
Она снова прыснула со смеху, запрокинув голову. И в этот момент, в свете уличных фонарей, с влажными от смеха ресницами и раскрасневшимися щеками, она была такой настоящей, такой живой и свободной. Саша молча смотрел на неё. Он не смеялся вместе с ней. Он просто смотрел, и улыбка медленно сползала с его лица, уступая место какому-то новому, глубокому и серьёзному выражению. Он понял с оглушительной ясностью, что этот смех – самый дорогой и важный звук, который он когда-либо слышал. Он понял, что хочет слышать его всегда.
Он дождался, пока волна её смеха немного утихнет, и, не отпуская её руки, тихо, но отчётливо произнёс, перекрывая шум города:
– Марин, выходи за меня замуж.
Смех оборвался на полуслове. Она замерла, её глаза, всё ещё влажные от веселья, уставились на него в полном недоумении. Она моргнула, потом ещё раз, будто пытаясь стряхнуть наваждение.
– Саша, это уже не смешно, – пробормотала она, пытаясь улыбнуться, но улыбка вышла растерянной. – Я сейчас лопну от смеха, правда. Хватит.
– Я серьёзно, – сказал он, чуть крепче сжав её руку, словно боясь, что она сейчас развернётся и убежит.
Она ожидала, что он рассмеётся в ответ, что вся эта неловкая серьёзность развеется, как дым. Но он не улыбнулся. Он только крепче сжал её ладонь, не давая вырваться, и его взгляд стал ещё глубже, ещё настойчивее. В нём не было ни капли игры.
– Я не шучу, Марин. Ни одной секунды, – сказал он тихо, и его голос, лишённый привычной иронии, прозвучал в ночной тишине оглушительно громко. – Я смотрю, как ты смеёшься, вот так, по-настоящему, и понимаю, что мы потеряли два года. Два года, пока мы могли вот так стоять на улице и спорить о всякой ерунде. Мы прошли через весь этот ад, через семью, через твои страхи, через дурацкое молчание. Я больше не хочу терять ни секунды.
Он сделал шаг ближе, и теперь между ними почти не осталось расстояния. Их дыхание смешивалось в прохладном воздухе.
– Я хочу просыпаться и видеть, как ты злишься, что я снова не так заварил чай. Хочу приносить тебе чизкейки на работу, когда ты снова забудешь пообедать. Хочу спорить с тобой о диванах и сыре до самой старости. Я хочу всю эту твою «крепость уюта», Марин. Но я хочу быть в ней вместе с тобой.
Его слова были такими простыми, такими настоящими. Он говорил не о вечной любви и звёздах с неба. Говорил обо всём том, что и делало их ими. Слёзы снова навернулись ей на глаза, но на этот раз это были слёзы не горя, а какого-то ошеломляющего, невозможного счастья. Она всё ещё смотрела на него, не в силах поверить, и рассмеялась сквозь подступившие слёзы.
– Ты… ты сумасшедший. Ты хоть понимаешь, что ты делаешь?
– Да, – кивнул он, и в его глазах появилась та самая тёплая улыбка, от которой у неё всегда замирало сердце. – Наконец-то делаю что-то абсолютно правильное.
Она больше не могла сдерживаться. Это было слишком. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, но это была она. Её правда. Её новая, выстраданная реальность.
– Да, – выдохнула она, и её голос дрогнул от сдерживаемых рыданий и смеха одновременно. – Да, Саша. Конечно, да.
В следующую секунду он уже обнимал её, подняв над землёй и закружив на месте. Она вцепилась в его плечи, смеясь и плача, и весь мир вокруг, огни города, шум машин, взгляды редких прохожих, исчез. Был только он, его тепло, его запах и оглушительное биение двух сердец в унисон. Он осторожно опустил её на землю и, взяв её лицо в ладони, поцеловал. И этот поцелуй был обещанием. Когда они наконец отстранились друг от друга, оба тяжело дышали, улыбаясь как дураки.
– Только учти, – сказала она, вытирая слёзы и пытаясь вернуть себе серьёзный вид. – Диван я всё равно выберу сама.
– Даже не сомневался, – хохотнул он. – Но за сыр будем голосовать. Я не уступлю.
Она снова рассмеялась, прижимаясь к нему. Вопрос о том, что она мечтает, отпал сам собой. Она уже держала свою мечту за руку.
Прошло три года. Три года, которые пролетели, как один бесконечный, счастливый вдох. Нью-Йорк из чужого, гудящего мегаполиса превратился в дом. Марина больше не чувствовала себя в нём гостьей. Теперь у этого города был её запах, звук её шагов, её маршруты. Весенний вечер заливал гостиную мягким, золотистым светом. На огромном, бессовестно удобном диване, Марина сидела, поджав под себя ноги. Перед ней на кофейном столике были разложены листы с эскизами, но работа давно отошла на второй план. Всё её внимание было приковано к маленькой девочке двух лет, которая с деловитым видом пыталась помочь маме, водя по чистому листу толстым фиолетовым фломастером.
– Мама, смаи, – лепетала она, показывая на свои каляки-маляки. – Это папа. Он большой.
– Очень большой, – согласилась Марина, целуя дочку в светлую макушку, пахнущую детским шампунем и печеньем. – А где у большого папы нос?
Девочка на секунду задумалась, а потом решительно ткнула фломастером в самый центр фиолетового круга.
– Вот!
Марина рассмеялась. В этом простом, залитом солнцем моменте было столько счастья, что у неё порой перехватывало дыхание. Она больше не боялась этого чувства. Она научилась в нём жить, дышать им. Её маленькая студия по оформлению витрин стала популярной в их районе, заказов было столько, что иногда приходилось отказывать. Она работала, творила, и каждый день чувствовала себя на своём месте.
Дверь щёлкнула, и в квартиру вошёл Саша. Уставший, но с улыбкой на лице. Его небольшой ресторанчик в Бруклине стал одним из тех мест, куда приходят за «настоящей едой с душой».
– Папа! – Аня тут же бросила свой шедевр и с восторженным визгом кинулась ему навстречу.
Он подхватил её на руки, закружил, и её заливистый смех наполнил всю квартиру. Он поцеловал сначала дочку, потом подошёл к Марине и поцеловал её, долго, нежно, как будто они не виделись целую вечность.
– Как прошёл день, художник? – спросил он, опуская Аню на пол.
– Плодотворно, – кивнула она. – Твой портрет теперь увековечен в фиолетовом цвете. Будешь возражать?
– Ни в коем случае. Повесим в ресторане, в рамочку. Будем говорить, что это работа модного абстракциониста.
Они рассмеялись. Но потом Марина заметила в его глазах тень. Такую же, как в те дни, когда его одолевали проблемы с рестораном. Он пытался улыбаться, но что-то его тревожило. Вечером, когда Аня уже спала в своей кроватке, обнимая плюшевого зайца, они сидели на кухне. Марина заварила чай, села напротив него и просто ждала. Она научилась не давить, а ждать, пока он сам будет готов говорить.
– Мне сегодня отец звонил, – сказал он наконец, глядя в свою чашку.
Марина замерла. За эти три года они ни разу не упоминали его семью. Это была закрытая, болезненная тема.
– Что он хотел? – спросила она осторожно.
– Он… – Саша усмехнулся, но беззлобно. – Он стареет. Сказал, что устал, что бизнес разваливается без твёрдой руки. Говорил про наследие, про то, что я единственный, кто может всё это подхватить. Он предложил мне вернуться. Принять управление компанией. Сказал, что всё простит и всё забудет.
Марина молчала, сердце сжалось от тревоги. Это было то самое искушение, тот самый призрак прошлого, который мог разрушить всё, что они так долго строили.
– И что ты ответил? – её голос был едва слышен.
Он поднял на неё глаза. В его взгляде не было ни сомнения, ни колебания.
– Я отказался.
Марина подняла голову и посмотрела на него. В его глазах была усталость, но и облегчение.
– Мне… мне жаль, что тебе снова пришлось через это проходить, – сказала она тихо. – Может быть, со временем они бы…
– Нет, – он мягко, но твёрдо прервал её. – Они не изменятся. Потому что для этого им пришлось бы признать, что они ошибались. А они никогда не ошибаются. Они просто выбирают. И они свой выбор сделали давно.
Она увидела, как его лицо стало жёстким, привычная ирония исчезла без следа.
– Я тебе никогда не рассказывал, почему на самом деле уехал, – заговорил он ровным, лишённым эмоций голосом, как человек, который слишком много раз прокручивал эту историю в голове. – Та история с монетами… это была просто детская шалость. Проверка. Первая из многих. Дима всегда так делал. Он был мастером чужих поражений.
Он отстранился, сел прямо и посмотрел куда-то в сторону.
– В школе мы оба занимались плаванием. Только у меня, в отличие от него, получалось. По-настоящему. Я был быстрее, выносливее, тренер видел во мне перспективу. А Дима… Дима был просто «старшим братом», который ходил в ту же секцию. Ему это не нравилось. Перед городским чемпионатом, от которого зависел мой переход в спортивную школу, он вдруг стал невероятно заботливым. Помогал собирать сумку, проверял, всё ли я взял. Даже очки мои протёр, сказал, «чтобы лучше видел финишную черту».








