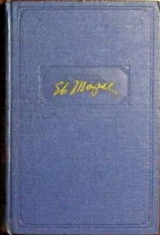
Текст книги "Сочинения в двенадцати томах. Том 1"
Автор книги: Евгений Тарле
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 65 страниц)
Взгляд Томаса Мора на отношения церкви и государства также точно пережил эволюцию, как и взгляд его на веротерпимость, и тоже под прямым воздействием континентальной реформации. Воспитанник Оксфордского университета, где живы были традиции Уиклефа, сказывается еще в «Утопии»: он не дает духовенству никакой политической роли, ничего, кроме морального авторитета; о папах и их вмешательстве в дипломатию говорится с язвительной и нескрываемой насмешкой. Но в годы канцлерства, когда уже зрел вопрос о бракоразводном процессе Генриха и его жены, когда папа круто разошелся с королем и была поставлена дилемма, кому должна принадлежать супрематия над церковью – папе или королю, Томас Мор решительно стал на сторону папы, и этот спор о супрематии привел к выяснению взгляда Томаса Мора на папу как на вселенскую высшую власть, которой должны слушаться светские владыки. Бракоразводный процесс Генриха VIII затрагивал в Томасе Море и моралиста, и католика. О разводе Томас Мор и в «Утопии» держится того принципиального мнения, что он возможен лишь при полном несогласии обеих сторон продолжать супружескую жизнь или при доказанном прелюбодеянии одного из супругов, причем в первом случае дело развода все же обставлено известными условиями и затруднениями. В процессе Генриха условий этих не было и в помине; если возможно было упрекнуть кого в прелюбодеянии, то, конечно, самого короля, и только его одного; королева в этом отношении была совершенно недоступна ни для каких клевет и укоров. Согласия своего на развод она также не давала. Генриху не нравилась старая, некрасивая жена, и он с совершенным нежеланием в чем бы то ни было себе отказывать решил оставить ее и жениться на Анне Болейн. Вся Европа превосходно это понимала, и для английского канцлера не могло быть тайной то, что делалось у него на глазах. В отношениях Томаса Мора к Анне Болейн и обнаружилось, что истинным придворным, таким, какой нужен был Генриху VIII, он не стал. Еще во время своего канцлерства, в 1530 и 1531 гг., он обнаруживал явную враждебность [315]315
См. главу I.
[Закрыть] по отношению к фаворитке короля. В 1531 г. вопрос о разводе осложнился весьма сильно гневным тоном могущественного племянника несчастной королевы, императора Карла V. Генрих VIII все же решил не останавливаться ни перед чем, несли даже папа под влиянием Карла не согласится дать развод, то расторгнуть связь с Римом. Томас Мор уже в качестве лорда-канцлера, первого сановника в государстве, должен был высказаться по вопросу о разводе и сделал это так же бесстрашно, как за 25 лет перед тем, когда, будучи юным и безвестным адвокатом, напал на всемогущего Генриха VII в парламенте [316]316
Friedmon P. Anne Boleyn, vol. I. London, 1884, стр. 129.
[Закрыть]. Изменились в Томасе Море некоторые убеждения его, но характер, равнодушие к опасностям и к смерти остались те же. Генрих VIII почему-то не сразу начал гонения, он только учредил тайный надзор за своим канцлером, так что агент императора Карла, Шапюи, не мог выбрать даже удобной минутки для вручения канцлеру письма от Карла V [317]317
Письмо Шапюи (Chapuis) к Карлу V от 2 апреля 1531 г. Friedmon Р. Цит. соч., т. I, стр. 185.
[Закрыть]. Весной 1532 г. Генрих уже явно стал обнаруживать стремление отделить английскую церковь от Рима, ограничить и подчинить духовную компетенцию епископов своей компетенции; Томас Мор подал в отставку, которая и была с полной готовностью принята королем. Случилось это 16 мая 1532 г. Вплоть до осени 1533 г. Томас Мор жил частным человеком в глубоком уединении и в явной опале. События шли своим чередом; Генрих VIII самовольно развелся с Екатериной и вступил в брак с Анной Болейн; в июне 1533 г. новая королева была коронована. Разрыв с Римом встретил много порицателей, но едва ли не еще больше приверженцев. Со времен Эдуарда III английское государство стремилось освободиться из-под панской опеки и делало это при одобрении больших народных масс, особенно в южной, центральной и восточной Англии. Экономическая эксплуатация страны папой стала невозможной уже во времена Уиклефа, но тогда же не была окончена эмансипация от моральной супрематии папства. Католическая религия в ее догматах не противоречила совести большинства, но один лишь пункт ее – папская супрематия – казался излишним и часто возбуждал ропот. В деле Генриха» опрос был лишь по-видимому церковный: папа не давал развода не потому, что он считал это нравственно несправедливым, а короля – развратным: он делал так, имея в виду сохранение дружбы Карла V, столь нужной на континенте для военной борьбы с реформацией. Следовательно, политическим соображениям выгоды престола св. Петра римский папа подчинял все свое поведение относительно развода. В глазах весьма большой части общества здесь речь шла уже не о разводе только, не о духовной, но о политической супрематии папства, что вполне противоречило национальным традициям. И вот в этой-то дилемме Томас Мор стал всецело на сторону папства, заявляющего притязания на политическую супрематию. Осенью 1533 г. по приказанию правительства была схвачена в Кенте так называемая «святая девушка» (holy maid of Kent), пророчица и юродивая, которая предсказывала королю Генриху VIII всякие ужасы за самовольный развод и неповиновение папе. Несчастную пророчицу пытали и вынудили у нее признание, что она поддерживала сношения с некоторыми знатными людьми, в том числе с Томасом Мором [318]318
Calendar of letters and papers.. of Henry VIII. ed. by J. S. Brewer, т. VI, стр. 1468.
[Закрыть]. Было найдено и письмо Томаса Мора к Елизавете Бертон (так называлась holy maid). Письмо было содержания невинного, но Генрих VIII сделал попытку уже теперь, в 1533 г., погубить Томаса Мора; он велел возбудить против Томаса Мора обвинение в государственной измене. Но обвинительный акт не прошел в палате лордов. Давая объяснения по этому делу новому лорду-канцлеру, Томас Мор оправдывался от всяких обвинений в измене. После личных объяснений с советом Томас Мор, вернувшись домой, написал длинное письмо лорду-канцлеру. Цитируем это письмо по его рукописи [319]319
Brit. Mus., Manus. Cleopatra, E. VI, f. 150 (серия «Клеопатра»).
[Закрыть], не печатая самую рукопись в приложении, несмотря на весь ее интерес, только потому, что Бриджетт уже многое (и важное) напечатал из одного ее списка [320]320
Bridgett Т. Цит. соч., стр. 243 и сл.
[Закрыть]. В этом письме Томас Мор говорит, что сам король в своей книге против Лютера настаивает на папской супрематии над всем христианством, что даже он, Мор, советовал тогда королю несколько смягчить свои выражения; что он, Мор, тем не менее теперь вполне убежден, что такая папская супрематия установлена самим богом, утверждена Евангелием и св. преданием, «установлена для избежания ересей и расколов», и существует уже тысячу лет как факт. Нигде в письме Томас Мор не обозначает рельефнее и обстоятельнее, что он понимает под супрематией папы: политическое и духовное верховенство или только духовное. Но самое свойство вопроса, из-за которого он разошелся с королем, было такого рода, что указывало на убеждение Мора в полной супрематии папы над церковью и почти в такой же мере давало повод считать его защитником и светской супрематии. Впрочем, XVI век слишком отвык от громкого провозглашения доктрин Григория VII и Бонифация VIII, и поэтому о светской супрематии Томасом Мором и не говорится ясно, а просто говорится о «papal supremacy over the Christendom»; под Christendom понимается преимущественно или даже почти исключительно совокупность христианских народов, ибо для христианства в смысле религии, церкви есть (и было в XVI в., и употреблялось в других случаях самим Мором) слово «Christianity». Мы склоняемся к мысли, что он считал законными притязания пап и на светскую супрематию, но выдать это мнение за доказанную истину не можем вследствие скудности положительных указаний.
Работа наша окончена; процесс и казнь Томаса Мора уже не вносят ничего нового в характеристику его общественных воззрений. Это чисто биографическая часть, показывающая, как силен духом был этот бывший канцлер, очутившийся после своего величия в Тауэре и на плахе; как автобиографичны были слова его в «Утопии» о неосновательности страха смерти, о том, что верующий человек конца не боится. Но есть один документ, относящийся сюда, который довольно интересен и который нигде, даже в частях своих, опубликован не был. Мы ознакомились с ним в отделе манускриптов Британского музея. Гарпсфильд писал, как он сам говорит, по личным воспоминаниям и по беседам с Ропером и близкими Мору людьми; весь рассказ его дышит глубокой жизненной правдой; он показывает, как смотрели на Томаса Мора его современники-католики и что ценили в нем даже протестанты, которых он во время канцлерства обижал. Томас Мор оставил по себе память честного и хорошего человека и, что считалось в XVI в. чуть ли не главным достоинством, ратоборца против еретиков, пожертвовавшего собой за дело веры.
30 марта 1534 г. в парламенте [321]321
Излагаем по рукописи Герпсфильда, дополняя ее рассказом Ропера.
[Закрыть] прошел и был утвержден акт, гласивший, что все знатные (nobles), как духовные, так и светские, обязаны принести присягу в том, что они будут верны наследнику престола, который родится от Анны Болейн; отказ от присяги равнялся государственной измене. Одновременно почти король заявил, что он не признает более власти «римского епископа» над английской церковью. Отказаться от этой присяги значило бесповоротно погубить себя, но Томас Мор сделал это. Он отказался от присяги и 17 апреля уже был в тюремной камере Тауэра, откуда 6 июля 1535 г., т. е. через год и два месяца с лишком тюремного заточения, был выведен на эшафот. Его обвиняли и судили за отказ от присяги будущему отпрыску королевы Анны, за несогласие с королем по вопросу о разводе с Екатериной Арагонской, за сопротивление церковной реформе. Томас Мор не оправдывался во всех этих обвинениях. «Я семь лет изучал историю церкви и утверждаю, что светский государь (temporal lord) не может быть главой какой бы то ни было церкви», – повторял он. Генрих VIII обнаружил в этом деле всю мелкую злобность и беспощадную мстительность своей души: он отобрал у подсудимого все имения, почти все имущество. Дочь Мора навещала отца в тюрьме; и она, и вся семья со слезами умоляли его помириться с королем, т. е. принести присягу, после чего его тотчас же выпустили бы. Томас Мор спокойно отвергал все доводы и даже отшучивался, называл дочь «Евой-соблазнительницей», говорил, что одни люди умрут сегодня, другие завтра и что нелепо так уже дорожить лишним днем жизни. Перед судьями он держался стойко и ни одного слова не сказал, чтобы спасти себя. Он шутил даже на эшафоте, в руках палача, умолявшего свою жертву простить его. Мор сказал несколько ласковых слов палачу и, кладя голову на плаху, произнес: «Постой, уберу бороду, ее незачем рубить, она не совершала никогда государственной измены» (it had never committed treason).
Таковы внешние факты, дорисовывающие Мора как человека твердого и искреннего до конца. Рукопись Гарпсфильда, характеризуя прекрасно моральную твердость Томаса Мора, для непосредственной темы нашей дает лишь сведения о семи годах [322]322
Manus. Harpsfield. (Brit. Mus. Harl., 6253). folio 97.
[Закрыть], проведенных Томасом Мором в серьезном изучении исторического происхождения папской власти. Но если именно это убедило его в папской супрематии, то, несомненно, он не мог не обратить внимания на учение светской супрематии, соединенной с духовной. Теократический дух Гильдебранда и Бонифация проникал все сочинения, по которым верующий католик мог в начале XVI в. изучать этот вопрос; тот же теократический дух, учение о всеобщей и единой пастве и пастыре, проникает и книгу блаженного Августина, которую он, как мы знаем, также изучал и о которой читал лекции. Это признание Мора перед судьями в том, как сложились его убеждения, также отчасти подтверждает высказанную нами гипотезу, что под papal supremacy разумеется в словах Мора супрематия и над церковью, и над государством. Геройское поведение Томаса Мора перед лицом смерти дает для нашей темы лишь одно: оно показывает, что мы вправе верить в полную искренность всех суждений Томаса Мора, что мы можем искать и находить связь между ними и между окружавшими Томаса Мора явлениями социальной среды, но что эту связь нужно всегда понимать как продукт впечатлительного и внимательного ума Томаса Мора; никогда мнения его нельзя объяснять личными интересами, считать их неискренними. И в теории, и на практике это был деятель, никого и ничего не боявшийся, даже глухой тюрьмы и смерти; поэтому и все высказываемое им есть выражение его убеждений, и только. Вот почему подробности биографии Томаса Мора сравнительно весьма мало интересны для анализа его общественных убеждений; мы не поймем идеи Томаса Мора, если закроем глаза на социально-экономическое положение Англии в начале XVI в., но мы поймем их, если даже не будем знать, что Томас Мор был английским канцлером и другом (а потом врагом) Генриха VIII. О значении «Утопии» было достаточно уже сказано выше. Добавим лишь, что в «Утопии», и только в ней одной, Томас Мор является пролагателем новых путей, творцом хозяйственного и политического идеала, главные требования которого не переставали с тех пор (и в особенности в XIX в.) переходить из поколения в поколение, от одних партий к другим, меняя оттенки, но сохраняя свой коренной смысл. В остальном – и в писаниях, и в жизни своей – Томас Мор может быть назван английским гуманистом, главным и выдающимся среди них в первую половину своей жизни, и верующим католиком в течение всей жизни. До реформации его вера носила характер мягкий, созерцательный, вдумчивый, терпимый; после взрыва реформации гуманист исчезает и перед нами католик, полагающий священный долг свой в перебранке с Лютером, в преследовании протестантов, в борьбе за супрематию папы… Припоминая надпись на могиле исторического деятеля, поддерживавшего некоторые идеи Томаса Мора спустя два века, мы можем, отделив «Утопию», сказать о воззрениях второй половины его жизни: «Вот все, что было смертного в деятельности Томаса Мора». «Утопия» во всяком случае оказалась по своему влиянию долговечнее.
1901 г.
Английская годовщина
1827–1902
К СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ
Джорджа Каннинга
1
Не нова уже фраза, что Европа переживает в настоящее время «исторические будни». С точки зрения обществоведа эта фраза не имеет ровно никакого значения, ибо понятие о «буднях» и «праздниках» в истории всегда должно иметь чрезвычайно условный и главное субъективный смысл. Да и кроме того, огромные массы в каждом народе остаются за вычетом весьма редких мгновений, слишком безучастными к быстрой смене впечатлений, среди которых живет более культурная и больше о себе говорящая часть нации. Кажутся ли тому или иному слою этой более культурной части народа впечатления исторической действительности праздничными или будничными, или погребальными, до всего этого народным массам нет никакого дела: у них своя жизнь, свои воззрения, свои более инертные и медленнее раскачиваемые мысли и чувства. Но фраза о «буднях» понятна, и быть может, законна в другом отношении: в одни эпохи умственно-передовые слои общества живее, более захватывающе переживают современную им историю; она предстает перед ними в резких очертаниях, ярких картинах, покоряющих фантазию образах; в другие эпохи общественным слоям историческая действительность представляется на самом деле в виде долгого серенького осеннего дня, без солнца, без грозы и без особенно развлекающих ум дурных ли, хороших ли происшествий. Только в этом узком, условном и, пожалуй, сословном смысле и возможно толковать о любой исторической эпохе как о буднях или небуднях. Несомненно одно: давно уже пульс исторической жизни западноевропейских народов не выбивал таких сравнительно равномерных ударов, как в конце XIX и начале XX в., и никакое самочувствие, всегда по существу своему субъективное, не может нагляднее установить эту истину, нежели общий взгляд на события минувшего столетия, сравнение быстроты темпа исторической жизни в первые три четверти столетия с быстротой темпа за последнее двадцатипятилетие. Целый мир политической, научной и философской мысли, художественного творчества, ожесточеннейшая борьба между расами, между классами, между континентами – все это осталось за Европой в ближайшем ее прошлом. Много было передумано и сделало, много выдвинулось ярких и сильных представителей мысли и дела, чувства и расчета, обороны и нападения. XIX век был веком замечательных индивидуальностей, появившихся в количестве, удивительном даже по сравнению с предыдущим столетием, и в этом смысле действительно почти весь он был сплошным «праздником», а не буднями. «Как ярилась, как кипела, как пылала, как гремела здесь народная война в страшный день Бородина», – говорил Жуковский, вспоминая среди засеянного поля, как там «бомбы падали дождем, и земля тряслась кругом». То, что переживал поэт своим творческим воображением, встает пред всяким знакомящимся с историческими фактами недавнего европейского прошлого – без участия фантазии, из книг, из мемуаров, из всех «человеческих документов», оставленных этим прошлым. Забытые и памятные деятели снова оживают, опять борются, делают преступления и подвиги, жертвуют своей и чужой жизнью, устраивают бойни, интригуют, мечтают, раскаиваются, убивают и крадут, молятся и богохульствуют, пытают и сентиментальничают. Крупные характеры, быстрые умы, обширные замыслы, дерзкие начинания, яркие поступки, много всего этого видела Европа в близком своем прошлом. Но человек, сошедший с мировой арены 75 лет тому назад, среди этих крупных характеров; и быстрых умов занимает весьма определенное место, которое с ним разделяют в истории XIX века очень немногие: он правил одной из могущественнейших стран мира в самую сумеречную эпоху всеевропейской реакции и пользовался своей властью и силой не на пользу угнетателей, а на пользу угнетенных; в годы, когда Меттерних и его друзья с пренебрежительной насмешкой говорили о безусых университетских мальчишках, являющихся единственными противниками их мудрой и здравой политики, этот человек стал в некоторых отношениях на сторону безусых университетских мальчишек; пушечные жерла первого в мире флота по одному мановению его руки готовы были заговорить в унисон с прятавшимися и гонимыми на континенте «преступными фантазерами», по крайней мере по целому ряду весьма важных вопросов; в краткий момент своего могущества он сделал свою политику во многом материализацией протеста против меттерниховщины, протеста, бессильного и робкого в других местах.
За долгие годы, за всю эпоху, окончившуюся июльской революцией, политика Джорджа Каннинга была ответной пощечиной многим и на многое. Он сошел в могилу в расцвете душевных сил, находясь в апогее власти и влияния, успев осуществить далеко не все, что можно было бы ожидать впоследствии. Но моральное значение этой фигуры уже по тому не должно быть забыто, что история вовсе не избаловала Европу подобными явлениями. Его помянут, верно, теплым словом в Португалии, в Испании, а также в Южной Америке, в Греции, освобождению которых он так сильно содействовал; к России он такого прямого и непосредственного отношения не имел [1]1
О его отказе выдать Н. И. Тургенева см. стр. 290.
[Закрыть], но пусть уже эти несколько слов, которые мы хотим посвятить его памяти, будут оправданы хоть тем соображением, что в годы деятельности и смерти Каннинга и Греция, и романские события оказывались не совсем чуждыми в наиболее отдаленных от них широтах: самый национальный и великий русский поэт не раз обращался мыслью к местам, где «воскресла древних греков слава», и повествовал о том, как «сказали раз царю, что, наконец, мятежный вождь Риего был удавлен…» Испанские, южноамериканские, греческие интересы являлись тогда во многих отношениях космополитическими уже потому, что объединяли передовые слои европейского общества сочувствием к борющимся за освобождение. Быть может, хоть вследствие этого не следует совершенно обойти молчанием годовщину смерти одного из замечательнейших пушкинских современников…
2
Джордж Каннинг родился в апреле 1770 г. в семье, весьма бедной (хотя и довольно известной и старинной). По смерти отца мать его добывала семье (Джордж был еще маленьким) средства к жизни службой в театре в качестве актрисы. Впрочем, судьба скоро ей улыбнулась, и Джордж попал на счет своего богатого дяди в итонскую школу, традиционное учебное заведение для наследников богатых и аристократических домов Великобритании. В этом училище процветала, конечно, розга в самых обширных размерах, но были и свои хорошие стороны: не особенно обременяли головы старым латино-греческим грамматическим хламом, входившим в программы, поощряли развивавшийся между школьниками дух товарищества, учителя и туторы были лишены всякого карьеризма и сопутствующих этой черте качеств. В общем заботились чрезвычайно много о физическом здоровье, о выработке того, что англичане называют virility – мужественного характера, думали и о манерах будущих светских людей и членов парламента.
Каннинг по окончании курса в Итоне перешел в Оксфордский университет, где сблизился с блестящей молодежью, готовившейся выступить на политическое поприще. В кружках этой молодежи часто происходили пирушки и товарищеские собрания, на которых говорились речи, устраивалось нечто вроде словесных турниров, пародировались парламентские заседания. Все это имело вид и смысл не совсем шутки, не совсем игры: старые лорды и министры охотно преклоняли свой слух, когда им рассказывали о подрастающем поколении и выдающихся среди него ораторских талантах. И виги, и тори были заинтересованы в том, чтобы их кадры пополнялись новыми, свежими силами; главари обеих партий, имевшие в своем распоряжении довольно много мест в нижней палате (ввиду находившейся еще в полной силе системы «гнилых местечек»), были, естественно, поглощены желанием видеть на этих местах действительных себе помощников, ораторов и деятелей, а не тяжеловесных сельских дворян, которые, правда, безропотно подавали свой голос, куда приказано патроном, но от которых до смешного невозможно было ожидать мало-мальски активной поддержки. Лидер оппозиции, так же как первый министр, всегда мог заставить выбрать в палату общин в том или ином округе нужного кандидата, и гнетущий вопрос был, собственно, в людях, в новых ораторских талантах и политических умах. Оттого-то каждый новый выпуск Оксфордского или Кембриджского университетов чрезвычайно интересовал обе «великие партии». Едва Джордж Каннинг окончил университетский курс и стал готовить себя к юридической карьере, как Вильям Питт, первый министр, через общих знакомых пригласил к себе юношу и предложил ему баллотироваться в палату общин, обещая свое полное содействие при выборах. Каннинг согласился и в 1793 г. 23 лет от роду стал членом парламента.
Политическая жизнь Каннинга началась, и началась в весьма тревожное время. Террор, бушевавший во Франции, налагал свою печать на политику всех европейских стран, и внутреннюю и внешнюю. Консервативный кабинет Вильяма Питта был всемогущ внутри страны, но страшный враг стоял перед ним за Ламаншем. Революция вдвойне была ненавистна тогдашним правящим кругами Англии: во-первых, они почти в той же мере, как и континентальные правительства, боялись ее заразительности, того, что мятеж перекинется через пролив, во-вторых, Конвент и революционеры грозили им постоянной войной, нападениями на море, высадкой в Ирландии, убийством проживающих во Франции английских купцов и т. д. Угрюмые и важные старики, промолчавшие всю свою жизнь в палате лордов, волновались каждым известием, приходившим из Парижа, так же сильно, как сельские джентльмены палаты общин. Происходило нечто, смутно напоминающее то моральное состояние, которое было названо у нас «дворянской хандрой» и при котором иные помещики, расстроенные слухами об эмансипации, а потом и ее последствиями, готовы были в каждом нагрубившем лакее видеть «пугачевского эмиссара». В конце концов «французская язва» оказалась несравненно менее прилипчивой, нежели это сразу могло показаться, но в годину террора число сторонников непримиримого врага Франции, Вильяма Питта, росло чуть не с каждым днем. Но таких людей, как Джордж Каннинг, по-видимому, отталкивали от очень немногих друзей Франции не столько демократический характер революции, не «заразительность» ее принципов, сколько страшные размеры кровопролития, свирепость Конвента, обилие и немотивированность казней. В первые годы своего пребывания в парламенте Каннинг мало выступал в качестве оратора: его дебют на ораторском поприще оказался неудачен, и это, вероятно, имело довольно обескураживающее влияние на молодого человека. Но Вильям Питт не терял из виду своего протеже; он редко ошибался в людях и не ошибся также на этот раз. С 1797 г. Каннинг принял чрезвычайно живое участие в политическом журнале «Антиякобинец», имевшем целью, как показывает самое название, бороться путем стихотворной и прозаической сатиры с идеями, одушевлявшими крайнюю фракцию французских революционеров. По мере того как росли военные успехи сначала Конвента, потом Директории, вражда к Франции принимала в правящих английских кругах особенно острый характер, и журнал, в котором сотрудничал Каннинг, быстро создал молодому писателю репутацию талантливого и остроумного памфлетиста. Почти одновременно с сотрудничеством в «Антиякобинце» Каннинг довольно неожиданно для всех был назначен Вильямом Питтом на пост товарища министра иностранных дел (помощника статс-секретаря по иностранным делам). Блестящая светская жизнь со всеми ее удовольствиями открылась перед двадцатисемилетним товарищем министра. Каннинг был салонным львом, признанным и почитаемым; он был строен, хорош собой, с прекрасными живыми глазами, в обществе отличался остроумием и той быстротой такта, которая является характерной чертой этого человека от начала до конца его карьеры. Ему подражали, его bons mots повторялись с упоением, и когда угловатые, неказистые снаружи и роскошные внутри дворцы лондонской знати горели сотнями свечных люстр, карета Каннинга неизменно красовалась у подъезда, потому что ни один истинно фешенебельный бал без него не обходился. А нужно сказать, что в эти годы, до парламентской реформы, вся власть над страной, все влияние в парламенте принадлежали олигархии – маленькой кучке знатных семейств, сажавших кого угодно в нижнюю палату и заполнявших самолично палату лордов; иметь успех в свете значило, даже не косвенно, а в самом прямом смысле, приближаться быстрыми шагами к первым государственным постам; «важные старики, обсыпанные пудрой и нюхательным табаком», на берегах Темзы еще больше, чем в иных местах, приглядывались к молодежи, блиставшей в танцевальных залах и за ломберными столами, и намечали из ее среды себе помощников и преемников. Здесь, в Англии, это делалось более непосредственно: олигархия тут была сама властительницей, а не только обладательницей влияния, нужного для «протекции». Молодой товарищ министра уже был героем нескольких сезонов, когда начался болезненный катаклизм, временно прервавший дальнейшее развитие его карьеры. Этот катаклизм, отозвавшийся на всем государственном организме, исходил, как и следовало ожидать, из Ирландии.
Ирландцы не переставали волноваться с самого начала 90-х годов. Георг III, все заметнее и заметнее приближавшийся к окончательному помешательству, с обычным своим раздражительным упорством усиливал англиканскую реакцию на несчастном острове, вопреки намерениям и желаниям Вильяма Питта. Не потому Питт стремился успокоить Ирландию, что она хоть в малой степени возбуждала в нем сострадание, но он ясно видел то, что отказывался видеть полусумасшедший король: французы уже вошли в прямые переговоры с ирландскими патриотами, и их высадка в Ирландии грозила серьезной бедой английскому королевству. С 1797–1798 гг. в Ирландии начались кровавые волнения, только потому достаточно не поддержанные французской Директорией, что не было свободных войск; отборная армия отплыла с Бонапартом в Египет, и в Ирландию возможно было послать лишь маленький отряд. Восстание было усмирено самым варварским образом: англичане казнили без разбора всех, казавшихся им опасными людьми [2]2
Насчет воспоминаний об этой репрессии см. наш очерк «Чарльз Парнель» вначале.
[Закрыть]. Но Питт был слишком уже раздражен против Георга III по поводу этого бунта, хотя и окончившегося «унией» Ирландии и Англии и уничтожением ирландского парламента, но столь некстати вызванного королем и его единомышленниками. К тому же Питт уже около пяти раз заставлял парламент давать королю деньги, на которые тот не имел прав, якобы для уплаты долгов, а на самом деле для безграничного и беспрерывного кутежа и разврата королевских принцев. Теперь, в 1801 г… предвиделась необходимость в шестой раз просить для короля этих денег. Были и еще причины, коренившиеся уже в делах внешней политики, почему Вильям Питт счел благоразумным на время уйти от власти. Вместе с Питтом ушел и Каннинг; за несколько месяцев до отставки он увенчал светскую карьеру свою женитьбой на одной из самых блестящих красавиц лондонской аристократии – леди Джен Скотт, принесшей ему, кроме родства с знатнейшими домами Англии, приданое в 100 тысяч фунтов стерлингов.
Воплощенное политическое ничтожество, сэр Аддингтон, сменил Питта; Каннинг стал по отношению к новому кабинету в резко враждебные отношения. Более нежели когда-либо Каннингу казалось необходимым поддерживать войну против Франции, против Наполеона, а новый кабинет склонялся к миру, и мир действительно в 1802 г. был заключен. Каннинг громил кабинет за его трусость, нерешительность, отсутствие определенных планов. С полным беспристрастием этот ненавистник Наполеона ставил в пример первого консула своим противникам, аддингтоновским министрам. «Взгляните на Францию, – вскричал он однажды в парламенте, – что сделало ее тем, чем вы ее видите? Один человек! Вы скажете мне, что она была велика, могущественна, крепка еще до бонапартовского управления, что он нашел в ней великие физические и моральные средства и что ему нужно было только ими распорядиться. Правильно, но он и распорядился ими. Сравните положение, в котором он застал Францию, с положением, из которого он ее возвысил. Я не панегирист Бонапарта, но я же могу закрыть глаза на все превосходство его талантов…» Общим выводом из всех заявлений Каннинга в это время было то, что необходимо вернуть Питта к власти, что Аддингтон в качестве противника первого французского консула до курьеза не на своем месте.
Вскоре (в 1803 г.) амьенский мир был расторгнут, и Наполеон начал деятельно готовиться к высадке на английские берега. Когда в булонском лагере стали сосредоточиваться огромные силы и боевые припасы, паника в Англии была так сильна, что без особых усилий оппозиции министерство Аддингтона пало, и Питт снова стал во главе кабинета, а Каннинг одним из деятельнейших его помощников; из всех членов министерства 1804 г., последнего министерства Вильяма Питта, никто не мог бы с таким основанием назваться правой рукой премьера, как Каннинг. Именно в это-то свое последнее пребывание у власти Питт и оказал неоценимую услугу своей родине, сбросив путем ловких дипломатических маневров и денежных подачек все бремя войны на руки континентальных держав: пока Наполеон бил австрийцев и русских, разорял Австрию и расчленял Германию, Англия наслаждалась полной безопасностью. Но как ни был энергичен, дальнозорок и умен Вильям Питт, он не мог предвидеть такого страшного, такого полного разгрома коалиции, как тот, что произошел при Ульме и на полях Аустерлица, и неожиданность несчастья была смертельным ударом для бодрого духом, но больного физически премьера. 2 декабря 1805 г. Наполеон выиграл аустерлицкое сражение, а через 7 недель, 23 января 1806 г., Вильям Питт скончался. В кабинете Фокса и Гренвиля Каннинг участвовать не мог вследствие неприязни к вигам, вошедшим в министерство, и весь этот страшный для континентальной Европы 1806 год провел в рядах оппозиции. Наполеон уничтожил все прусские армии, занял Варшаву, произошли уже кровавые его битвы с русскими при Пултуске и Эйлау, а министерство Гренвиля (Фокс умер спустя несколько месяцев по вступлении в должность) ровно ничего не предпринимало, чтобы хоть немного компенсировать всю тяжесть этих блестящих наполеоновских успехов. Кабинет пал с внешней стороны как будто вследствие несогласия с парламентом и королем по вопросу об эмансипации католиков, а на самом деле из-за того же, из-за чего и Аддингтон принужден был в свое время уступить место Вильяму Питту: грозные проблемы внешней политики, борьба с Наполеоном требовали снова более энергичного руководителя делами, нежели Гренвиль. Весной 1807 г. герцог Портленд образовал торийский кабинет, в котором Каннинг стал министром иностранных дел, лорд Кестльри – военным министром, а первым лордом адмиралтейства – Мельгрев. Особенно крупной роли Каннинг здесь не играл, ибо Мельгрев, Кестльри и Портленд фактически заправляли всей иностранной политикой. После тильзитского мира, отдавшего почти всю Европу либо во власть, либо под прямое влияние Наполеона, кабинет Портленда решился на то отчаянное предприятие, которое даже в английской исторической литературе особой хвалы себе не снискало: под влиянием угроз всесильного на континенте Наполеона Дания не решалась примкнуть к Англии, как требовал этого английский кабинет. И вот в глубокой тайне была снаряжена морская экспедиция против Дании, и Копенгаген подвергся страшной бомбардировке, снесшей прочь несколько улиц и перебившей около двух тысяч мирных граждан. Справедливость требует заметить, что варварство и разбойничий характер этого происшествия зависели в значительной степени от общей нервной напряженности исторического момента: континентальная система грозила вконец разорить Англию, Наполеон неимоверно усилился, все перед ним трепетало; Россия, единственная независимая великая держава, вошла в тесный оборонительный и наступательный союз с французским императором, словом, все складывалось так, что англичане могли со дня на день ожидать нового булонского лагеря, начала новых сборов Наполеона к завоеванию непокорного острова. «Кто не с нами, тот с Наполеоном», – вот какого принципа (недалекого, впрочем, от истины) придерживался кабинет Портленда и Кестльри.








