Мне скучно без Довлатова
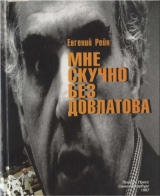
Текст книги "Мне скучно без Довлатова"
Автор книги: Евгений Рейн
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
ВЕРМЕЕР
А. Кушнеру
Я говорю: «Марсель,
вот Александр Великий».
И мы глядим отсель
на Дельфт, почти безликий,
поскольку он теперь
Вермеера творенье,
и нам открыта дверь
в одно столпотворенье.

А. Кушнер, Е. Рейн.
Все так же желт фасад,
и гнилостны каналы,
но триста лет назад
все кануло в анналы
и сведено на нет,
запродано навечно
за несколько монет
(искусство бессердечно).
Ну, что ты, Александр?
Ведь ты об этом грезил,
не ватник, не скафандр —
тебе достался блейзер.
И у меня такой,
повяжем общий галстук
и за другой рекой
зальем за общий галстук.
Как хорошо одним,
без жен и без дивчины,
напиться в синий дым,
три дня не брить щетины.
Вот встретимся с тобой
у Гроба мы Господня,
но не играй судьбой,
судьба по сути сводня.
Она сводила нас на
Среднем и на Малом,
она водила нас
по общим бредням шалым,
к Ахматовой вела,
в пучину Петроградской.
«Такие вот дела», —
сказал бы призрак датский.
Еще и Колизей,
и Вырица, и Нальчик.
Как тихо без друзей!
Ты понимаешь, мальчик?
* * *
В отеле «Виллидж» на канале,
где антикварный магазин,
мы как-то переночевали,
я и приятель мой один.
Он звался Кейсом, милым «фейсом»
привлек немало важных дам,
и по голландским плоским весям
мы с ним явились в Амстердам.
И тотчас он меня забросил,
скупал гашиш и героин,
и я один пять суток прожил,
совсем один, совсем один.
Скучал, играл на биллиарде,
пил пиво и голландский джин,
и пробовал бродить по карте,
совсем один, совсем один.
Я побывал у антиквара,
что первый занимал этаж,
и столько было там товара,
что впал я в безутешный раж.
Здесь были Гойя и Вермеер,
и Клод Моне и Эдуард,
но я все миллионы мерил
на биллиард, на биллиард.
Почем в Москве-то ныне Гойя?
А К. Моне, а Э. Мане?
Но никогда не знать покоя,
играя в «пирамидку», мне.
Поскольку этот стол, и лампа,
и световой над нею нимб
талантом одного голландца
уже попали на Олимп.
Что мне чужие натюрморты,
(я отдал Эрмитажу дань),
когда за столик на три морды
приносят в баре финшампань.
Поскольку ночью Кейс вернулся
и с ним прелестница одна,
он к героину повернулся,
но к рейнвейну – она.
И я остался с этой дамой
и объяснил ей, как умел,
что здесь сокрыт музейный самый
Ватто, Пуссен и Рюисдел.
Но только выпив финшампани
и вкусы исказив в душе,
я объяснил ей, что в шалмане
чтят Фрагонара и Буше.
И наконец, она согласна,
Буше ей тоже по душе,
и это было так прекрасно,
но только кончилось уже.
* * *
«Мы жили рядом. Два огромных дома
в столице этой брошенной и ныне
считающейся центром областным…»
Автоцитата это. Что ж такого?
Пожалуй, это слишком бестолково…
Но как-то надо мне начать, и это
совсем не худший способ. Два секрета —
мы жили рядом, но худая слава
водила нас налево и направо,
мы были незнакомы десять лет,
и только домовой наш комитет
сводил нас вместе возле паспортистки
по поводу квартплаты и прописки.
Ну да, нам было восемнадцать лет.
И это первый и простой секрет.
Второй был посложнее (даже слишком),
загадочный, когда своим мыслишкам
я предаюсь, то некий ужас первобытный
встает во мне, печальный и обидный.
Ее я помню резвой пионеркой,
потом одну, потом с подругой Веркой,
потом в кампашке дерзких пареньков.
Все ерунда. Не ерунда Линьков.
Он тут же жил на улице Разъезжей,
но словно обитатель побережий,
где меловые скалы и Кале…
А впрочем, первый парень на селе.
Блондин с фигурой легкого атлета,
он где-то проводил за летом лето,
в каких-то альпинистских лагерях,
где, впрочем, возмужал, а не зачах.
Он был уже студентом Техноложки,
куда на «двойке» ездил на подножке
и, изгибаясь, словно дискобол,
как уголовник мелко наколол
татуировку «Ася»…
О, сильный довод, истое причастье…
Профессорский сынок, а не шпана,
он этим чувство доказал сполна.
Он был вознагражден, как мне казалось,
но мне-то что, и все же прикасалась
ко мне при встрече истинная страсть…
Я школу кончил и однажды – шасть
в Москву на кинофакультет особый
и – поступил. И сразу стал особой.
«Москва, Москва, как много…» Но чего?
Теперь не понимаю ничего.
И вот на пятом курсе практикантом
я прикатил на берега Невы,
отмеченный сомнительным талантом,
конечно, сноб и с ног до головы
повязанный московской раскадровкой,
цедящий томно: «Эйзенштейн, Ромм…»
Но в общем одинокий и неловкий.
Нас было мало. Только вчетвером
мы вышли на опасную дорогу.
Четверка развалилась. Слава Богу!
Один уехал в глупую Канаду,
другой патриархии секретарь,
пробрался третий быстро за ограду
чего-то непонятного, в алтарь,
а может, в казино, а может просто
в избу за Аппалачами свою.
Все отболело, раны и короста,
я не о них, об Асе говорю…
«И я поднимаюсь на сто второй этаж,
там буги-вуги лабает джаз,
Москва, Калуга, Лос-Анжелос
объединились в один колхоз,
колхозный сторож Абрам Ильич
в защиту мира толкает спич…»
А в общем, братцы, этаж шестой,
я не женатый, я холостой,
зачем же ехать так высоко,
когда на первом кабак «Садко».
Но нам играет Сэм Гельфанд сам,
и мед и пиво нам по усам.
Там Бакаютов, там Карташов,
там так уютно, так хорошо.
Но там бывают Дымок, Стальной,
там Мотя с финкой и там Нарком,
ни слова больше об остальном,
уже мильтоны висят на нем.
Они изящны, они добры,
«Казбек» предложат и «Честерфильд».
И сам я думал так до поры…
Все ныне память и неликвид.
Предпочитаю этаж шестой,
оттуда виден пейзаж пустой,
и на вершину такой горы
ежевечерне мы до поры
таскаемся и – хошь не хошь,
но там просаживаем всякий грош.
Там удивительный прейскурант,
и там у каждого свой приз и ранг,
и коль не вышел на ранг Линьков,
то первый приз ему всегда готов.
Он удивителен, на нем пиджак
из серой замши, на нем нейлон,
и до чего же он не дурак,
всегда сидит он у двух колонн,
Викуля, Люля и Ася с ним,
никто не смеет к ним подойти,
Нарком, напившийся в лютый дым,
и то сворачивает с полпути.
И нам играют «Двадцатый век»,
и нам насвистывают «Караван»,
и смотрит из-за припухших век
Дымок Серега, он трезв – не пьян.
Однажды он подошел к столу
и Асю вызвал на рок-н-ролл,
и долго-долго он на полу
сидел и в угол к себе ушел.
И я бывал там, и я бывал
с приятной девочкой в табачной мгле,
и столик рядом с ним занимал
и с ним раскланивался навеселе.
И он мне вежливо кивал в ответ…
И вот однажды я пришел и – нет,
мне нету места, мой занят стол,
четыре финна за ним сидят,
четыре финна в бутыль глядят,
и я, обиженный, почти ушел.
Ну, что поделашь, финн – это финн,
он здесь хозяин, он господин,
куда мне деться, куда пойти,
шумит суббота и крайний час,
плати тут или же не плати,
администрация не за вас.
И поднимается тогда Линьков
и говорит мне: «Я вас прошу
в наш балаганчик и в наш альков,
я приглашаю вас, я так скажу…»
В четыре ночи на островах,
где свадьбу празднует «поплавок»,
Линьков на дружеских ко всем правах
глядит загадочно в потолок.
Гуляет свадьбу Семен Стальной,
через четыре года – расстрел,
а нынче гости стоят стеной,
и говорят ему «вери велл».
И млечный медленно ползет рассвет…
Где моя спутница и где Линьков?
Ну, что же, ладно, раз нет – так нет,
но Ася рядом, обмен готов.
Тем более, что у Пяти Углов
мы проживаем, она и я.
Тут все понятно, не надо слов,
и так составилась судьба моя.
На этом свете все неспроста,
недаром комната моя пуста,
недаром в этот вечер Стальной
мне подарил свой галстук «Диор»,
рассвет июньской голубизной
вползает в мрачный глубокий двор…
* * *
Давай уедем.
Давай, давай!
Куда угодно,
за самый край!
На самый краешек?
Он где? Он где?
Наставим рожки
своей судьбе!
Вокзал Балтийский,
купе СВ,
а настроение —
так себе.
Какие улочки!
О, Кадриорг!
Какие булочки!
Восторг! Восторг!
Стоишь у ратуши
(поддельный хлам),
и все же рад уже —
что здесь, не там.
Что пахнет Балтикой,
а не Москвой,
и даже практикой
чуть-чуть морской.
На рейде тральщики
и крейсера,
вот это правильная
красота.
Как я любил тебя,
о, флот, о, флот!
И гюйсы легкие
вразлет, вразлет.

Т. Бек.
И от дредноута
до катерка
моя бредовая
с тобой тоска.
Возьмите, братики,
меня с собой,
на этой Балтике
я свой, я свой.
Сейчас голландочку
приобрету
и буду ленточку
держать во рту.
Захватим Данию
и Скагеррак,
есть в Копенгагене
один кабак…
Я был там, братики,
там все о'кей.
Мы встретим в Арктике
грозу морей.
Там на корме у них
«Джек Юнион»,
эскадра строится
из двух колонн.
Вода холодная,
торпедный ад,
они из Лондона,
и – победят.
Гляди в историю,
кто прав, кто нет,
у Ахиллеса был
венок побед.
Но помнит Гектора
подлунный мир,
и Гектор брат ему,
его кумир.
Победа – проигрыш,
вот, в чем вопрос!
И это сказано
почти всерьез…
* * *
Забавно, что наша свадьба
на том «поплавке» состоялась,
где свадьба была Стального,
где рядом сидел Линьков.
Но только гостей немного,
родственников штук двенадцать,
да Асины три подруги,
пятерка моих друзей.
О трех уже говорилось,
об одном я скажу позднее,
а пятый был самый лучший,
и теперь он лежит в земле…
Все было в большом порядке:
икорка и осетрина,
и киевские котлеты,
и сам салат «оливье».
А пили «посольскую» водку,
шампанское полусухое,
а девочки – «ркацители»,
под кофе – коньяк «Ереван»…
Но было все это недолго,
в двенадцать мы были дома,
и я подарил невесте
(невесте или жене?)
колечко с приличным рубином
(я беден был,
что тут поделать?),
и все же оно тянуло
семьсот тех давних рублей.
Она не взяла колечко,
она раскурила «Уинстон»,
она мне сказала тихо:
«Так вышло, я ухожу».
Я вовсе не удивился,
мне что-то уже показалось,
последние дни невеста
была возбужденно-грустна.
Я что-то предчувствовал вроде
подвоха и катастрофы,
и все же я грубо крикнул:
«Ты что, с ума сошла, почему?»
Она собирала вещи,
укладывала чемоданы,
ведь она уже натащила
косметику и гардероб.
«Такси мне вызови, милый.
А это возьми на память», —
и тут она протянула
бумажник сафьяновый мне.
Весьма дорогую вещицу
с серебряными уголками,
с особым секретным замочком
и надписью «Мистер Картье».
И он у меня сохранился,
конечно, чуть-чуть поистерся,
но думаю, этот бумажник
переживет и меня.
«Скажи мне что-нибудь, Ася…» —
«Ты знаешь, сейчас невозможно…
А завтра с утра тебе я
подробно все напишу…»
И тут загремела трубка,
подъехал таксомоторчик,
и я чемоданы покорно
с шестого спустил этажа.
И только под свежим небом
питерского июня
так долго и одиноко
торчал у наших ворот.
Потом я вспомнил – за шкафом
стоит бутылка «посольской»,
тогда я поднялся обратно
и шторы плотно закрыл…
* * *
«Что за шум, что за гам-тарарам?
Кто там ходит по рукам, по ногам?
Машинистке нашей Ниночке Каплан
Коллективом подарили барабан».
Я услышал этой песенки куплет,
на углу в «Национале» двадцать лет,
что там двадцать – тридцать лет тому назад,
и вернулся он опять ко мне назад.
Мы сидели впятером за столом,
были Старостин, Горохов и Роом,
выпив двести или триста коньяка,
сам Олеша пел, валял дурака.
И припомнил я дурацкие слова,
когда к Асе на прощанье заглянул,
мы не виделись три года или два,
а письмо ее, как видно, черт слизнул.
Боже мой, какой восторг, какой кагал,
в тесной комнате персон пятьдесят,
и любой из них котомки собирал
в край, где флаг так звездно-синь-полосат.
Но уж я им никакой не судья,
просто было страшновато чуть-чуть,
и хотелось мне, потемки засветя,
лет хоть на десять вперед заглянуть.
Так и вышло, тот, кто здесь был гвоздем,
тот и там за океаном не пропал.
Тот, кто здесь махал угодливо хвостом,
там он хвостик пуще прежнего поджал.
Впрочем, что об этом я могу сказать?
Не за тем я затесался в тот кружок.
– Ты письмо мне собиралась написать.
– Разве ты не получил его, дружок?
– Ври, да меру знай – прощаемся навек.
– В этом деле меры нету, ты не знал?
– Что Линьков? Вот это да, человек.
Я всегда к нему симпатию питал.
– Он в Дубне, уже он член-корреспондент,
наша жизнь не состоялась, я виной.
Обожди-ка на один всего момент,
или лучше – рано утром, в выходной,
приходи перед отлетом и письмо
ты получишь. Я храню его, храню.
– Ах, какое же ты все-таки дерьмо!
Я подумаю, быть может, позвоню.
– Позвони… – Теперь, пожалуй, мне пора.
До свиданья, эмигранты, бон вояж!
Постоял я, покурил среди двора,
где шумел, гремел светящийся этаж.
* * *
«Нет в мире разных душ,
И времени в нем нет…»
Пожалуй, ты не прав,
классический поэт.
Все-все судьба хранит,
а что – не разгадать.
И все же нас манит
тех строчек благодать.
А время – вот оно,
погасшие огни,
густая седина и долгая печаль.
Ушедшие на дно десятилетья, дни,
и вечная небес рассветная эмаль.
А время – вот оно, беспутный сын-студент,
любовница твоя – ей восемнадцать лет.
А время – вот оно, всего один момент,
но все уже прошло – вот времени секрет.
И все еще стоят вокруг твои дворцы,
Фонтанка и Нева, бульварное кольцо,
у времени всегда короткие концы,
у времени всегда высокое крыльцо.
Не надо спорить с ним – какая ерунда!
Быть может, Бунин прав —
но смысл совсем в ином.
Я понимаю так, что время – не беда,
и будет время: все о времени поймем.
* * *
Всю жизнь я пробродил по этим вот следам,
и наконец-то я уехал в Амстердам,
всего на десять дней, командировка, чушь!
Но и она – успех для наших бедных душ.
И всякий день бывал на Ватерлоо я,
поскольку этот торг и есть душа моя,
я – барахольщик, я – любитель вторсырья,
что мне куда милей людишек и зверья.
О, Ватерлоо, о, души моей кумир!
Ты Илиада, ты – и Гектор и Омир!
Тебя нельзя пройти, ты долог, что Китай,
послушай, погоди, мне что-нибудь продай.
Жидомасонский знак, башмак и граммофон,
то чучело продай, оно – почти грифон,

Б. Ахмадулина, Е. Рейн. Роттердам. 1990
продай подшивку мне журнала «На посту»,
о, вознеси меня в такую высоту!
Продай цилиндр и фрак, манишку и трико,
и станет мне опять свободно и легко,
как было там тогда на Лиговке моей,
вы просто берега двух слившихся морей.
На Лиговке стоит пятидесятый год,
и там душа моя по-прежнему живет,
там нету ничего, на Ватерлоо – есть,
поэтому привет Голландии и честь.
Гуляет Амстердам, и красные огни
мерцают по ночам, забудь и помни
ты, лучший городок, в котором я бывал,
там я пропасть бы мог, но видишь – не пропал.
И вот в последний раз зашел я в Рейксмузей,
и стал бродить-гулять по залам, ротозей,
и вдруг – остолбенел – какая ерунда!
Здесь Ася на холсте, вот это да – так да!
Здесь у окна ее Вермеер написал,
но диво – кто ему детали подсказал?
Такой воротничок, надбровную дугу!
Но дальше я – молчок, ни слова, ни гу-гу.
Что Вена, что Париж, Венеция и Рим?
Езжай-ка в Амстердам, потом поговорим.
* * *
Покуда «BMW» накатывает мили,
скажи, моя судьба, тебя не подменили?
Лети, моя судьба, туда на Купертино,
какая у друзей хорошая машина!
Какой стоит денек, какая жизнь в запасе!
Выходит на порог не кто-нибудь, но Ася.
Вот скромненький ее домок в два миллиона,
и легкий ветерок породы Аквилона.
Скользит рассветный час по нашим старым лицам…
Что Купертино нам, туда, скорей к столицам,
Лос-Анжелес дымит, сверкает Сан-Франциско,
пространство – динамит, а время – это риска,
которой поделен бикфордов шнур судьбины,
какие у друзей хорошие машины!
Неужто ты ведешь свой кадиллак вишневый,
неужто Данте – это я, а ты Вергилий новый?
А впрочем, это так, а впрочем, так и надо.
Виват, мой кавардак, победа и блокада.
Все это ничего. Ни спазма, ни азарта,
и вот взамен всего – ухмылка Леонардо.
Но как тебя сумел так написать Вермеер?
Изобразить судьбу, твое письмо и веер?
Загадочный чертеж на этой старой стенке,
и разгадать твои загадки и расценки?
Что ты читаешь там? Свое письмо? Чужое?
На белом свете нас осталось только двое.
– Отдай мое письмо! Оно в твоем портфеле.
Настал тот самый час, и то, что в самом деле
случилось, расскажи. Мне надо знать сегодня,
какая нас свела и разлучила сводня.
Отдай мое письмо за коньяком, за пуншем,
обвязано тесьмой оно в портфеле лучшем,
да, я нашел его, меня навел Вермеер,
верни мне жизнь мою, ведь я тебе поверил.
Так почему его не бросила ты в ящик?
Предательский твой дух и был всегда образчик
фатальной ерунды, пророческой промашки —
за все мои труды – две узкие бумажки!
Теперь они со мной. Я пьян, пойду до спальни.
О, Боже, Боже мой, все небеса печальны
над Римом, над Москвой, над Фриско,
Амстердамом,
над худшею пивной, над лучшим рестораном.
Теперь прощай навек, пора в Нью-Йорк,
в Чикаго,
вези меня скорей, удача и отвага,
в бумажнике моем лежит твоя разгадка,
как страшен окоем, в Детройте пересадка.
* * *
Надо бы это прочесть немедля,
но отчего так долго я размышляю
и отчего мне не хочется из сафьяна
вытащить два этих листика узких?
Где мой пиджак и за пазухой там бумажник?
Но отчего я засунул пиджак в багажник?
Лучше посмотрим фильм «Голубой бархат»,
что нам прокрутят на боинге невесомом.
Лучше посмотрим свежий журнал «Хаслер»,
поговорим со студенткой-американкой,
ей Горбачев нравится: «О, пэрэстройка!»
Да я и сам с нею вполне согласен.
Вот поднесут чай ледяной «Липтон»,
вот подадут персик калифорнийский,
вот и закончили фильм «Голубой бархат»,
начали «Барсалино», что с Аль Пачино.
Вот и Нью-Йорк, а там дела, выступленья,
Бродский, Довлатов, Ефимов, Каплан, Рабинович,
Люда Штерн, Козловский и Лубенецкий,
пусть полежат в кармане два этих узких листочка…
* * *
Боинг на боинг, кирпич на кирпич,
о поднебесья Эйнштейнова дичь!
Девять часов от Москвы и – Нью-Йорк,
Вулворт на Вулворт, Мосторг на Мосторг.
Джину и тонику низкий поклон,
вот надо мною летит Парфенон.
Но говорит стюардесса: «Друзья!
Больше лететь нам на полюс нельзя.
Нет керосина, посадка сейчас.
Будьте спокойны, команда при вас».
Где мы садимся? Нью-Фаундленд тут,
сорок, быть может, посадка минут.
Бог его знает, Нью-Фаундленд что —
остров, пролив или вовсе ничто?
То ли колония, то ли страна,
впрочем, уже под ногами она.
Мы вылетали – кипел реомюр,
вышли на холод – какой-то сумбур.
Это Нью-Фаундленд, впрочем, пойдем,
веет в лицо ленинградским дождем.
Градусов восемь, а может быть – пять,
как бы до бара скорей доскакать.
В барах повсюду один образец,
бар нам и мама, но бар и отец.
Строго и чинно, светло и умно,
виски и вина, а нам все равно.
Пиво бельгийское, даже сакэ,
знать, не останемся мы налегке.
Вспомни, что было, подумай, что есть.
«Сущее – в разуме», слово и честь
этому Гегелю, вот человек
Фридрих был Гегель. Должно быть, абрек,
или, быть может, батыр и джигит,
кто его знает, он так знаменит.
Если бы Гегель явился сейчас,
я бы в минуту бумажник растряс,
дай-ка, товарищ, тебя угощу,
дай-ка тебе мою жизнь освещу.
Что это было? Туман и обман?
Что мне ответишь, ума великан?
Мне тебя нужно о чем-то спросить,
только осталось коньяк пропустить.
Слушай-ка, Гегель, скажи мне, дружок,
этот бумажник мне душу прожег.
Вот эти два заповедных листа,
а в остальном моя совесть чиста.
Гегель глядит на мое портмоне,
серый туман в трехэтажном окне.
Вынул письмо я и Гегелю дал.
Гегель читал его, долго читал.
Взял он потом зажигалку «Крокет»,
нежно мерцал переливчатый свет,
эти листы он угрюмо поджег,
пепел кружился, ложился у ног.
Что же ты, Гегель, да ты хулиган!
Впрочем, наполним последний стакан,
нас вызывают уже в самолет,
Гегель выходит в мужской туалет,
в баре совсем затемняется свет.
Что же ты, Гегель Владимир Ильич,
камень на камень, кирпич на кирпич.
* * *
И бледнеет Отчизна,
точно штемпель письма.
Предпоследние числа —
вот уж голубизна.
Что нам пишут – туманно,
и ответ – невесом.
И помечен он странно
небывалым числом.
Глянь-ка в ящик почтовый,
узкий вызов – на дне.
Синий и кумачовый
флаг кипит в стороне.
Налетай же воздушный
многоярусный флот,
ты почтарь простодушный,
бедной жизни оплот.
Пусть читают до света,
забывают, клянут,
жизни хватит, а нету
двух, пожалуй, минут.
* * *
Северный полюс, проталины, лед,
что же так низко идет самолет?
Может, авария? Нет, пронесло.
Вот и в Москве наступает число.
Нового Времени, новых разрух,
переведи-ка свой «Роллекс» и дух.
Вот Шереметьевский ржавый утиль.
Здесь моя сказка, и здесь моя быль.
Тридцать ушло в нее ровно годков,
что же сказать мне, порядок таков.
Жизнь – это жизнь. А любовь есть
любовь.
Кровь – это кровь. А морковь есть
морковь.
Есть еще новь и свекровь – но таков
вечный порядок, к нему я готов.
Ежели надо тут что объяснять,
значит, не надо совсем объяснять.
В будущей жизни увидимся, друг,
может быть, будет нам там недосуг,
снова вернуться к старинным делам,
будем гулять там, курить фимиам,
вот вылезают из брюха шасси,
Боже, помилуй нас всех и спаси,
темные тени над бедной Москвой,
что за печальный пейзаж городской,
кончено, кончено, финиш, финал,
все, что имел я, уже потерял.
Дождик осенний затылок сечет,
что миновало – уже не в зачет.
Что наше прошлое – свет и туман.
Истое, ложное – это генплан.
Что по генплану построим, друзья?
Знать это нам невозможно, нельзя.
Истина – вот – и ясна и проста.
Возле такси подставляет уста
то, что случилось, – всегда навсегда,
наша победа и наша беда.
Наше единое счастье впотьмах,
наши ботинки в наших домах,
наши котлеты на нашей плите…
Гегель лежит в ледяной темноте.
Мы пребываем в низине земли,
слушай, товарищ, гляди и внемли,
ты обручен с этой жизнью одной,
с ней ты повязан, чужой и родной,
крепкие цепи на наших руках,
в этом вертепе – все счастье, все прах.
Так позабудь тот заветный листок,
Гегель его, как ты видел, поджег,
утро в Нью-Йорке, а вечер в Москве,
все мы подвешены на волоске.
Днем в Амстердаме покой, благодать,
я вам советую там побывать.
Я вам советую как-то домой
взять и вернуться под ваш выходной,
скинуть ботинки и лечь на диван,
все остальное мираж и обман.
Книгу открыть, поглядеть на жену,
штору задернуть, остаться в плену.
Это мне Гегель в том баре сказал,
то же он в старых трудах написал.
Камень на камень, кирпич на кирпич,
Гегель, мой Гегель, Владимир Ильич.
1990








