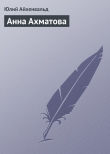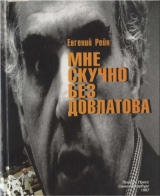
Текст книги "Мне скучно без Довлатова"
Автор книги: Евгений Рейн
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
ГОЛОСА
Однажды летней ночью в Ленинграде
я ночевал в Михайловском театре,
сейчас, как это было, объясню:
в ту пору у меня кипела дружба
с одной девицей со второго курса
графического факультета ЛХА.
Другой ее дружок был декоратор
того, что называют Малым театром,
вернее – главный декоратор был.
На чердаке огромном двухэтажном
отлично помещались мастерские,
впервые я все это увидал.
Был день рождения – кого, не помню,
и праздновался он довольно крепко,
бутылки две на гостя было там.
И как-то вдруг не по себе мне стало,
я не хотел их отвлекать от пьянки
и просто перешел в соседний зал.
И там прилег на груду декораций,
по-моему, «Ундины», и заснул.
Когда проснулся, все уже ушли.
Я дверь потрогал – заперто, и прочно.
Что делать? Было страшно в этом зале,
какие-то балетные фигуры, казалось мне,
бродили в полумраке.
Уйти, уйти немедленно отсюда!
И это оказалось очень просто —
я вылез из открытого окна
на крышу театральную и, прежде
чем вниз спуститься лестницей пожарной,

Б. Ахмадулина и Б. Окуджава. 1973.
увидел сверху спящий Ленинград.
Отель «Европа» и канал, и Невский,
дом Виельгорского – все было на ладони,
и желтый дом – великий наш музей,
и музыкальное большое зданье,
посередине статуэтка – Пушкин,
как будто бы приятно сделал ручкой
народу и чего-то говорил.
Но было очень тихо, очень тихо…
Я с высоты увидел и громаду
того, что изваял артист Паоло,
кусок огромного литого битюга
и шапку императора кастрюлей,
он за музеем во дворе стоял.
А в общем, некуда спешить мне было —
куда ты денешься в такую рань?
И я присел на самом крае крыши
и закурил. И тут подумал я,
что эта площадь – главная в России,
тут Пушкин, император и отель,
где жили все, где был чердак отписан
под ресторан и назывался «крышей»
и был доступен небольшой ценой.
В те времена, когда я инженером
служил на Охте на плохом заводе
и пробовал прожить своим пером,
мы часто эту крышу посещали,
сдавали складчину официанту —
уж он-то знал, какую надо водку
на эти деньги и закуски чуть,
и сам все делал. Мы и не вникали.
Я помню всех – Каплан и Беломлинский
с женою Викой, Пизя-музыкант,
фарцовщики Арнольд и Бакаютов,
фотограф Поляков и юный Бродский,
Банчковская-красавица и Ася —
звезда, потом Довлатова жена.
И кто-нибудь еще – не в этом дело,
а дело в том, что точно подо мной
в подвале императорского театра
располагалася «Бродячая собака»,
закрытая в пятнадцатом году,
а там бывали те, кто там бывали.
Так я сидел, глазел, и понемногу
послышались какие-то гудки,
прошел автобус первый к островам,
и почему-то вдруг заржала лошадь,
быть может, в цирке – он недалеко.
Потом опять все стихло, постепенно
возобновился звук, и с этим звуком
я различил неясный разговор,
как будто бы он шел со всех сторон,
кто это говорил? Я поначалу
совсем не понял, и виолончель
звучала из Дворянского собранья:
«Я вам оставил дивную страну,
безмерную от Выборга до Кушки,
от устья Енисея до Тифлиса,
что сделали вы с этою страной?» —
«Ах, государь, прошел великий Рим,
и миновал Египет фараонов, Аттила
и Чингиз, и Тамерлан. Остановилось время.
Мы проходим».

В. Ерофеев. Москва 1982. Фото А. Кривомазова.
«Вот так твоя империя прошла,
твой сын над этим очень постарался,
потом два демона со Спасской башни,
потом два олуха и мелкота.
Об этом ли сегодня надо думать?
Пусть выживут, а веселы уж будут.
Оптимистичный у тебя народ,
и пересилит все его характер,
пусть только он идет своим путем,
его сбивать не надо, он доверчив
и презирает власть, готов вручить
ее кому угодно – нате жрите,
а нам оставьте водку и труды.
Народ хороший, верь мне, государь…»
Кто это говорит, я удивился
до обморока, потому что Пушкин
как будто бы рукой мне помахал,
чего с похмелья, право, не увидишь,
да, верно, показалось! Смолкло все,
пока искал я в пачке «Беломора»
последнюю, должно быть, папироску,
опять послышалося что-то из другого
конца пространства, как из подворотни:
«Два года я уланом воевал и видел смерть,
и конную атаку, и принимал германскую шрапнель,
потом очнулся возле Монпарнаса,
где проживала Синяя Звезда,
и было так приятно ранним днем
позавтракать горячим круасаном,
зачем же я вернулся в Петроград?
Так много дела было у меня —
кружки и лекции, романы и интриги,
четырехстопный ямб мне надоел,
его хотел я заменить пэоном,
но не успел…» И снова тишина.
Из этой тишины другой сказал:
«Ах, будет то, что будет, надо жить,
брести Таврическим и Летним садом,
ходить в кинематограф, пить вино,
влюбляться, если есть в кого влюбляться,
писать стихи у жизни на полях,
бренчать под вечер на рояле старом,
любить друзей, а недругов прощать». —
«Ну, нет, – ему ответил чей-то голос, —
закисли вы на башенке своей,
мы эту жизнь развалим на куски
и раскроим отсюда до Камчатки,
перевернем вверх дном и оглушим.
Я лично оглушу всемирным басом,
потом увижу дальние края —
Америку, Европу, океаны —
в большом нарядном зале под квадригой
и Аполлоном я прочту поэму —
и будет мне внимать народный вождь.
Ну, а потом…» – и как-то он запнулся.
«Ну, что вы, молодой вы человек, —
ему ответил тенорок упрямый, —
ну, что вы, не грозите кулаком,
стихи пишите, есть у вас талант,
а это ведь единственная новость,
как мне сказал соперник из Москвы.
Не зарывайте в землю ваш талант.
О, сколько же на свете есть всего» —

В. Некрасов, Г. Евтушенко, А. Межиров, Е. Некрасова.
«скворцов немецких, мудрых перекличка,
французских петухов „кукареку“
и итальянские заливистые трели,
и Альбиона клекот соколиный —
заслушаешься… Но умейте слушать,
не заглушайте пенья этих птиц.
Я все отдам за эти переборы,
и все возьмут, должно быть, у меня —
табак народный – „Беломорканал“
дурной струей ворвался мне в нутро…»
Закашлялся он вдруг и задохнулся,
и оборвался голос и затих.
«Пора, пожалуй, вниз, – подумал я. —
Уже не рано, мне откроют двери».
И только я на лестницу ступил
пожарную, сходившую во дворик,
как снова наваждение пришло:
«Должно быть, всякий прав из вас, друзья,
так Бог задумал – всякому свое,
а мне бессонница и ожиданье,»

М. Синельников. Москва. 1984.
«как долго мне придется в жизни ждать
богатства, сына, сицилийских лавров,
вот только слава сразу поспешит,
но что такое слава? Он сказал,
что слава – это яркая заплата,
а рубище, оно всегда при мне.
Ускорим шаг, нас ждут в подвале нашем…»
По ржавым перекладинам непрочным
я вниз полез. И вдруг: «Остановись, —
мне новый голос ясно приказал,
он шел уже как будто с высоты:
Остановись», – я в небо поглядел,
в родное утреннее небо Ленинграда.
«Я бросил это небо, как? зачем?
Другое небо было больше, выше,
расцвечено сверкающим неоном
и вспышками „люфтганзы“ и „панам“,
и я теперь живу на этом небе,
а было мне неплохо на земле
какой угодно, пермской и эстонской,
американской, да и на родной.
Я много походил по ней тяжелым»

А. Межиров, Л. Темин, Е. Рейн.
«аршинным шагом, бормоча свое,
но я хотел бы все-таки вернуться,
ну, хоть сейчас… компания большая,
достойная меня бы приняла,
и наконец бы мы поговорили.
Столь многое хотелось мне узнать,
а тут чужие люди, в этом небе,
у них свои заботы – как у всех».
Был этот голос мне знаком отлично,
я слушал бы его еще, еще,
но тут вступил еще один приятель,
он мне когда-то продавал носки
нейлоновые, звался он Альбертом
и жаловался вроде на судьбу:
«Ну, что хотел я? Одевать людей
в шузню и джинсы, в „штатские“ [12]12
От «США».
[Закрыть]рубашки,
из них предпочитая „батн-даун“,
в британские породистые кепки
и в итальянский трудоемкий шелк,
в бостон двубортный, в шелест кашемира,
в норвежские с оленем свитера.
Они меня за это расстреляли,
я голым лег в могилу, и она
была запахана. Несправедливо.
Ну, как теперь я на суде не вашем,
а другом, судье предстану,
где я возьму меня достойный „сьют“
и прочее. Вот в чем вопрос, и Гамлет
со мною не поделится плащом.
Он скряга, этот Гамлет, хоть учен».
«Ну, это полный бред», – подумал я.
И тут как раз последняя ступенька,
и спрыгнул я на дворовой асфальт.
Когда я вышел на канал, уже
был белый день, бежали дети в школу,
какой-то «форин» расспросил меня,
где здесь отель, я объяснил ему,
но сам не понял ни того, что было,
ни настоящего, ни будущих времен.
МИШКА НА СЕВЕРЕ
В давние годы на Н-ской киностудии снимался фильм «Полярная охота». Интересную роль в этом фильме должен был играть белый медведь. Должен – значит надо достать. Для кино в те годы не было ничего невозможного. Достали белого медведя, и он неплохо сыграл свою роль.
Но съемки закончились, и хорошо оплаченный белый медведь попал на баланс киностудии. Списать его было невозможно. Его надо было кормить и где-то содержать. На киностудии решили и эту задачу. Медведя перевезли в Ленинград и поместили в зоопарк, но на правах имущества киностудии. И больше это никого не касалось, кроме бухгалтера киностудии.
О медведе скоро забыли, и так прошел целый год. Сумма, в которую влетел отечественному киноискусству белый медведь, астрономически выросла. И это бы ничего, но на киностудии прошел верный слух, что близится московская тотальная ревизия. И перед дирекцией вопрос белого медведя встал ребром. Ясно было, что московскую ревизию полярный иждивенец, мягко говоря, удивит. И принято было разумное решение белого медведя как-то оправдать коммерчески, то есть задействовать его еще в какой-нибудь выдающейся кинокартине.
Директор вызвал одного из постоянных сценаристов студии и объяснил ему сложившуюся ситуацию.
– Вот тебе договор, можешь получить аванс. Что же касается будущего фильма, то себе это мыслю как эксцентрическую комедию в оптимистическом ключе, – сказал директор сценаристу.
После слов об авансе сценарист живо поддержал идею директора и уже на другой день уехал в Дом творчества кинематографистов в Репино сочинять комедию «Мишка на севере».
В те времена в кино все делалось долго. Прошла ревизия, ей предъявили договор на будущую кинокомедию. Медведя утвердили, и дела пошли своим чередом. Писался и утверждался сценарий, подбирались актеры, выбиралась натура. И наконец наступил долгожданный первый съемочный день.
В этот первый день медведь уже должен был предстать перед камерой, при этом все вдруг вспомнили о медведе, который неожиданно из иждивенца превратился в кормильца. Ему были куплены в студийном буфете гостинцы и не забыта бутылка шампанского, разбитием которой о край медвежьего вольера следовало отметить начало съемок.
По дороге к зоосаду все с симпатией говорили о медведе и жалели, что никто его так долго не навещал и он провел столько времени вне коллектива киностудии.
И вот транспорт кино въехал на территорию зоосада. После легкого митинга у проходной режиссер вспомнил, что съемочная смена уже началась и, скрывая смущение, спросил у директора:
– А где, простите за забывчивость, наш медведь?
И директор повел его в глубину зоопарка.
Что произошло дальше, передать абсолютно невозможно, ибо я не обладаю пером Николая Васильевича Гоголя. Дело в том, что в вольере оказался не полярный, белый, а обыкновенный среднерусский бурый медведь. И это означало, что кинокомедия о приключениях белого медведя на севере отменяется.
Героиня фильма, известная в прошлом балерина, совершенно откровенно в голос по-бабьи запричитала, оператор стал рассуждать в том смысле, что с помощью особой цветовой гаммы он может попытаться спасти не белую природу этого персонажа. Отношение к медведю менялось на глазах. Никого он уже не умилял, наоборот, вызывал раздражение. Как получилось, что он из белого стал бурым, где его подменили? Директор зоопарка вмешался со словами, что у него есть белый медведь и он может предоставить его для съемок, но директор фильма сказал, что это явится нарушением финансовой дисциплины. Снимать надо именно этого медведя, как балансовую собственность студии.
И все-таки эта трагедия закончилась на оптимистической ноте. Дело в том, что среди присутствующих киноработников находился и автор сценария, и он сказал решительное слово. Он понял, что судьба этой немалой группы людей зависит сейчас только от него.
– Братцы, – обратился он к коллегам, – давайте все-таки разобьем шампанское и будем считать, что съемки начались. Я сейчас же на такси еду в Репино и в три дня переделываю белого медведя на бурого, а вы пока снимайте какой-нибудь эпизод без медведя. Короче говоря, сейчас пятница, а в понедельник ждите меня с новым вариантом. Только пусть мне за это дополнительно заплатят, а то я ничего делать не буду.
На этом и порешили. И отправились к побережью Финского залива снимать лирическую сцену без медведя.
И тут наступает естественный конец истории, и надо отметить только одну психологическую деталь – это изменение отношения к медведю. На прощание ни единого доброго слова ему сказано не было, гостинцы ему так и не отдали, полагая, что после съемок на побережье они пригодятся в виде легкой закуски, а одна женщина-помреж даже бросила в бурого медведя яблочный огрызок.
И это подтверждает искреннюю мысль автора о том, что мы с явной несимпатией относимся к объекту наших неприятностей, совершенно не считаясь с тем, виноват этот объект в них или нет. Есть неприятности – есть неприязнь. Остальное, анализ ситуации нас не заботит. И это, очевидно, уходит в глубину времени и не скоро окончится, хотя, возможно, лет через пятьсот-шестьсот, прогресс преодолеет и это.
БЮСТ РАБОТЫ МУХИНОЙ
Я давно хотел написать о розыгрышах. Сколько таланта, энергии, сообразительности ушло на эти странные шутки, порой безобидные, а порой и очень жестокие. Я даже коллекционировал рассказы о розыгрышах, но действительно гениальным розыгрышем был только один.
В тридцатые годы жил в Ленинграде преуспевающий драматург Щеглов. Его пьеса «Пурга» шла чуть ли не в шестистах театрах, и по законам тех лет Щеглов собирал весьма солидные деньги. И это, естественно, раздражало его коллег и товарищей.
В ту пору в Ленинграде резвилась компания весельчаков – Стенич, Алексей Толстой и ныне забытый историк Яков Давидович. Вот они и задумали наказать Щеглова за его большие заработки.
Через подставного человека они позвонили ему и сообщили следующее.
– По завещанию Максима Горького в Москве организуется Музей современной литературы. Там будет отдел драматургии. Естественно, там будет и ваш стенд. Мы мыслим его так: на стенах фотографии ваши пьесы в самых разных постановках, затем витрина – в ней под стеклом ваши черновики, издания, личные вещи. Но изюминка экспозиции – это ваш бронзовый бюст в центре зала. Мы могли бы заказать его и сами, но вам виднее в смысле выбора скульптора, близкого вам по творческому методу. Деньги у нас неограничены, любая цена, назначенная скульптором, вас смущать не должна. Закажите бюст по собственному вкусу, оплатите работу, возьмите расписку у автора скульптуры. Мы вам через три месяца позвоним, вернем деньги, а бюст заберем в Москву.
И Щеглов так ценил свой талант и успех, что во все это поверил. И он в своей гордыни и безумии заказал бюст Вере Мухиной, в те времена первому скульптору страны и заплатил ей, что называется, сполна.
Через три месяца бюст был готов, и Щеглов перевез его к себе на дачу в Сестрорецк.
А вскоре в его городской квартире раздался звонок.
– Говорят из Музея советской литературы, мы насчет бюста для нашей экспозиции.
– Бюст готов, находится у меня на даче.
– Очень хорошо. В эту субботу мы перевозим ленинградские материалы в Москву, в «Красной стреле» мы погружаем все экспонаты в вагон номер одиннадцать.
Номер вагона был рассчитан так, чтобы он находился перед окном вокзального ресторана. В час отхода поезда вся веселая компания собралась в ресторане. За пятнадцать минут до третьего звонка на платформе появился Щеглов. За ним носильщик вез тележку, на которой стоял бюст, бережно укутанный в одеяло. Щеглов гордо подошел к проводнику одиннадцатого вагона и поинтересовался, где находятся представители литературного музея. Проводник развел руками.

Сообразительный Щеглов через минуту догадался, что его жестоко разыграли. Компания в вокзальном ресторане удовлетворенно хохотала, глядя на всю эту действительно потешную сцену. «Красная стрела» отправилась в Москву, а все участники этой истории с сознанием выполненного долга разошлись кто куда.
Щеглов вместе с бюстом отправился к себе на дачу в Сестрорецк и водрузил мухинское произведение посреди цветочной клумбы.
И, казалось бы, все, розыгрыш удался, но история уготовила ему, я бы сказал, метафизическое продолжение.
22 июня 1941 года началась Отечественная война. Через несколько недель немцы уже были под Ленинградом, и началась подготовка города к обороне. Щеглов, как ценный литературный кадр, вывозился в эвакуацию, и перед отъездом он задумался о судьбе бюста. Все-таки это была художественная ценность. Во-первых, в смысле модели, и во-вторых, все-таки в смысле исполнения. И тогда перед отъездом в эвакуацию он отвез бюст в музей и сдал его на хранение. А сам уехал в Ташкент.
Прошли долгие годы. Ни одна живая душа, даже среди специалистов, не знает, кто такой Щеглов и что за пьеса его сочинения «Пурга», но его бюст работы великой Веры Мухиной находится в экспозиции музея, где я его и видел собственными глазами. И получается, что Щеглов все-таки остался в нашей художественной жизни и истории. Жестокие шутники, разыгравшие и, выражаясь сегодняшним языком, «кинувшие» его на немалую сумму, оказали ему по сути невероятную услугу. Они одарили его бессмертием.
ФАЛЬШИВАЯ ПЕЧАТЬ
У знаменитого художника И. И., ныне уже вполне остепенившегося человека, было пять жен. Первая – Стелла, известная балерина, имя которой и сейчас гремит по всему миру. Потом он женился просто на красавице по имени Валя.
Удивительно, что Стелла и Валя необычайно тепло и нежно дружили и даже довольно часто выпивали вместе. Кроме того, обе они были заядлыми автомобилистками. И иногда казалось, что автомобили интересуют их гораздо больше, чем семейная жизнь с И. И.
Надо сказать, что все трое были люди неформальные и большого значения всякому казуистическому бюрократизму не придавали. Так и получилось, что И. И. разошелся со Стеллой, стал мужем Вали и, по сути, был единственным в этой триаде, кто позаботился проставить соответствующие отметки в своих документах. Иными словами, Стелла, получив развод, напрочь забыла поставить в паспорте штамп, удостоверяющий ее свободу.
И вот однажды наступила внезапная московская весна, и Стелла и Валя почувствовали, что они больше не могут томиться в душном городе. Решено было немедленно выехать к Черному морю в поселок Коктебель.
Сказано – сделано. Правда, в автомобиле «Волга», принадлежащем Вале, не было лобового стекла, но девушки на такую мелочь внимания не обратили и немедленно отправились в дорогу. По пути они немного выпивали, настроение было отличное, и так они доехали до города Харькова, где ГАИ все-таки обратило внимание на удивительную «Волгу» без лобового стекла. Машина была остановлена, и у них потребовали документы, в том числе и паспорта.
Лейтенант, просматривавший всю эту документацию, неожиданно обнаружил, что перед ним две жены одного и того же человека. «Аферистки! – мелькнуло в мозгу у лейтенанта. – Немедленно задержать!» И обе наши героини оказались в харьковской милиции.
Там они попытались объяснить, кто они такие и ссылались на авторитет И. И., что особенно раздражало милиционеров, ибо слава и положение И. И. в эти годы возвышались над страной как гора Эверест. Но в конце концов все это показалось милиционерам все-таки забавным, и они дозвонились в Москву до И. И.
– Поймали двух авантюристок, – сообщили они подобострастно всесветской знаменитости, – выдают себя за ваших жен, поставили себе в паспорта фальшивые печати и нарушают правила дорожного движения.
– Кто такие? – нервно поинтересовался И. И.
– Да вот некие Стелла и Валя.
– Это действительно мои жены, – последовал ответ.
Тут милиционеры поняли, что они переборщили и им тоже надо оправдываться.
– А почему машина была без лобового стекла, да и в смысле трезвости имеются нарушения? – уже мирным голосом спросили они.
– Что поделаешь!? – только и ответил наш герой.
– Приезжайте за ними, – был подан мудрый совет. – Только уж, пожалуйста, на исправной машине.
И. И. пришлось сесть за руль своего «Москвича» и двинуться в сторону Харькова.
К этому времени Стелла и Валя уже успели подружиться с милиционерами, и те даже вставили лобовое стекло в их нежно-изумрудную «Волгу». Не бесплатно, конечно, но все-таки. А появление И. И. в милиции было и вовсе отмечено всеобщим бокалом шампанского. И далее уже все втроем они проследовали в благословенный Коктебель, где жил, как известно, старинный поэт и художник Максимилиан Волошин, мало в чем уступавший всемирной знаменитости И. И.