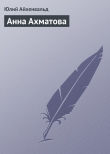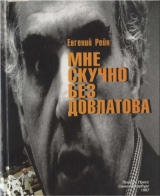
Текст книги "Мне скучно без Довлатова"
Автор книги: Евгений Рейн
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
КТО ТАКИЕ ЕВРЕИ?
Шестнадцать лет я ждал издания первого сборника своих стихотворений. Сначала книга томилась в Ленинградском отделении «Советского писателя». Затем – в Московском. Потом она пробилась в печать, но тут я опубликовался в альманахе «Метрополь», и книга по этому поводу из плана издательства вылетела.
Так я и пребывал в сорок семь лет поэтом, не издавшим еще ни одной книги.
Пока книга моя лежала в Московском издательстве, я раз или два в году навещал ее и пробивался в кабинет человека, который ведал там стихами. Это был колоритный тип. Основным качеством его была хитрость, которую он слегка маскировал беседами на всякие вполне практические и убогие темы, выдаваемые им с философским и даже с метафизическим оттенком.

Е. Рейн за рабочим столом.
Сам он был известен двумя или тремя бессмысленно длинными поэмами (никогда я не встречал человека, прочитавшего эти поэмы), за кои и удостоился благополучно Ленинской премии.
Эти визиты мои к нему никогда не превышали десяти минут и неизменно оканчивались мудрым советом.
– Рейн, не становись раньше времени профессионалом.
А мне уже настукало сорок семь годков.
Потом автор километровых поэм пошел на повышение, переселился в новый кабинет, – уже в особняке Союза писателей, и на некоторое время я лишился его благодушных и абсолютно никчемных советов.
Но книгу стихов я все-таки должен был издать.
Без этого было непонятно, что вообще делать на белом свете.
Никто не мог мне помочь, хотя несколько весьма известных поэтов изрядно хлопотали в этом направлении. Реальная власть была только у автора упоминавшихся нескончаемых поэм. И я направился в его новый кабинет. Он был куда шикарней прежнего, с предбанником, двумя секретаршами, селекторным устройством. Стоял жаркий, кажется, июльский день.
Хозяин кабинета встретил меня странновато, как бы давая понять, что я появился чрезвычайно вовремя, словно в ответ на его было скучновато в этом кабинете, то ли ему именно сейчас нужна была аудитория для очередного «метафизического» опуса.
– А, Рейн, рад тебя видеть, – начал он и тут же нажал на невидимую кнопку. Явилась пышнотелая секретарша. – Ко мне никого полчаса не пускать, и отключите селектор.
Я хотел что-нибудь сказать ему о шести положительных рецензиях на мою книгу, но он даже не дал мне открыть рта. Попросту он опередил меня.
– Рейн, – начал он, – я тут возил делегацию в Израиль. Две недели там были: Иерусалим, всякое такое, Голгофа, Вифлеем. Вот приехал и думаю. Хочу, понимаешь, внутренне убедиться.
Ходил я, понимаешь, к этой, как его, Стене Плача, и все сам наблюдал. И хочу я задать тебе один важный вопрос. Только ты не таись, отвечай в лоб и откровенно.
Какая-то интуиция подсказала мне, что от этой минуты многое в моем деле будет зависеть, ибо хозяин кабинета так высоко забрался, что может позволить себе легкое отступление от правил игры, а именно, наконец-то издать мою многострадальную книжечку.
– Я слушаю вас, – сказал я несколько напряженно.
– Ответь мне, Рейн, кто такие евреи? – и он замолчал, вопреки своей привычке отвратительно наслаивать пустопорожние периоды.
Что я мог ему сказать? Вон «Большая Советская Энциклопедия» стоит на полках у него за спиной, может быть он и в Брокгауза заглядывал. История, статистика – всем этим его не удивишь.
Я молчал. Пауза затягивалась. И вдруг я сказал ему, что евреи – народ Книги. И стал довольно путано объяснять, что такое в истории человечества эта книга, чаще именуемая Библией.
Слушал он меня минут семь-восемь, и это было поразительно, ибо он привык говорить сам, и более чем на краткую ответную реплику собеседники его не могли рассчитывать. Но, наконец, ему надоело. Мутноватый его, себе на уме взор затвердел, и он остановил меня движением ладони.
– А как с твоей-то книгой? Пора тебе, пора издаваться, ведь не мальчик уже.
Боже мой, все он прекрасно знал, сколько лет он сам продолжал этот идиотский спектакль! Внезапно он потянулся к телефону и набрал номер.
– Миша, зайди ко мне сейчас, назрело тут, понимаешь, одно дело.
И я понял, что он вызывает главного редактора того самого издательства. Мише было недалеко идти, и через несколько минут он появился в кабинете.
И тут я услышал то, чего никак не мог дождаться четырнадцать лет, то, от чего отводил меня этот же хозяин кабинета столь долгие годы.
– Миша, чего ты тянешь с Рейном? Вот он, седой человек. Со стихами все ясно. Судьба, понимаешь, фортуна не любит долгих ожиданий, у нее дел-то полно, потом ищи-свищи. Надо решать, Миша, затянули мы что-то с Рейном.
На другой день Миша подписал со мной договор. А еще через полтора года моя первая книга «Имена мостов» вышла в свет.
«ДРУГОМУ, КАК ПОНЯТЬ ТЕБЯ…»
Эту историю мне рассказал знаменитый поэт. Ну, очень знаменитый поэт. Все это случилось чрезвычайно давно, в 1968 году. В том году Роберт Кеннеди пытался стать президентом Соединенных Штатов. А наш поэт уже тогда был так знаменит во всемирном масштабе, что состоял во вполне дружеских отношениях с кланом Кеннеди.
И вот в поместье Кеннеди в Новой Англии был устроен праздничный обед. Не простой, а торжественный, церемониальный. На этом обеде друг семьи Кеннеди известный дипломат Аверелл Гарриман объявил, что министр юстиции Роберт Кеннеди принял решение выставить свою кандидатуру на президентских выборах. После чего начались речи и поздравления и пожелания удачи новоявленному кандидату в президенты.
Поднялся со своего места и наш знаменитый поэт и сказал несколько ободряющих слов с пожеланием удачи. И для того, чтобы эффектно закончить свой спич, он поднял над головой старинный бокал и добавил:
– А сейчас я разобью этот бокал, и это будет залогом успеха господина Кеннеди в его предвыборной кампании.
Поэт неплохо говорил по-английски и совершенно ясно и доходчиво выразил свою мысль. И тем не менее американцы его не поняли. То есть они поняли, что он хочет разбить старинный бокал, а вот зачем и как это связано с успехом предвыборной кампании, они не уловили.
Обеспокоенная хозяйка дома попросила поэта не торопиться с бокалом и объяснить, какая тут связь, как разбитый бокал поможет ее мужу в борьбе за голоса избирателей.
И поэт на своем приличном английском языке терпеливо объяснил, что в России есть такой древний обычай: выпить за успех какого-нибудь предприятия, разбить бокал и это каким-то таинственным образом способствует успеху дела.
И опять американцы поняли поэта не до конца. Послышались удивленные реплики: в чем, мол, дело? какая, все-таки, здесь связь? Можно ли в этом случае бить не бокалы, а какую-нибудь другую посуду? Можно ли разбить просто оконное стекло?
Сосед поэта по застолью, тоже друг семьи Кеннеди, известный американский политик спросил, обязательно ли надо разбить именно этот бокал.
– Ну да, – ответил поэт, – тот самый бокал, из которого пьют за успех дела.
Тогда американский политик попросил поэта, если это возможно, осушить и разбить другой бокал. А этот бокал дорог семье Кеннеди, как память. Во-первых, он очень дорогой, ему двести лет, а может быть и больше. А во-вторых, когда-то, когда предки Кеннеди переселялись из Ирландии в Америку, бокал этот захватили с собой как семейный сувенир.
В общем, наш знаменитый поэт увидел, какую смуту он внес в это почтенное собрание. И он согласился с политиком, что в принципе можно разбить другой бокал. Это дела не меняет. Все почему-то с облегчением вздохнули.
Вызвали мажордома и объяснили ему ситуацию. Де по русскому обычаю дорогой гость сейчас будет швырять бокал. Так нужно. Русские знают, что делают. Так поступали русские цари. Ленин и Сталин били посуду перед выборами. Поэт пытался внести дополнительные объяснения.
Но мажордом уже что-то сообразил и принес ему другой бокал, а этот старинный, семейный передал слуге подальше от поэта. Таким образом, все было урегулировано.

Е. Евтушенко и Е. Рейн.
Поэт наполнил новый бокал шампанским и подошел с ним к камину. Все привстали со своих мест. Сам Роберт Кеннеди тоже вышел из-за стола и чокнулся с поэтом. Поэт выпил до дна и что было сил ахнул бокал о чугунную решетку камина. Но бокал не разбился. Как мячик от пинг-понга, он подскочил к потолку. Гости зааплодировали, поэт изумился, он поднял бокал и внимательно осмотрел его и только теперь все понял. Мажордом подменил хрустальный бокал пластиковым. Он подумал, что это причуда, каприз русского гостя, а бить дорогую посуду все-таки не полагается. Дело не в цене, Кеннеди могут себе позволить такое, но просто в лучших домах Америки это не принято. Тем более, что мажордом был материально ответственным за эти тысячедолларовые бокалы.
И тут, как рассказывает поэт, он внутренне похолодел, ему что-то почудилось. Это была дурная примета. Он пил за успех Роберта Кеннеди, он хотел разбить бокал в знак этого будущего успеха. А бокал не разбился. И разбиться не мог.
Вмешалось непонимание, косность, тайные силы проявили себя. Не следовало ждать добра от всей этой затеи с выдвижением младшего Кеннеди в президенты. И огорченный поэт снова сел на свое почетное место.
А 6 июня 1968 года в Калифорнии Сирхан-Сирхан застрелил Роберта Кеннеди на предвыборном митинге.
КОЕ-ЧТО О СТРАХЕ
Мы сейчас об этом сильно подзабыли. А ведь люди моего поколения и особенно те, кто постарше, сталкивались со страхом на каждом шагу. Как вечная мерзлота в тундре, он лежал под слоем нашей жизни, определяя поступки, мышление, манеру поведения. Иной раз человек вел себя каким-то непонятным, непредсказуемым образом. Объяснить – что? как? почему? – было очень непросто. Но существовал ключ к его поведению – им руководил страх. Иногда он не знал даже, чего именно боится. И это было самое страшное.
Особенно это было распространено в интеллигентской, а еще больше в литературной среде. Я бы мог привести сотни примеров. Расскажу только об одном случае.
Это было в Ленинграде, году в пятьдесят четвертом. Во всяком случае, уже умер Сталин. Но страх обладает могучей инерцией.
Мне было восемнадцать лет, я писал стихи и, по мере сил, интересовался всем, что с этим связано. Знал я в лицо и многих ленинградских поэтов. И вот прекрасным весенним вечером, накануне белых ночей шел я по Невскому проспекту и увидел Виссариона Саянова. Был такой в те времена небезызвестный поэт и прозаик. Теперь от него сохранилась, пожалуй, только эпиграмма:
Видел я Саянова – трезвого, не пьяного,
Трезвого, не пьяного – значит, не Саянова.
Действительно он, кажется, сильно выпивал. Но когда-то в 20-х годах писал интересные стихи, редактировал антологии новейшей французской поэзии, слыл образованным человеком. Но потом, в середине 30-х что-то с ним произошло. Он как бы забыл все, что делал прежде. Погрузился в беспросветную пьянку. Отпустил кустистые мужицкие усы, стал писать какую-то дремучую прозу. В общем, как говорится, этот Саянов и тот, прежний, были два незнакомых друг с другом человека.
И вот я столкнулся с ним нос к носу на Невском. Неожиданно для себя я подошел к нему и поздоровался, и даже прочел вслух и довольно громко начало его старого стихотворения. Он остановился и положил мне руку на плечо.
– Боже мой, откуда вы это знаете? – спросил он.
Я собирался что-то ответить, но он не стал меня слушать.
– Это надо отметить, – без всякой паузы сказал он.
Неподалеку от угла Невского и Садовой находилось кафе «Квиссисана». Туда и привел меня Саянов. Он уверенно прошел в дальний угол. Там за овальным столом сидела уже порядочно подогретая компания. Саянов представил меня.
– Это мой поклонник, сейчас мы с ним выпьем за поэзию.
Никто не обратил на меня внимания, налили мне рюмку портвейна и продолжали какой-то спор на футбольную тему.
Я сидел, помалкивая, полчаса-час. Наконец, мне это надоело.
– Виссарион Михайлович, как вы думаете, кто сейчас лучший современный поэт? – обратился я к Саянову.
За столом услышали мой вопрос, затихли. Но вопрошаемый сделал вид, что я ничего не спросил. Он поднял рюмку и провозгласил нечто вроде тоста: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется!» и что-то еще в этом роде.
В одиннадцать кафе закрывалось.
– Проводи меня, мальчик, это недалеко, – как-то моментально поэт протрезвел и, поглядев на меня внимательным и строгим глазом, внезапно укоризненно сказал:
– Как же ты так неосторожен? В пьяной компании? Да разве ты знаешь этих людей? И вдруг ты прямиком с таким вопросом!
– С каким вопросом? – я даже не понял сначала, о чем он говорит.
– Ведь ты спросил у меня, кто наш лучший поэт, а они знают – кто, и следят, как я отвечу, а врать стыдно. Ты что, не мог дождаться, когда мы окажемся одни?
Я молчал, сбитый с толку всеми этими укорами. Саянов замолчал. Мы повернули на канал Грибоедова.
– Ну вот, почти и пришли, – сказал Саянов и добавил: – А тебе действительно интересно знать, что я думаю на этот счет?
– Конечно же, Виссарион Михайлович.
И тогда на совершенно пустой набережной канала Саянов наклонился ко мне и внятно прошептал мне на ухо:
– Пастернак.
И вот прошло столько лет, давным-давно нет Саянова, но почему-то не забывается этот пустяковый случай. Все в нем продиктовано страхом: страхом доноса, страхом за свое положение, страхом неизвестно чего. Он боялся назвать имя Пастернака вслух, хотя тот даже не был репрессирован, он был лишь только нежелателен в то время советским идеологам. И этого было достаточно. Саянов боялся.
Жутко подумать, что это может наступить снова.
ХРОНИКА. 1966
Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
А. Ахматова
Я не любитель Би-би-си и прочих
радиостанций этого уклона;
по мне уж лучше «Мьюзик Юэсэй».
В тот вечер ускользал он в глубь эфира,
я шевелил настройку, и внезапно
среди разрядов диктор произнес:
«Сегодня – треск – в Москве – разряд —
скончалась Ахматова – ворчанье и разряд».
Я сразу же оделся и пошел
через Неву в один знакомый дом,
где, верно, уже знали эту новость.

Выносят гроб из самолета. Л. Гумилев и К. Азадовский. Отпевание. Похороны. Комарово. Траурный митинг. Выступает С. Михалков.
Аэропорт под Ленинградом. Утро.
Нормальная Аэрофлота жизнь.
Грузины с чемоданами. Узбеки
с коврами. Хвост у ресторана.
В кафе у стойки люди киностудий:
Каплан, Климович, Кутик, Либерман.
Они, рискуя собственной работой,
задумали заснять на кинопленку
ближайшие часы.
Ту-104 падает на брюхо,
без промедления к нему подвозят трап.
Мелькают люки грузовых отсеков.
Одиннадцать часов. По трапу сходят
Тарковский, Михалков и Смеляков,
за ними
я вижу Надежду Яковлевну Мандельштам,
Герштейн Эмму, Нику Глен и прочих.
А Наймана не вижу. Что за черт?
Меня зовут. Вот Либерман, который
еще четыре года проживет,
навинчивая нервно объективы
на кинокамеру, расспрашивает:
«Кто это? Это? Это? Это? Это???»
Я отвечаю и бегу на поле.
И вижу Наймана. В своем пальто
бесцветном,
с подглазьями, опухшими от слез,
он почему-то движется в глубинку
аэродрома. «Толя!» Мы расцеловались.
«Куда ты?» – «Я за гробом». Вот и гроб.
Какие-то неясные мужчины, Лев Гумилев
и я приподнимаем гроб на грузовик.
Должно быть, полдень иль около того.
Мы входим в боковой притвор собора
Никольского. Гроб здесь, уже открыт.
Становимся кольцом. Лев Гумилев
С размаху бухается на колени
и молится. И Юра Цехновицер,
выискивая в «Практикфлекс» получше
точку, щелкает и рвет никелированный
крючок, меняя кадры. Тогда
Лев Николаевич Гумилев
каким-то броским, боковым движеньем
выхватывает Юрин аппарат,
откидывает крышку (значит, пленка
засвечена) и через весь собор
швыряет метров на сто (показалось,
конечно, ближе, показалось – на сто!).
На следующий день в такси, набитом
под штраф и под завязку, ровно в час
мы подъезжаем к флотскому собору
Николы Мирликийского. Толпа
стоит от Мариинки до канала.
Я пробиваюсь боком и плечом,
припоминая старые ухватки.
У гроба луг, оранжерея, лес —
и посреди ОНА – на лбу молитва,
сиреневые царственные веки
закрыты сильно, хмуро, тяжело.
Пришедшие, выстраиваясь в ленту,
проходят перед гробом. Настоятель
собора, дьяконы и причт ведут неведомую
мне, невеже, службу. Горит подсветка.
Кутик Соломон, толстяк, пальто он скинул,
просит тех, кто в кадре, из кадра выйти,
а иных войти. И люди, облеченные доверьем
автокефальной православной церкви,
согласно указаньям Соломона
все это делают.
(Но это так – штришок!)
Дела распределились в этот день
в таком разрезе: Бродский хлопотал
о месте для могилы в Комарово.
Важнейшие дела, конечно, Найман.
Мне поручили крест – и вот летаю
полсуток на такси по похоронным
универмагам. Вижу дикий вздор —
цементные кресты на арматуре,
а деревянных и в помине нет.
Быть может, заказать? Но у кого?
И не успеют. Что же делать, Боже?
Мне тридцать лет, и варит голова.
Великая кинозвезда Баталов,
заглавный сын из Ардовых, как раз
снимает в павильончиках Ленфильма
«Три толстяка» по Юрию Олеше.
И у него есть плотники и лес
для декораций. Это гениально!
Часа через четыре все готово,
замотанный в портьеры крест выносят
из проходной Ленфильма, погружают
в баталовскую групповую «Волгу» —
и в Комарово…
По комаровским улочкам в снегах,
еще не рассусоленных весною,
идут машины, пешеходы и с десяток
лыжников (их лыжная прогулка
совпала с этим шествием случайно).
Смеркается, седьмой, должно быть, час.
У самой кромки кладбища чернеет
старательная ровная могила,
пристойные могильщики, вполне
осознавая, что они копают,
последним взмахом обрезают грунт.
А лица, лица! Все кругом знакомы,
Вот Бродский, Найман, Бобышев,
Славинский, вот Зоя Томашевская,
Вот Эра, вот Ардовы, вот Лев
Евгеньич Аренс – барон и царскосел,
Ершов – художник, сын императорского
тенора Ершова. Вот Пунины.
У гроба ответственный за похороны Ходза.
Тарковский с палкой,
Михалков с бумажкой
в руках и золотых очках.
Вот Боря Шварцман боком на каком-то
косом надгробье; в объектив он ловит
все, что возможно.
И мы навек
обречены на Борины картинки.
К могиле подошла худющая,
в пушистой шубе дама,
и бросила букет пунцовых роз,
и стала на колени. Кто такая?
И сзади кто-то подсказал:
«А это Нина Бруни, она Бальмонта дочь!»
Обратный путь от кладбища до «будки».
Толпа уже разбилась на компашки,
а вот и «будка». Нету перемен.
Я был здесь летом. Перемен не вижу.
Вещички те же, кое-что, конечно,
припрятано до летнего сезона.
Вот только ящик водки у окна.
Мы выпиваем. Боже, Боже правый,
как вкусно быть живым, великолепны
на черном хлебе натюрморты с салом,
селедкой и с отдельной колбасой.
Мы говорим, уже оживлены!
Все понимают – эти сорок восемь часов
нам в жизни бедной не перешибить —
во всяком случае немного шансов
подняться выше мартовских сугробов
на комаровском кладбище.
Семидесятипятилетний Аренс читает
собственное сочиненье на смерть Ахматовой.
Малюсенький, лохматый, совсем седой —
командовал эсминцем в пятнадцатом году
на Черном море. Георгиевский кавалер,
друг Гумилева, ныне орнитолог,
лет восемнадцать разных лагерей,
в Кавказском заповеднике работа
и десятирублевые заметки о птицах
для пионерской прессы, он немного
Ахматову переживет. Теперь и нам пора.
Пошли. На электричке десять двадцать
мы уезжаем. Вот и все.
ТЕПЕРЬ ОНА БЫЛА.
А мы остались.
Это меняет многое
и в судьбах, и в словах.
И как написано в сороковом году:
«Когда человек умирает,
Изменяются его портреты…»
Но не только его портреты,
а и все, кто его любил…
Скоро, скоро вокзал и город,
скоро, скоро грядущее нагрянет,
скоро нам свою размыкать долю.
1974

Могила А. Ахматовой. Комарово.
УЗЕЛ
Мы жили рядом. Два огромных дома,
по тысяче квартир, наверно, каждый,
не менее. И оба знамениты
в столице этой брошенной и ныне
считающейся центром областным.
Нас разделял унылый переулок,
как и дома, изрядно знаменитый
одной из самых популярных бань.
А для меня еще старинной школой,
построенной купечеством столичным,
как говорили, лучше всех в России.
За девять лет я кончил десять классов
(поди, не всякий эдак отличится),
но, впрочем, не об этом речь совсем.
Мы жили рядом. Я звонил в любое
из четырех времен, объявших сутки,
и, кажется, на сто моих звонков
она не подошла четыре раза.
Ну, пять, ну, шесть, но все-таки не больше.
Я назначал свиданье в переулке,
давал ей четверть часика на то,
что у женщин называется порядком,
и выходил. Она уже ждала.
Она всегда уже была на месте.
И это почему-то восхищало
и восхищает до сих пор меня.
Она приехала в мой город из Сибири,
в ней, очевидно, проступало счастье
от жизни у Невы и Эрмитажа,
дворцов Растрелли, чуда Фальконета
и кучи просвещенья и красот.
Я выходил из подворотни и
глядел на полноватую фигурку
(чуть-чуть, ведь в этом что-то есть,
при должном росте, правильной осанке,
при сильной пропорциональной плоти
два лишних килограмма – не беда!).
Мы посещали садики, киношки,
пустующие выставки и просто
мне милые пустынные места
как, например, Смоленку, Пряжку, остров
Аптекарский и тот кусочек взморья,
что неизвестен, издавна запущен,
завален ржавыми, сухими катерами
и досками соседних лесопилок,
и всяким хламом, – знаете его?
За стадионом он напротив стрелки.
Мы что-то ели, если были деньги,
то покупали красное вино
(она другого не признавала)
и возвращались на речном трамвае.
Мы поднимались на второй этаж
в мою запущенную комнатушку
и пили чай, который я умел
заваривать по старому рецепту.
И я всегда, всегда, всегда
одну и ту же доставал пластинку,
и радиола долгими часами ее играла.
Горела лампа в пестром абажуре
густым и сладким светом. Вечерело.
Она вытягивала ноги и просила
мой старый свитер, было зябковато,
когда мы выпускали дым в окно.
И было так спокойно. Никогда
мне больше не бывало так спокойно.
Шипел адаптер, разлетался дым,
часы постукивали на буфете.
Я твердо знал, пока она со мной,
покой и ясность, медленная сила,
как плотная свинцовая защита
вокруг меня. Сибирская Диана,
чуть утомленная прогулкой и охотой,
она была охраной мне, она
одна за нас двоих хранила
покой, в котором бодрствует душа.
Когда я открывал глаза, то видел
ореховые волосы ее,
лежавшие и медленно и тяжко.
(Хотел бы описать точнее, но
не получается.) Тяжелая прическа,
напоминавшая античный шлем,
тем более что были там и пряди
светлее прочих, словно из латуни.
Овальное курносое лицо,
две родинки на твердом подбородке
и, Боже мой, зеленые глаза.
Совсем зеленые, как старое стекло,
того оттенка зелени, который,
по-моему, синей всего на свете.
Тогда мы заводили не спеша
полубеседу, полуразвлеченье…
«Послушай, если сможешь, —
она вдруг говорила, —
поедем в воскресенье
хоть в Гатчину или куда захочешь.
Я в Гатчине была назад полгода,
какой там парк запущенный дворцовый!
Я там нашла еловую аллею
и, если ты со мной поедешь,
до смерти не забуду этих елок».
И слово «смерть» она произносила
серьезно и при этом улыбалась
мне уголками губ и поправляла прядь.
И я не знал еще, что всякий день и час,
не связанный в томительный и тесный,
неразделимый узел соучастья,
есть попусту потерянное время.
А впрочем – тут правил нет!
Ведь я любил ее. И я об этом
ни разу, вот вам крест, не догадался…
1973