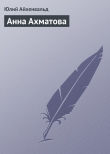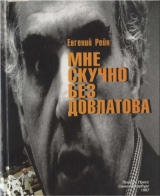
Текст книги "Мне скучно без Довлатова"
Автор книги: Евгений Рейн
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Когда мы снова вернулись в «будку», иностранцев уже не было. После нескольких общесветских минут нас пригласили пить чай. В этот вечер Иосиф читал стихи, не очень много – 5 или 6 стихотворений. Я же прочитал только одно, написанное накануне. Оно потом было напечатано в моей книжке «Имена мостов», это стихотворение «Младенчество, Адмиралтейство…» Речь зашла о так называемом «герметизме», о темных запутанных стихах, усложненных ассоциациях, которые могут дойти разве что до самого узкого круга людей, а иногда понятны только самому поэту. Ахматова сказала: «Важно только одно, чтобы сам автор имел нечто в виду».
Спустя долгие годы я стал припоминать дату этого визита, из этого, конечно, ничего не получилось, но зато я напал на верную примету. Я вспомнил, что весь путь от Ленинграда до комаровской платформы сопровождался передававшимся из специально включенных репродукторов репортажем о запуске в космос Германа Титова. А он совершил свой космический рейс 7 августа 1961 г. Так оказалось, что и «у этого воспоминания есть свое число и листок в календаре», как сказала когда-то сама Ахматова, описывая свою встречу с Блоком в поезде на станции Подсолнечная (ее в записной книжке отметил Блок и, естественно, датировал).
Розы были любимыми цветами Ахматовой. Было бы любопытно сосчитать, сколько раз они упоминаются в ее стихах. Сразу приходят на память «Новогодний праздник длится пышно», много роз и в заглавиях – «Последняя роза», «Пятая роза», «Шиповник цветет», ведь шиповник тоже роза, только дикая. Я тоже, наверное, дарил Ахматовой розы, но запомнились мне почему-то другие цветы, самые простые: ромашки, колокольчики, васильки. Было это так. Однажды я оказался в Сестрорецке и внезапно решил поехать в Комарово к Анне Андреевне. Такой визит без предварительной договоренности был для меня событием чрезвычайно редким. Побродив около билетных касс на платформе, я все-таки решился и поехал. Добраться до Комарово из Сестрорецка можно только с пересадкой на станции Белоостров. И там на бедном околостанционном базарчике я был удивлен необыкновенной миловидностью полевых цветов, которые продавались на выбор горстями прямо из ведра. Я собрал по своему вкусу букет и повез его в Комарово.
Когда я вошел на участок Союза писателей, где располагались дачи, то сделал какой-то неверный поворот и оказался около ахматовской «будки», но не со стороны крыльца, а против окна в комнату Анны Андреевны. И внезапно я увидел ее как бы в раме окна в летнем довольно открытом платье. Она была старательно причесана и, как мне запомнилось, выглядела в этот день лучше всего за многие годы, когда мне удавалось ее видеть. «Вы ко мне?» – спросила она. Я удивился вопросу: к кому же еще я мог приехать сюда? Позже я понял, что вопрос этот не только имел смысл, но и был обязателен в понимании Ахматовой: с цветами я шел куда-то, чуть ли не минуя уже ее дом, а что, если бы у этого букета оказался другой адресат? Вопрос Анны Андреевны полностью исключал неловкость, которая могла бы возникнуть, если бы эти цветы предназначались кому-нибудь другому. Вероятность этого была ничтожно мала, но даже этой малостью не следовало пренебрегать, по мнению Ахматовой. Но букет этот составлялся специально для Ахматовой. Анна Андреевна взяла цветы и приблизила их к лицу. Было уже часов шесть вечера, и предзакатные лучи, отражаясь от раскрытых створок окна, осветили лицо Ахматовой как-то особенно. Не могу найти необходимые слова, может быть, следует употребить термин «стереоскопическое освещение», имея в виду особенную четкость и ясность красок и линий. Эту минуту я вспоминаю почему-то чаще многих иных, – казалось бы, более содержательных. В этот день Ахматова мне надписала «Anno domini» (издательства «Petropolis», 1921). Было это 2 августа 1962 г.
Последний раз я видел Анну Андреевну в Боткинской больнице в Москве в феврале 1966 г. Она попросила Ардовых передать ей пачку ее фотографий, у них хранившуюся.

А. Ахматова и Ю. Габричевский. Последняя фотография. 1965, октябрь.
Я собирался навестить Анну Андреевну в больнице, и Нина Антоновна (ближайший друг А. А., жена В. Е. Ардова) поручила мне передать фотографии Ахматовой. Кроме того, я вез врученный мне одной моей знакомой, вернувшейся из ФРГ, толстенный номер какого-то воскресного литературно-газетного приложения. В нем была большая, на целую полосу, статья об Ахматовой. В статье было что-то и о грядущей Нобелевской премии. Я знал, что Анна Андреевна относится к таким вещам с немалым интересом, но и это был не последний повод к моему появлению в больнице (впрочем, какие поводы нужны для посещения больного человека?). И все-таки, прийти с чем-то интересным для Анны Андреевны было для меня важно. Но сейчас о другом: во время этого больничного визита я передал Ахматовой свое стихотворение, посвященное ей. Это было не единственное из посвященных ей стихотворений, но передал я только одно. Теперь это стихотворение опубликовано, вот оно:
У зимней тьмы печали полон рот,
Но прежде, чем она его откроет,
Огонь небесный вдруг произойдет,
Метеорит, ракета, астероид.
Огонь летит над грязной белизной,
Зима глядит на казни и на козни,
Как человек глядит в стакан порожний —
Уже живой, еще полубольной.
Тут смысла нет. И вымысла тут нет.
И сути нет, хотя конец рассказу.
Когда я вижу освещенный снег,
я Ваше имя вспоминаю сразу.
Что я сам об этом стихотворении думаю? Почти ничего. Во всяком случае, не считаю его чем-то удавшимся, особым, совершенным, но думаю, что такие стихи имеют право на жизнь. Написано оно было в конце 1965 г., как-то внезапно, в несколько минут. Его происхождение – от рождественских хлопьев снега, косо летящих в конусе фонарного света. Может быть, сюда примешались и сообщения о болезни Анны Ахматовой. Как раз в это время она и лежала в тяжелом состоянии в больнице в Москве. Стихи эти написаны в Ленинграде, но жизнь моя была в то время такова, что я по 2–3 раза в месяц переезжал из старой столицы в новую и наоборот.
Анна Андреевна прочитала стихи. «Благодарю вас, я положу их в свою папку». Теперь хорошо известно, что это за папка. Ахматова получила за долгую свою жизнь, быть может, сто или больше посвященных ей стихотворений. Часть их она сложила в папку, которую назвала «В ста зеркалах». Теперь эта папка хранится в Публичной библиотеке в Ленинграде. Там есть стихи Гумилева, Блока, Клюева; Мандельштама, Недоброво, Пастернака, Кузмина, Хлебникова, т. е. классиков. Там есть стихи известных поэтов – Асеева, Спасского, есть стихи моих старых друзей Бродского, Наймана, Бобышева.
Но много там стихов, авторы которых мне неизвестны. Быть может, некоторые из них не были поэтами вообще, даже в том профессиональном смысле, когда поэтами называют людей, постоянно пишущих стихи только для себя, для домашнего употребления. Возможно, они написали только для Ахматовой свои стихи, чтобы выразить свое восхищение, ритмически организовать слова и мысли. Я внимательно просматривал эту папку и, помнится, даже сосчитал вложенные в нее стихотворения – их там что-то около 85. Было очень интересно читать все это подряд. Как всегда, замысел Ахматовой оказался гораздо более значительным и глубоким, чем можно бы предположить с первого взгляда. Именно такое отражение «В зеркалах» делает это собрание стихов какой-то особенной повестью со смыслом, который предстоит еще понять. И стоило бы издать все это, – скажем в виде приложения к ахматовским томам «Литературного наследства», как, впрочем, и предполагал И. С. Зильберштейн. Ведь однажды Э. Голлербах уже издал такую антологию. Было это в середине 20-х годов, тем более интересно понять сейчас, что сложила в этот зеркальный ящик сама Ахматова. Судьба рассудила так, что мое стихотворение оказалось самым последним, оно было передано ей дней за 10–15 до кончины. Первым в описи Публичной библиотеки значится стихотворение Гумилева «Русалка».
На русалке горит ожерелье
И рубины греховно красны.
Я не знаю, когда написаны эти стихи Гумилевым, но опубликованы они в сборнике «Путь конквистадоров». Сборник вышел в свет, судя по цензурному разрешению, 3 октября 1905 г. Таким образом, ахматовское отражение «В ста зеркалах» продолжалось 60 лет.
10 марта 1966 г. хоронили Анну Андреевну на Комаровском кладбище, что находится в десяти минутах ходьбы от ее летнего домика. Гроб доставили самолетом накануне. Я был среди тех, кто встречал этот рейс в Пулковском аэропорту. Впрочем, все эти события можно и сегодня увидеть воочию. Сохранилась документальная кинолента, снятая киногруппой ленинградской хроникальной студии, режиссерами С. Арановичем и С. Шустером, операторами Л. Розентулом и А. Шафраном.
Кстати, они жестоко поплатились за эту съемку, а сам фильм был арестован и на долгие годы сгинул в каких-то таинственных сейфах. Выбрался из них на свет Божий он весной 1987 г. Тогда-то в полном одиночестве я посмотрел его. Идут эти куски документальных съемок около часа. Это именно куски, никак не слаженные, не смонтированные, во всяком случае, мне их показали именно в таком хаотичном виде.
Это был, пожалуй, самый невероятный, напряженный час в моей жизни. Я снова увидел события, миновавшие 21 год тому назад, но в темноте крохотного просмотрового кинозальчика я видел их с расстояния двух десятилетий и под грузом всего того, что в эти десятилетия вместилось. На экране промелькнули десятки, даже сотни знакомых лиц. Все мы в обратной проекции помолодели, похорошели, но я уже знал судьбу каждого на этой киноленте.
Я увидел будущих эмигрантов, с которыми все эти долгие годы и не надеялся встретиться. Увидел людей, которые внезапно уйдут из жизни, и один из них будет похоронен где-то в Техасе, а другой – рядом с Ахматовой в Комарово. Я увидел огромную, непроницаемую, обнажившую головы толпу около собора Николы Морского. Гроб в соборе, отпевание, Льва Николаевича Гумилева около гроба, автобусы, остановившиеся около Фонтанного дома, я снова увидел всех нас вместе: Бродского, Наймана, Бобышева, самого себя рядом с ними.
Увидел, как Борис Ардов держит крест, сбитый на киностудии «Ленфильм» из дерева, предназначенного для декораций фильма Алексея Баталова «Три толстяка». Этот крест и стоял над могилой Ахматовой, пока его не заменили железом и камнем.
Я увидел мартовские, уже оплывшие, затененные в этот поздний час снега Комарова и лыжников, случайно попавшихся по дороге.
Несколько лет спустя я начал сочинять книгу рассказов в стихах. Белым пятистопником я попытался соорудить нечто вроде не то хроники, не то панорамы времени, где самое обыденное сочеталось бы с теми днями и событиями, из которых и складывается человеческая судьба. В этой книге есть особая глава – день похорон Ахматовой.
После похорон на ахматовской даче были поминки, студенты консерватории играли музыку, которую любила Ахматова, пили водку, закусывали, как на всяких поминках.
…мы говорим, уже оживлены…
Яснее ясного, что эти сорок восемь
часов нам в жизни не перешибить
и не подняться выше этих тяжких
сугробов на комаровском кладбище.
Они и станут горным перевалом,
откуда будет самый дальний вид
на нашу жизнь, на век, на всю округу…
Сорок восемь часов – это девятое и десятое марта, те дни, когда еще не преданный земле гроб с телом Анны Ахматовой находился в Ленинграде.
1989
ОНА ВОШЛА В КАКОМ-ТО ТЕМНОМ ПЛАТЬЕ
«АРАРАТ»
Год шестьдесят второй. Москва и святки,
Мы вместе в ресторане «Арарат»,
Что на Неглинной был в те времена.
Его уже преследовали. Он
В Москву приехал, чтобы уберечься.
Но уберечься выше наших сил.
Какое-то армянское сациви,
Чанахи суп, сулгуни сыр, лаваш.
На нем табачная простая тройка,
Пиджак, жилет да итальянский галстук,
Что подарил я из последних сил.
А публика вокруг – что говорить?
Московские армяне – все в дакроне,
В австрийской обуви, а на груди – нейлон.
Он говорил: «В шашлычной будет лучше».
Но я повел в знакомый «Арарат».
Он рыжеват еще, и на лице
Нет той печати, что потом возникла, —
Печати гениальности. Еще
Оно сквозит еврейской простотою
И скромностью такого неофита,
Что в этом «Арарате» не бывал.
Его преследует подонок Лернер,
Мой профсоюзный босс по Техноложке,
Своей идеологией, своей коррупцией.
И впереди процесс, с которого и начался
Подъем. Ну а пока армянское сациви,
Сулгуни сыр, чанахи – жирный суп.
Он говорит, что главное – масштаб,
Размер замысленный произведенья.
Потом Ахматова все это подтвердит.
Вдвоем за столиком, а третье место пусто,
И вот подходит к нам официант,
Подводит человека в грубой робе,
Подвиньтесь – подвигаемся,
А третий садится скромно в самый уголок.
И долго, долго пялится в меню.
На нем костюм из самой бедной шерсти,
Крестьянский свитер, грубые ботинки,
И видно, что ему не по себе.
«Да, он впервые в этом заведенье», —
Решает Бродский, я согласен с ним.
На нас он смотрит, как на мильонеров,
И просит сыр сулгуни и харчо.
И вдруг решительно глядит на нас.
«Откуда вы?» – «Да мы из Ленинграда». —
«А я из Дилижана – вот дела!»
И Бродский вдруг добреет. Долгий взгляд
Его протяжных глаз вдвойне добреет.
«Ну как там Дилижан? Что Дилижан?» —
«А в Дилижане вот совсем неплохо,
Москва вот ужас. Потерялся я.
Не ем вторые сутки. Еле-еле
Нашел тут ресторанчик „Арарат“». —
«Пока не принесли вам – вот сациви,
сулгуни – вот, ты угощайся, друг!
Как звать тебя?» – «Ашот». —
«А нас Евгений, Иосиф – мы тут тоже ни при чем»
Вокруг кипит армянское веселье,
Туда-сюда шампанское летает,
Икру разносят в мисочках цветных.
И Бродскому не по душе все это:
«Я говорил – в шашлычную!» – «Ну что же,
В другой-то раз в шашлычную пойдем».
И вдруг Ашот резиновую сумку
Каким-то беглым жестом открывает
И достает бутылку коньяку.
«Из Дилижана, вы не осудите!»
Не осуждаем мы, и вот как раз
Янтарный зной бежит по нашим жилам,
И спутник мой преображен уже.
И на лице чудесно проступает
Все то, что в нем таится:
Гениальность и будущее,
Череп обтянулся, и заострились скулы,
Рот запал, и полысела навзничь голова.
Кругом содом армянский. Кто-то слева
Нам присылает вермута бутылку.
Мы отсылаем «Айгешат» – свою.
Но Бродскому не нравится все это,
Ему лишь третий лишний по душе.
А время у двенадцати, и нам
Пора теперь подумать о ночлеге.
«У Ардовых, быть может?» – «Может быть!»
Коньяк закончен. И Ашот считает
Свои рубли, официант подходит,
Берет брезгливо, да и мы свой счет
Оплачиваем и встаем со стульев.
И тут Ашот протягивает руку,
Не мне, а Бродскому, и Бродский долго-долго
Ее сжимает, и Ашот уходит.
Тогда и мы выходим в гардероб.
Метель в Москве и огоньки на елках —
Все впереди, год шестьдесят второй.
И вот пока мы едем на метро,
Вдруг Бродский говорит: «Се человек!»
В РЕСТОРАНЕ «КРЫША»
В молодые годы я любил ленинградский ресторан «Крыша», что помещался на чердаке «Европейской» гостиницы. Там было уютно, вкусно, играл приличный джаз, и всегда находился кто-нибудь знакомый. И уже часов с девяти вечера трудно было найти свободное место.

Е. Рейн.
Я тогда занимался документальным кино, писал сценарии, и временами неплохо зарабатывал, что тоже подталкивало меня к ресторану «Крыша». Но в тот вечер я со своим режиссером отмечал премьеру нашего фильма. Его только что выпустили в прокат. И мы решили устроить бешеный кутеж. Мы были в этом ресторане люди свои, и официант у нас был свой, и носил он редкое имя Иннокентий, в просторечии Кеша.
И вот мы назаказывали водок и коньяков и что-то изысканно-рыбное – миног, угрей, раков (кстати, в двух видах: раков натуральных и суп из раковых шеек – вещь невероятного достоинства). А на второе – осетрину на вертеле и стерлядь кольчиком.
Оркестр заиграл эллингтоновский «Караван», Иннокентий подкатил тележку с начальными закусками. Мы выпили по первой и почувствовали, что вечер удается.
Через час, когда дошла очередь до ракового супа, нас потревожил Иннокентий.
– Такое дело, – вполне учтиво сказал он, – тут один очень приличный человек хочет поужинать, а столика нет. Он не задержится, он после концерта, да и вам не без интереса. Можно подсадить?
Мы согласились. И Иннокентий посадил за наш столик Вертинского. Это было приблизительно за полгода до его смерти. Я совершенно обомлел. Я считал его не только великим артистом, но и замечательным поэтом. Так думаю и сейчас.
Но роскошного знакомства и легендарной беседы не получилось. Он был не расположен. Может быть, утомлен.
Он быстро сделал заказ, который я точно помню. Стакан кефира (для него нашелся), бисквит, сыр, чай с лимоном. Спросил нас, кто мы такие. Мой режиссер сказал, что киношники. Я что-то хотел объяснить про себя отдельное, но увидел, что как-то не получается.
Кеша моментально принес Вертинскому заказанное, а потом занялся нашей осетриной.
– Кутите? – спросил Вертинский. – А чего же без барышень?
– Да ночь еще только начинается, – объяснил ему мой режиссер, – будут и барышни.
– Да, – сказал Вертинский, – я тоже всегда полагал, что барышни бывают разные – вечерные, ночные и утренние. Без вечерних еще можно обойтись.
Мы тут же выступили со своими соображениями. Он только улыбнулся, ничего нам не ответил. Мы пытались угощать его, предлагали заказать двадцатилетний коньяк «ОС Арарат». Он отказался. Выпил пол-рюмки наших пяти звездочек и попросил счет. Счет был (ну, приблизительно) на рубль шестьдесят. Вертинский спросил у меня, сколько будет пятнадцать процентов от этой суммы. Я, как выпускник технического вуза, четко ему ответил. Он достал кошелек, высыпал монетки на скатерть, приложил к ним рубль и все это выложил каким-то замысловатым узором на столе. Потом он попрощался с нами и, не дожидаясь Кеши, поднялся. Но Кеша все-таки успел проявить свою службу, он все это заметил издали и, забежав вперед, отворил перед Вертинским дверь и даже чем-то помог ему в гардеробе.
А мы продолжали свои безумства и в час поднялись, чтобы продолжить ночь. Мы оба были прилично пьяны, но даже в этом виде я подумал, что наш счет слишком уж несоразмерен. Мы подозревали, что Кеша приписывает, но в этот раз он закусил удила.
Точную, правильную цифру я назвать не мог, но порядок ее вполне себе представлял. Дело было не в деньгах (поверьте!), но мы считали Кешу своим человеком, другом, режиссер даже водил его в Дом кино. Нам стало обидно, мы грозно подозвали Кешу и стали его стыдить. Нам на удивление он не врал, он тут же нагло сознался, что да, обсчитал, ну и что, в ресторане как в ресторане, а вот за раковым супом он следил по-дружески, чтобы тот не остыл, да и вообще, он раньше работал на вокзале – вот там обсчет так обсчет.
– Господи, – сказал я ему, – мы бы тебе и так хорошо дали, но ты же нас за идиотов считаешь.
И вдруг мой режиссер сделал слабый проигрышный ход, он сказал про Вертинского.
– Ведь дал же тебе Вертинский двадцать копеек, и ты побежал ему дверь отворять.
Кеша понял, что выиграл. Он выпрямился. Боже, как надменно, какой непреклонной истиной блеснул его взор!
– Вертинский? – переспросил он. – Двадцать копеек? Да хоть бы и не одной. Ведь это барин… – он задумался, но ничего не придумал и снова с растяжкой повторил: – Баааарин, а вы…
И он кратко сказал, кто мы по его мнению.
ЮБИЛЕЙ
24 мая 1965 года Бродскому исполнялось двадцать пять лет. Он находился в это время в ссылке в деревне Норенское Архангельской области. Вместе с Анатолием Найманом мы поехали к нему, чтобы отметить этот день.
Но по приезде Бродского на месте не застали. За самовольную отлучку он получил 15 суток и отсиживал их в КПЗ на станции Коноша, это километрах в двадцати от Норенской. Найман взял две бутылки водки и пошел в Коношу добывать Бродского хотя бы на один вечер. А я остался в Норенской накрывать стол и вообще координировать события, ибо местная почта каждый час передавала телеграммы и требовала к прямому проводу ввиду всяких чрезвычайных сообщений и поздравлений.
Часам к шести вечера Бродский и Найман наконец-то вернулись, был с ними еще и третий человек много старше нас, лет пятидесяти пяти. Он представился: «Черномордик». Потом я узнал его историю. Во время войны он был офицером СМЕРШа, участвовал в охране Потсдамской конференции. После разъезда Большой Тройки решил вместе с товарищами отдохнуть. С целью отдыха в огромный «хорьх» запрягли два десятка молодых немок, получились бурлаки на Эльбе. Немки катили «хорьх» по Потсдаму, а Черномордик с товарищами специально для них пели народную балладу про Стеньку Разина и персидскую княжну. И все, как уверял меня впоследствии Черномордик, были чрезвычайно довольны и не имели друг к другу никаких претензий. И вдруг эта история попала в какую-то английскую газету. Черномордика неохотно судили и дали десятку. После лагеря домой в Одессу он не вернулся. Я поинтересовался, почему?
– Понимаешь, мой младший брат в Одессе главный музыкальный редактор на телевидении. Как же я вернусь, я ведь старший брат.
Он был гордым человеком. Он стал начальником АХО Коношского района, заведовал банями и парикмахерскими, был там человек влиятельный и приметный и действенно покровительствовал Бродскому.
В Норенской Бродский снимал пол-избы у человека по фамилии Пестерев. У этого Пестерева была своя, тоже весьма поучительная история. Войну он провел в плену, но только не в немецком, а в финском. Более того, так как граница между Швецией и Финляндией была в те годы номинальной, да и вообще это было некое двуединое государство, то Пестерев провел четыре года на шведской стороне в качестве дворника, поддерживая традиционную скандинавскую чистоту. После победы он поспешил на Родину со всеми вытекающими отсюда последствиями.
И вот мы вчетвером, невероятно голодные, наконец-то уселись за стол. А Пестерев, как человек воспитанный и церемонный, чудовищно загремел ведром на своей половине, напоминая о себе. Он был немедленно приглашен и появился среди нас в чистой рубашке и побритый только наполовину. Спешил к столу и не успел.
Мы выпили за здоровье юбиляра, причем я налил граненый стакан Пестереву ровнехонько до краев. Невероятно торжественно и со значением, не поднимая глаз, он выпил его до последней капли. А когда выпил и поставил на стол пустой стакан, то внимательно поглядел на нас, и, видимо, что-то открылось его внутреннему взору. Он даже отодвинул второй стакан, ибо овладевший им вопрос требовал немедленного разрешения.
– Ребята, вы какой нации будете? – спросил Пестерев.
– Мы будем еврейской нации, – ответил ему Черномордик.
Пестерев долго молчал, обдумывая такое невероятное положение. Глубочайшая сосредоточенность обозначилась на его лице. Пестерев что-то решал. Наконец, решил и выпил второй стакан.
– Ребята, – сказал он с отчаянием, даже с каким-то трагическим надрывом, – а я буду русской еврейской нации.
Иногда мне кажется, я понимаю, что он имел в виду.