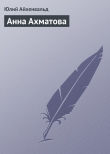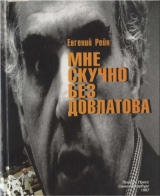
Текст книги "Мне скучно без Довлатова"
Автор книги: Евгений Рейн
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
ВЕНЕЦИЯ ЗИМОЙ
Было бы так легко вспоминать, если бы не хронология. С ней всегда какая-то дьявольская путаница, чья-то ухмылка. Поди, отличи 1966 год от 1968-го, или что-нибудь в этом роде. Есть, конечно, исключения – какой-нибудь 1953-й или, скажем, 1956-й ни с чем не перепутаешь.
Так вот, именно в этих неотличимых друг от друга 66–67-х годах мы вдвоем сидели в Летнем саду на берегу Карпиева пруда, лицом к Михайловскому замку.
Месяц (или, вернее, пленэр, погоду) вспомнить гораздо легче – ведь они действительно были – и был серенький с голубизной, уже вполне весенний балтийский день с ветром и нахмуренными тучками (кстати, почти всегда тучки эти благородно разбегаются, и часам к четырем дня – светло и солнечно). Такие дни для меня – из самых милых.
Так вот, мы сидели на скамейке, как всегда покуривали, считали, сколько осталось сигарет в пачке «Кэмела». В сумке у меня лежал выпрошенный накануне у итальянских друзей многогодичной давности номер «Лайфа», а там был один интересный фоторепортажик. Вместе стали перелистывать журнал. Вот здесь – страничек пять или шесть: «Зимняя Венеция». Все очень красиво, как и полагается в «Лайфе». Тут важно только то, как Иосиф смотрел на эти гондолы под снегопадом, старинные палаццо за сеткой холодного дождя, снежный колпачок на фонаре, белые кляксы на капоте допотопной «ланчи», ну и так далее.
Я вдруг почувствовал, что все это произвело на него гораздо большее впечатление, чем мной предполагалось. Ток прошел чуть сильнее, и некий предохранитель перегорел.
– Я это увижу, – сказал Бродский. – Запомни, что я сейчас сказал. Я буду в Венеции зимой…
Так все и случилось. Процесс Бродского, его эмиграция, Нобелевская премия, ежегодное зимнее паломничество в Венецию… Невероятно и закономерно. Рисунок его судьбы вычерчен по такому четкому и сильному лекалу, что линии нигде не кружат, не юлят, не обрываются. Нечто вроде Аппеллесовой черты. Верность себе, своему дару неизменна и в его жизни и в его поэзии.
Над ним всегда как бы простиралось облако его судьбы. У других была биография, жизнь, а у него судьба. Его тянула и вела сила, от которой он не пытался увильнуть. Ни увильнуть, ни избежать, ни предрешить. Ему суждены были огромное пространство и огромный разгон.
Трудно писать о нем в прошедшем времени. В последнее время мне чаще вспоминается наша встреча после шестнадцатилетней разлуки.
В 1989 году я впервые прилетел в Нью-Йорк. В аэропорту Кеннеди долго получал свой багаж, и, наконец, отметив паспорт, пошел по долгому коридору в зал ожидания и обвел взглядом толпу встречающих. Иосифа не было. Я растерялся, понятия не имея, как и куда мне теперь добираться. Все-таки побрел вперед. И вдруг услышал голос: «Женька, ну куда ты смотришь? Я здесь».
Я поднял глаза и увидел Иосифа.
Передо мной стоял другой, сильно переменившийся человек. (Видимо, и я в его глазах выглядел не менее постаревшим). Встретились – полтора на два – тридцать лет разлуки. Но дальше стало происходить нечто замечательно милое и вовсе не загадочное: с каждой минутой шел обратный отсчет времени, и к приезду в Нью-Йорк передо мной был совершенно прежний Иосиф, с его утрированными словечками и привычками!
Я прожил тогда месяц в его холостяцкой квартирке на Мортон-стрит. Она представляла собой в ту пору (он еще не был женат на Марии) нищее и очаровательное зрелище: две малюсенькие, почти одинаковые, метров по 14–15, комнаты, одна из которых выходила в садик, образованный стенами соседних домов. В нем росло какое-то китайское плющеобразное дерево, которое расползалось по стенам, и на нем жила белка. Еще был кот Миссисипи.
Мы тогда много говорили, вспоминали, читали друг другу стихи. Кстати, Иосиф никогда не говорил «стихи». Он произносил, чуть-чуть быть может впуская иронию в интонацию, но всегда – «стишки». Эта ирония была как бы своеобразной защитой своего творчества от пошловатой высокопарности мира внешнего.
Я очень люблю первые пять-шесть лет его эмигрантской поэзии. Думаю, что именно тогда он сделал свой основной рывок. «Лагуна»… «Часть речи»… «Двадцать сонетов к Марии Стюарт»… Любовная лирика… Итальянские стихи… В этих стихотворениях – свод трагического лиризма, не созерцательного, а действенно-личностного. В сочетании с его выдающейся техникой и с тем сплавом новаторства и архаизма, который является личной метой его поэтики. Этот лиризм и породил гениальные стихи. Дальнейшие стихи тоже замечательны, но в них решительно введен рациональный элемент – иногда на грани компьютерной техники. Я знаю, что это начало он усиливал сознательно.
Однажды, уже в Америке, он мне сказал, что с годами стал склоняться к тому, что поэзия должна быть бесцветной, что она должна набегать как бесцветные волны времени, что в поэзии ему претит «разрыв на себе рубахи». Он пережил и разлюбил в самом себе этап личного надрыва, наступила пора отстраненной переработки потока времени, который в его случае непомерно велик.
Когда-то Иосиф говорил, что все дело в масштабе, в величии замысла – и так как его личная судьба была уже, в основном, выписана (а он представлял собою совершенный лирический аппарат, которому постоянно нужно перемалывать некую поэтическую материю), – то он пустил в ход новый этап, остыв к предыдущему. Он перешел к иной – гораздо более рациональной – эстетике. Меня восхищают и такие стихи, но задевают и трогают больше – прежние.

Вручение Нобелевской премии И. Бродскому.
Виртуозности в более поздних стихах: в «Бабочке», «Кентаврах», «Назидании» – больше. Она здесь и нужна больше, чтобы свести замысел с воплощением, тогда как в более ранних стихах они сводились сами, их сводило само бытие. И именно бытие обожествляло их, потому что другой божественности, кроме божественности бытия, в поэзии быть не может.
В последний раз мы встретились в Венеции. Стоял ноябрь, наступала зима. Мы гуляли с ним по этому фантастическому городу, он показывал мне его так, как показывают родной город – Пьяццетта, Сан-Марко, старинные палаццо, мы бродили по его любимым венецианским местам – Арсенал, набережная Неисцелимых, старые, отнюдь не парадные улочки. И ни он, ни я не подозревали, что все это – в последний раз.
Я проводил его в Милан. Он был очень трогателен и сердечен и в последнюю минуту сказал, что он что-нибудь придумает, чтобы нам увидеться снова и чтобы я никогда не забывал, что он у меня есть…
СОТОЕ ЗЕРКАЛО (Запоздалые воспоминания) [8]8
Впервые – Новое русское слово. Нью-Йорк, 1989. 9 июня.
[Закрыть]

А. Ахматова
По веским для меня обстоятельствам я взялся за эти записки поздно, когда уже собраны многие материалы к торжеству ахматовского столетия, и вот-вот появятся целые тома и мемуаристики, и литературоведения. На этих немногих страницах я постараюсь не повторять то, что уже опубликовано (прежде всего я имею в виду книгу А. Наймана «Рассказы о Анне Ахматовой» и интервью И. Бродского «Вспоминая Анну Ахматову», данное им С. Волкову). Тут следует сказать, что нам, небольшому кружку ленинградских поэтов (Дмитрий Бобышев, Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Евгений Рейн) многое было известно совершенно однозначно и одинаково. Я имею в виду прежде всего то, что Ахматова называла «наигранными пластинками». Вполне избежать этих «наигранных пластинок» мне не удастся, потому что, отталкиваясь от них, я хотел бы припомнить то, что, как мне кажется, невозможно продублировать, Ведь наша память устроена как некий многоступенчатый коридор, где за поворотом почти всегда открывается что-то неожиданное. Я хочу сказать, что, начиная припоминать, я почти всегда наталкиваюсь на то, чего «не помнил» до начала этого вглядывания в полутьму.
Что касается дат, то они, увы, иногда приблизительны. С датами у меня всегда было неблагополучно, и мне легче вспомнить, в котором часу пошел дождь, чем год, когда то или иное событие «имело место быть».
Впервые я был у Анны Андреевны на улице Красной Конницы, неподалеку от Смольного собора, видимо, весной 1960 г. Но видел я ее и прежде, задолго до этого. Хочу рассказать кратко, как это было.
Двоюродная или троюродная моя тетка Валерия Познанская познакомилась с Ахматовой во время войны в Ташкенте. По ее словам, это было нечто большее, чем просто знакомство. Во всяком случае, после ждановского постановления она не отреклась от Ахматовой, не заморозила до лучших времен свои с ней отношения, а сознательно оживила их.
Была она химиком, специалистом по коксующимся углям, даже лауреатом Сталинской премии. Не очень ясно я припоминаю какой-то рассказ моей матери о том, что Познанская хлопотала зимой 1946–1947 г. о топливе для Ахматовой. Топливо это якобы доставляли из ленинградского филиала того института, где работала Познанская. Большинство ленинградских квартир отапливалось тогда печами, и дровяная проблема была даже более насущной, чем продовольственная. Но в этой истории я не вполне уверен, и она может оказаться семейной легендой.
Весной 1947 г. Познанская приехала в Ленинград и остановилась в гостинице «Астория». Однажды часа в четыре дня она заказала в номер чай с пирожными и закуску, такие вещи практиковались в «Астории» почти до последнего времени. Это был как бы скромный прием в честь Ахматовой. На него Познанская пригласила мою мать, а мама, предварительно договорившись, взяла с собой меня. Все оговорки, сделанные в этой фразе, не случайны. Мне шел уже двенадцатый год, возраст вовсе не младенческий, мама объяснила мне, куда мы идем и кого там увидим. Хорошо помню, что с утра я читал книги Ахматовой, их было три, и они всегда стояли за стеклом в книжном шкафу красного дерева.

А. Ахматова и Б. Пастернак.
Детская память крепка и щедра на детали. Я хорошо помню этот солнечный и ветреный, возможно, мартовский день, номер «Астории» окном на Исаакиевскую площадь. Помню даже ракурс всадника на площади, клодтовского императора Николая. Видимо, это был невысокий, второй или третий этаж.
Анна Андреевна еще худощава, в темном и длинном платье, очень похожа на тот рисунок Тышлера, где она сидит на краешке стула. Но это уже, конечно, позднейшее наложение. Помню, что было еще два или три человека. Что же касается беседы, каких-нибудь фраз или слов, то не помню ничего, да и вряд ли она была откровенна в номере знаменитого отеля, который при посещении Ахматовой, конечно же, прослушивался, о чем приглашенные были хорошо осведомлены.
В следующий раз я увидел Анну Андреевну через тринадцать лет, в 1960 г. Я уже окончил Технологический институт и работал инженером-механиком на заводе. Но по существу занимало меня только стихописание – и вообще стихи, чужие, свои, всякие, всех времен и народов, и та бурная полулитературная-полубогемная жизнь, что кипела в Ленинграде в конце 50-х годов. Сейчас не буду ударяться в подробности, но даже у этих заметок должен быть, пусть самый мизерный, исторический фон.
Уже прошел XX съезд партии с «закрытым» докладом Хрущева, о Сталине думали и говорили, во всяком случае в наших кружках, приблизительно то же, что и сегодня, уже растаяли первые снега оттепели и даже наступило некоторое похолодание. Из литературных событий важнейшими были книги Эренбурга, Паустовского, в поэзии – стихи Пастернака из романа, большие цветаевские поэмы и вообще открытие Цветаевой. Первые, почему-то крайне перевранные, списки Мандельштама, публикации Заболоцкого. О Солженицыне еще никто не слышал, ну и, кроме того, конечно, нас очень и очень занимали стихи из Москвы (Тарковский, Ахмадулина, Слуцкий, Самойлов, Евтушенко). Все это я пишу к тому, чтобы объяснить, что даже в передовых литкружках конца 50-х годов Ахматова совсем не была злобой дня. Могучее возвращение ее поэзии было еще впереди, ведь печатались по журналам только полуклочки и полуобломки, а «красная» книжечка и «Бег времени» еще не вышли. Поэтому такая простая мысль, что где-то тут же, рядом, в Ленинграде живет великий поэт, который и может «связать времена», совсем не сразу приходила в молодые головы. Кстати, об этом же говорит и Бродский в своем интервью.
И вот однажды я все-таки сообразил все это. В киоске «Ленгорсправки» за десять копеек я получил адрес Ахматовой. Сразу же от киоска я отправился к ней. Дверь открыла худощавая женщина, это была Ханна Вульфовна Горенко, первая жена брата Анны Андреевны. Я объяснил, кто я такой, минут на пять меня оставили одного в прихожей, затем Ханна Вульфовна вернулась и провела меня в комнату Анны Андреевны.
Ахматова сидела на узком диванчике, сказала, что неважно себя сегодня чувствует, расспросила меня о моих занятиях, давно ли я пишу стихи, принес ли я их. Стихов у меня с собой не было.
Я напомнил Анне Андреевне про встречу в «Астории» в 47-м году и тут же впервые столкнулся с ее невероятной памятью. Ахматова помнила все: и Познанскую, и чай с пирожными, и мою маму, и меня.
Перед прощанием Ахматова спросила меня, не могу ли я – и лучше всего с каким-нибудь приятелем – помочь ей упаковать библиотеку. Дело в том, что осенью она должна переехать в новую квартиру, в дом Союза писателей на Петроградской стороне. По каким-то формальным причинам в квартиру въехать еще нельзя, а вот книги перевезти следовало бы, тем более, что их совсем немного. Это не писательские книжные пуды и энциклопедии. Легкие сборники стихов, десятитомник Пушкина, несколько очень изящных французских и итальянских книжечек в сафьяне и позолоте.

Е. Рейн
У меня был такой приятель, тоже поэт, тоже бывший студент Техноложки – Дмитрий Бобышев.
И через несколько дней вместе с ним я пришел к Ахматовой. Этот день запомнился мне очень полно и подробно. По дороге к Ахматовой мы купили в хозяйственном магазине мешки из крафтбумаги, в которые тогда убирали на лето зимнюю одежду. В эти мешки мы стали складывать книги. Анна Андреевна сидела тут же на диванчике. Книги мы укладывали очень медленно, разглядывая их, листая, читая автографы. Задавали Анне Андреевне десятки вопросов, иногда чем-нибудь интересовалась и она. Я знаю, что Ахматова всегда предупреждала: прямая речь в воспоминаниях – всегда вранье. Конечно, это так. И все-таки – стилистически почти невозможно обойтись без прямой речи, и я приведу только те фразы, за смысл которых готов поручиться.
– Как у вас дела с иностранными языками? – спросила Ахматова.
– Английский кое-как.
– Читать нужно по крайней мере на двух-трех, хорошо бы еще по-итальянски.
– Но как же этого добиться? – удивляемся мы.
– Просто взять книгу и начать читать, – говорит Ахматова. – Вот уж дело совсем не сложное.
Кого мы любим из «китов» литературы XX века? (Видимо, до этого прозвучала фраза о «трех китах» – Джойсе, Прусте, Кафке).
Я называю Томаса Манна. Не так давно вышел в СССР его десятитомник, и все мы восторженно одолеваем эти «сверхинтеллектуальные» книги. Разговор заходит о романе «Доктор Фаустус». Но Ахматова не разделяет моего восторга: «Слишком много неметчины. А вот Пруст – один из самых лучших, – замечает она. – Он может быть всю жизнь рядом. Его можно читать с любой строки».
– Знаете ли вы, читали ли вы Кафку? – и Ахматова довольно подробно стала рассказывать нам содержание романа «Процесс». – Это как будто кто-то взял вас за руку и повел вас в ваши самые страшные сны. (Эту фразу я запомнил дословно).
Из множества автографов, которые я видел в этот день – Сологуба, Блока, Пастернака – мне запомнился дословно почему-то только такой: «Анне Андреевне Горенко-Гумилевой с верой в ее дарование». Это написал Алексей Толстой на книге своих стихов «За синими реками». Запомнил я эту надпись, наверное, потому что сочетание «Горенко-Гумилева» увидел впервые, да и текст был совсем прост. А вот надпись Пастернака поразила меня многословием (исписанный от края до края весь титульный лист) и каким-то невероятным количеством сравнительных степеней прилагательных.
Что касается «наигранных пластинок», то одну из них мне все-таки хотелось бы пересказать.
Именно этот рассказ Анны Андреевны (а был он довольно долгим, явно превосходил обычные размеры «пластинки») вспоминается мне чаще всего, когда я думаю о Петербурге десятых годов, о такой исторически близкой и все-таки непостижимой обстановке символизма, о «башне» Вячеслава Иванова, о «Бродячей собаке», Блоке, Белом, о Любови Дмитриевне Менделеевой, о том, что за человек был Михаил Кузмин. Может быть, самым важным в интонации Ахматовой было пронесенное через долгие годы чувство своей правоты. Обиды, негодование, ирония полностью сохранили свой «градус». Именно это позволяло почувствовать «ту атмосферу». Никаким чтением, литературой, архивами это заменить нельзя.
Ахматова рассказывала о том, как впервые ее привели в квартиру Вячеслава Иванова – знаменитую башню на углу Таврической и Тверской. Вячеслав Иванов в эту пору был самым влиятельным человеком литературного Петербурга, и от событий, происходящих в его салоне, весьма и весьма зависели литературные судьбы. Ахматова пришла к Иванову днем, и после короткой учтивой беседы он увел ее к себе в кабинет и попросил прочесть стихи. Среди прочего Ахматова прочитала «Песню последней встречи». Иванов сказал, что это стихотворение – «огромное событие в русской поэзии. „Я направую руку надела перчатку с левой руки“, – так еще никто не писал. Тончайшие достижения русской психологической прозы вошли, наконец, и в поэзию». Понятно, что совсем молодую, двадцатилетнюю Ахматову не могло не обрадовать такое полное признание. В тот же день, вечером, когда в «башню» съехался «литературный» Петербург, хозяин попросил собравшихся у него поэтов прочитать стихи «по кругу», после чего произнес нечто вроде импровизированной рецензии. Стихотворение Ахматовой, то самое, что привело его в такое восхищение днем, было им разругано в пух и прах. Так выпали литературные карты в вечерней игре Вячеслава Иванова, так было нужно для его вождистской политики. «Больше на „башню“ меня не тянуло, да и акмеизм сделал из всех этих великих жрецов фигуры отчасти забавные…»
Что касается Михаила Кузмина, мне показалось, что Анна Андреевна рассказывала о нем с очень личной нотой.
Тут было и нечто от доли вины Кузмина в самоубийстве Чеботаревской, и от того, что случилось в 1913 г. с Князевым и Ольгой Глебовой-Судейкиной. Говорила Ахматова о том, что Кузмин делал иногда зло из одного только любопытства поглядеть, как все это получится. Я заметил, что слышу до сих пор о Кузмине (а надо сказать, что в то время я знал в Ленинграде не менее пяти человек из близкого окружения Кузмина) только восторженные, умиленные рассказы.
– Так оно всегда и бывает, – заметила Ахматова, – так уж устроено. Одним не прощается ничего. Если горошины у вас на галстуке будут вот на столько больше (Ахматова показала меру на кончике ногтя), чем принято, вам этого не забудут никогда. А вот для Кузмина петербургские дамы сохранили в памяти только коленопреклонение и фимиам (последняя фраза звучала как-то иначе, но да эти последние слова были произнесены).
Противоположный фатум, т. е. насмешка, ирония, недоверие, перечеркивающие всякую реальность, был, по мнению Ахматовой, уделом Гумилева. Был этот рассказ долгим. И Ахматова не забыла и того, какое замечательное предисловие написал Кузмин к ее первой книге «Вечер», но кончался он приблизительно так:
– Уже в 20-е годы Кузмин царил в салоне Анны Радловой, которую он очень выдвигал, да и сама она сильно играла в литературную политику. Ниспровержение Ахматовой входило в правила этой игры. Говорили они, что я поэт не только не петербургский, но и не петроградский даже, а только царскосельский, но это самое царскосельское место мне и следовало, по их мнению, указать. Удивительно, как мало прошло времени после революции, и эти люди забыли, насколько для петербуржца почетнее было жить в Царском Селе, чем на Песках, где почему-то склубилось большинство «радловцев».
Таких ахматовских «пластинок» я записал пять или шесть. Быть может, когда-нибудь я и воспользуюсь этими записями, но пока что попытаюсь рассказать о другом, что может быть известно совсем узкому кругу людей.

Иосиф Бродский в своем ахматовском интервью вспоминает, как переделывалась строка из стихотворения «Царскосельская ода». Я уверен, что Иосиф ошибается, произошло это не с Анатолием Найманом, а со мной. Поэтому сам Найман и не вспоминает об этой истории в своей подробной книге. Я был одним из первых слушателей «Царскосельской оды». Стихотворение, как мне кажется, очень замечательное. Что-то трудно объяснимое выделяет его из поздних ахматовских стихов, то ли пронзительный, как завывание вьюги, звук, то ли виртуозная историческая живопись, несколько абсолютно точных мазков, воссоздающих 90-е годы в придворном «игрушечном городке». От полосатой будки до «великана-кирасира» на розвальнях, видимо, императора Александра III.
Когда я объяснил Анне Андреевне, как и почему мне нравится это стихотворение, то вдруг заметил, что строчка «Пили царскую водку» может вызвать недоумение у современного читателя. По моему тогдашнему мнению, этот читатель может не понять, что имеется в виду «монополька», т. е. водка, которой торговало царское правительство. В Технологическом институте меня научили, что этим же термином именуется смесь соляной и азотной кислот, растворяющая золото и платину. Кстати, сейчас я думаю, что это была напрасная мнительность. «Но это мне совершенно ни к чему, – сказала Ахматова, – это ваши химические дела».
Но, видимо, многозначная «царская водка» не была забыта Ахматовой, дня через четыре она решила заменить эпитет «царская» каким-нибудь другим. «Вот вы и придумайте», – сказала она. Я ей придумал наречие «допоздна». Наверное, в рукописях можно отыскать ту, раннюю редакцию с «царской водкой». Признаюсь, что теперь «царская водка» мне кажется иногда лучше опубликованного варианта. Но вся эта история всего лишь с одним словом – не свидетельство ли того, как заботилась Ахматова о точности, верности материальной, так сказать, стороны своей поэзии? «Точность – это и есть поэзия», – услышал я как-то от нее. Правда, мне припоминается, что она цитировала то ли Гете, то ли кого-то еще из немцев, а может быть, и не немцев. Этого я припомнить никак не могу.
Хотелось бы сказать хоть немного о том, что сама Анна Андреевна называла «ахматовкой». Термин этот был очень многозначен. Частично он означал разные несуразности, накладки, суету, которые вокруг нее происходили. То, что «ахматовка» была реальностью, а не мнительной выдумкой, неоспоримо. Я был свидетелем случая такой очевидной – и коллекционируемой самой Анной Андреевной – «ахматовки». История эта тем более примыкает к «ахматовке», что сама Анна Андреевна так и не узнала, как все получилось.
Однажды я пообещал приятелю своему Валерию Туру, величайшему почитателю ахматовской поэзии, известному драматургу, представить его Анне Андреевне. Валерий гостил в это время в Ленинграде, а Анна Андреевна жила на своей дачке в Комарово. Так как между «будкой» и городом постоянно двигались «гонцы», то предупредить Ахматову о нашем визите было несложно. В назначенный день мы с утра двинулись в Комарово, побродили по берегу залива, пообедали в станционном буфете и только потом отправились к Ахматовой. Как я и предполагал, на какой-то минуте нашего визита разговор начал «пробуксовывать», в нем появились все более затягивающиеся паузы. Чувствуя себя ответственным за всю эту мной организованную встречу, я начал расспрашивать Анну Андреевну о старых Териоках, Куоккале, Мустамяках и прочей околопетроградской Финляндии. Дело в том, что я попал в эти места очень давно, сразу после окончания войны в 1945 г., потом я, конечно же, узнал, как много всего случилось здесь в начале века, как собирались за вегетарианским столом в «Пенатах» Репина, как прыгал на прибрежных камнях, сочиняя «Облако в штанах», Маяковский, что здесь были дачи Чуковского, Евреинова и Анненкова, как однажды белой ночью на Финском заливе перевернулась лодка, и утонул упавший с нее Сапунов, как давала здесь летние спектакли студия Мейерхольда.
Анна Андреевна живо поддержала этот разговор, тем более что мы находились в этих самых местах, и знала она об этих всех событиях лучше, чем кто-нибудь иной. От дачной Финляндии Анна Андреевна перевела беседу к настоящей Суоми и вспомнила, как она была в Гельсингфорсе вместе с Н. Гумилевым. Среди прочего она заметила, что они побывали на приеме у генерал-губернатора Финляндии.
И тут, перечисляя множество точных дат, фамилий и названий финских городков, она вдруг призналась, что запамятовала фамилию этого генерал-губернатора. «Может быть, Боровитинов?» – внезапно произнес Тур. Последовала небольшая пауза. «Да, действительно, Боровитинов, как славно, что вы вспомнили…» В электричке я спросил у Тура, откуда ему известна генерал-губернаторская фамилия. В ответ Валерий рассказал мне еще один эпизод из жизни «теории вероятности». Всего несколько дней назад он купил в ленинградском букинистическом магазине комплект дореволюционного издания «Столицы и усадьбы» за какой-то год. Оно открывалось страничкой официальных назначений с портретами, там-то он и прочел про Боровитинова.
История эта запомнилась Ахматовой. Не раз она передавала через меня всякие добрые слова для Валерия, называла его весьма знающим молодым человеком, говорила о том, как переменилась в лучшую сторону молодежь 60-х годов сравнительно с послереволюционной. И хотя этот эпизод с генерал-губернаторской фамилией был все-таки случайностью, но образованный и многознающий Валерий Тур гордился им, как мне кажется, даже больше, чем каким-нибудь закономерным успехом. По-человечески это очень понятно. Случайность льстит нам более, чем что-либо ожидаемое от естественного порядка вещей.
А вот случай совсем уж юмористический. Кстати, я его изложил по просьбе Анны Андреевны письменно, и она на моих глазах вложила эти листки в одну из своих книг – не то в Лермонтова, не то в «Тысячу и одну ночь» (в издательстве «Художественная литература» по просьбе Ахматовой для нее делались записные тетради, переплетавшиеся в изящно оформленные переплеты очередных изданий. Блокноты эти потом так, по их обложкам, и именовались).
Быть может, эта запись и теперь находится в архиве Ахматовой.
История эта такова. 1956 г. Помню точно, ибо именно в этом году вместе с несколькими ленинградскими приятелями я впервые путешествовал по Кавказскому побережью. Мы стояли на причале в Сочи и ждали рейсового катера. К нам подошел полуспившийся курортный бродяга – тип, в старое время именовавшийся «стрелком». Без всякой нищенской печали, наоборот, весело и нагловато, он попросил денег. Излагаемая им тут же легенда вполне совпадала с историческим фоном тех лет. «Золотая советская молодежь, – обратился он к нам, – помогите бывшему заключенному добраться до дома, не хватает на билет, добираюсь из лагеря к семье и вот несколько поистратился».
Как он с Колымы или из Казахстана попал в Сочи, этого он объяснять не стал. При этом было очевидно, что он и сам понимал, что вся его болтовня – некая условность, и деньги на вино (тут же на причале из бочки продавали «сухое») он получит почти наверняка. «Ладно-ладно, – сказал ему кто-то из нас, – необходимая помощь будет оказана. Только по какому же делу ты сидел?»
Только на секунду задумался проситель, видимо, с максимальной точностью определив, кто мы такие (я имею в виду наш психологический тип – столичные студенты, расположенные ко всякому «свободомыслию» и т. д.). Свою речь он продолжил так: «Не могу разгласить, дело-то особое, большие люди в него были втянуты, знаменитейшие писатели».
Мы оживились и уже сами побежали за сухим вином. Будущий гонорар его явно возрастал. «Ну вот, расскажи, что знаешь, и получай доплату за плацкарту». – «Вообще-то не полагается, – ответил „стрелок“, – но при вашей доброте ничего не хочу скрывать. Я сидел по делу Зайченко и Ахмедова», – и он многозначительно подмигнул. И вдруг я понял, что Зайченко и Ахмедов – это перевранные им Зощенко и Ахматова. Теперь окончательно стало ясно, что это за тип.
Я сказал: «Деньги только после того, как вы расскажете нам, что это за дело». Рассказчик задумался, в глазах его был туман после двух стаканов «сухого», что-то он припоминал, деньги были так близко, еще одна удачная фраза – и он их получит. И он снова попал «в десятку»: «Дело, молодые люди, государственное. Я по нему подписку давал, об нем когда-нибудь весь мир услышит, только для вас сообщаю: Зайченко ни в чем не виноват, его затянул Ахмедов…» Мы уже все понимали, что нам пересказывается некая фольклорная байка по поводу ждановского постановления. Мы рассмеялись, и он получил свой гонорар.
Анне Андреевне почему-то эта история очень понравилась. Может быть, она считала ее каким-то бредовым отражением истины, ведь она была уверена, что первопричиной постановления 46-го года стала ее встреча с Исайей Берлином, именно с этого камушка и началась лавина. А если так, – а очень может быть, что все было именно так, как считала Ахматова, – значит, действительно, «Ахмедов» затянул «Зайченко».
Вообще же стоило бы отдельно написать об ахматовском юморе, о ее шутках, иронических оценках, о той необыкновенно высокого качества острой сатиричности, каковая исчезла полностью, больше нет таких людей, нет среды, нет культуры, которая позволяла бы вести беседу на таком уровне. Что касается самих «мо», шуток, то они передают этот тон лишь частично: «Это было не в прошлый голод, а два голода тому назад». «Сейчас, сейчас, не отходя от кассы», – говорила она, довольно часто пародируя несусветные советские штампы, которым мы сами редко удивляемся.
Как-то, посылая меня в магазин за водкой и ветчиной, Анна Андреевна дала несуразно большую сумму денег, я сказал, что этого хватит на ящик водки и целый окорок. «Кто же их поймет, эти наши деньги, чего только с ними не было».
Впрочем, многие из этих ахматовских словечек уже записаны. Припоминаю еще замечательную шутку по поводу эрудиции одного из сотрудников Пушкинского дома. Ахматова назвала его «профан-террибль», хотя вообще каламбуров не любила, кроме знаменитого «маразм крепчал».
В своем интервью, вспоминая Ахматову, Бродский довольно подробно пишет о том, как он впервые побывал в Комарово на даче у Ахматовой и познакомился с ней. Да, все было действительно так, как пишет Иосиф, и повез его в Комарово я, предварительно договорившись с Ахматовой. Иосиф захватил с собой фотоаппарат и начал снимать еще на вокзале. Помнится мне, что фотопленка в этот день была отщелкана целиком и Иосиф подарил мне потом три или четыре кадрика, снятых тогда. Кто знает, может быть, где-нибудь сохранились и остальные. Пришли мы к Анне Андреевне раньше назначенного часа, у нее сидели какие-то иностранцы, и мы пошли на Щучье озеро «прогулять время».