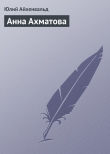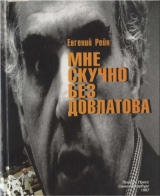
Текст книги "Мне скучно без Довлатова"
Автор книги: Евгений Рейн
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
МУРАВЬЕВО
Хотите дочь мою просватать Дуню?
А я за то
Кредитными билетами отслюню
Вам тысяч сто;
А вот пока вам мой портрет на память,
Приязни в знак.
Я не успел его еще обрамите, —
Примите так!
А. К. Толстой
Туда, туда, где апельсины зреют.
И.-В. Гете
На «Жигулях», ведомых женской ручкой,
мы въехали в ночное Муравьеве
и осветили фарами снега.
Стоял хозяин дома на пороге
своей избушки в девятнадцать комнат,
был стол накрыт, кипел на кухне чай!
О, этот дом был знаменит изрядно,
его построили в годах пятидесятых
на сталинские премии, к нему
прирезали гектаров десять леса,
два прудика, речушку и запруду,
и окружили каменной стеной,
и заперли калитку на засов,
спустив с цепи кавказскую овчарку.
И вот он был открыт – великий дом!
Его хозяин – подлинный хозяин, —
Лауреат, вельможа и писатель,
годами пребывал в любимой Ялте
с женой, секретарем и кошкой Азой.
А здесь вот, в Муравьеве, сын его
свой правил бал; а старшая сестра
давным-давно жила в Канаде
с детьми и мужем, критиком кино.
Был стол накрыт, кипел на кухне чай.
Приехало нас трое: Вова Раков,
водительница наша Виолетта
(ошибочка годов тридцатых, ныне
зовется просто Ветой). Ну, и я.
Хозяина же звали Александром,
по кличке Саня, Саня Шевардин.
Ему пошел двадцать девятый годик,
он выучил пятнадцать языков,
издал ученых книг четыре штуки
и докторскую ересь написал.
(Хотя не защитил еще, а впрочем,
уж верьте – непременно защитит).
Я знал его давно, и был он чем-то
несимпатичен мне и симпатичен;
перемешалось в нем то родовое,
отцовское, с каким-то новым стилем,
уже мне недоступным, – это страшный
провал в десяток лет
Меж мной и Саней. А впрочем,
больше я его любил.
Вот мы уселись, выпили чайку
с вареньями такими и сякими,
с цветочным медом, пряником, ватрушкой,
все было в этом доме, но хозяин
молодой не пил вина, и было поздновато
его искать в поселке Муравьево,
тем более что постная девица,
лет двадцати, уродка и очкарик
(она вела Шевардина хозяйство),
нам объяснила, что вина не может
быть в этом доме: Александр не пьет.
Но я-то знал, что это дом особый,
я двадцать лет бывал у них в гостях
и кое-что соображал.
И я предположил: вино лежит
в каком-то тайнике. Но только где?
Тут подали салат и эскалопы,
и экономка вежливо сказала:
«Оставьте эскалоп и две ватрушки,
еще приедет Леночка Кускова». —
«Какая еще Леночка Кускова?
А кто она?» – «Она? Она – поэт». —
«А ваше мненье, Александр?» – «Мое?
Она – поэт. Но больше секретарша
моя; обширнейшая переписка,
корреспонденты разных континентов,
архивы, связи, – все это она» —
«А кроме этого?» – «А кроме – так,
студентка на третьем курсе
где-то на вечернем
и машинистка фирмы „Интурист“». —
«Ну, ладно. Бог с ней,
все-таки так поздно. Как доберется?» —
«Ходят электрички до двух часов». —
«А можно ли чаек подразогреть?» —
«Не только можно, нужно».
Я вышел в сад. Под северною чашей
небес, где, как сказал поэт,
нет ничего совсем и не бывает,
стоял прекрасный, строевой, сосновый
японским лаком отливавший лес,
в нем что-то копошилось, верно, белки,
и мартовские звезды крупной солью
рассыпались, и от залива шел
соленый дух Атлантики и жизни. И где-то
пел Высоцкий на Магнитке.
И было хорошо. Но где вино?
И тут я увидал – в калитку входит
высокая фигурочка в дубленке
с авоськами и сумками. «Ах, вот,
приехала. Привет тебе, Кускова». —
«А вы тот самый?» – «Да, тот самый я». —
«Хотите выпить?» – «Очень, очень, очень.
Но мы вина, увы, не захватили.
Оно есть в доме? За все ответственность
беру я на себя». – «Не знаю, тут немало
есть секретов Шевардиных.
И я не знаю где». —
«А есть ли здесь чердак?» – «Чердак?
Конечно. По задней лестнице наверх.
Там будет люк с кольцом. Откиньте и влезайте». —
«Попробую. Идите в дом, Елена.
А то под этим белофинским небом
вы слишком соблазнительны». —
«А вы уж что-то больно скоры на забавы» —
«Ну-ну, идите». И она ушла.
Я люк откинул, снял ботинки, чтобы
меня не услыхали те, внизу.
И чиркнул спичкой. Боже! Боже правый!
Какие сундуки, сто чемоданов,
Рояль без ножек, битое трюмо,
Лопаты, грабли, скаты старой «Волги»,
не то, не то, портрет вождя работы
Герасимова, чуть ли не авторское
повторенье, портрет Хрущева —
фото в толстой раме,
портрет какой-то дамы в полушубке,
ушанке со звездой и с автоматом
через плечо – за нею саквояж.
Попробуем – не поддается!
Что ж, подсунем ключ.
И повернем, как фомкой. Ух!
Открывается. Ну, разве я не прав?!
Четырнадцать бутылок «Еревана» —
все это куплено давно, когда бутылка
такого коньяка еще была доступна,
теперь цена ей сорок пять рублей!
Ну, сколько взять? Четыре для начала.
И я, тихонько на носки ступая,
спускаюсь вниз с бутылками,
усердно держа их за утонченные горла,
и прячу в гардеробе под пальто.
А в комнатах уже неразбериха:
Скучает Виолетта, Вова Раков
грызет мизинец – старая привычка
прославленного кинодраматурга,
плейбоя и истерика. Кускова
дожевывает жадно эскалоп,
ватрушки ест и запивает чаем.
Я объясняю им по одному тихонечко,
что нынче происходит.
Выходим погулять. В моей дохе
за пазухой бутылки.
Под муравьевским небом «Ереван»
прекраснее мальвазии Шекспира,
прекраснее бургундского Рабле
и лучше булгаковской белоголовки.
Он греет, он наяривает в жилах,
и мартовская ночь так широка,
и светят окна шевардинской дачи,
и нам пора обратно. Третий час.
А утро все же утро: и работа,
И Ленинград, и множество забот.
Нас четверо: домохозяйка Сани
и сам он не пошли гулять, – они должны
вычитывать всю эту ночь работу:
«Старофранцузский суффикс „эн“,
его значение, закат и возрожденье».
И вот четыре допиты бутылки,
за час прогулки мы совсем пьяны.
У Виолетты десять лет роман
с Вовулей Раковым, они ушли вперед
и говорят на собственном наречье
запутавшихся старых побратимов
любви и дружбы, – верно, есть у них
о чем поговорить. А я с Кусковой
целуюсь под ущербною луной на голубой
заснеженной поляне под елями и соснами.
Она так молода, ей двадцать два, мне сорок.
Распахиваю жалкую ее
плешиво-самодельную дубленку —
целую плечи, шею, грудь, живот
под трикотажной кофточкой. Тепло,
и «Ереван» свое свершает дело, и так
неспешно падает снежок с еловых лап,
и все еще Высоцкий поет, что Лондон,
Вена и Париж открыты, но ему туда не надо.
И я считаю: прав певец, куда, зачем
в такую ночь, когда у нас поля заснеженные
в тихом Муравьеве. Я говорю ей:
«Лена! Девятнадцать на даче комнат,
где-нибудь для нас найдется тоже
уголок укромный». – «Нет, не могу!
Не здесь! У нас роман с Шевардиным,
и он меня прогонит». – «Он не узнает,
девятнадцать комнат, в них можно затеряться». —
«Не могу!» – «Эй, вы куда пропали?» —
Виолетта аукает, и мы идем домой.
Сияют окна. Александр не спит.
Домохозяйка зверски правит гранки.
Трезвонит телефон. «Алло, Париж?» —
и чешет Александр по-европейски.
Потом он вызывает Монреаль,
потом зачем-то Мюнхен и Варшаву…
Боже, Боже мой! Десятка полтора годков назад,
когда студентом, другом той сестры,
что сгинула в Канаде, я ходил
вот в этот дом, когда его хозяин-лауреат
вещал под простоквашу о судьбах той литературы,
где творили Толстой, и Достоевский, и Леонтьев,
когда хозяин этой дачи щедро делился с нами
новостями съездов и пленумов СП…
Да я бы душу отдал Люциферу в заклад
и на пари, что нет, не может быть вот этой
ночи. Пора в постели. Раков с Виолеттой
закрылись на веранде, я иду в пустую
спальню – две таблетки снотворного —
– не спится.
А телефон Шевардина звонит, звонит,
звонит.
И чьи-то беглые шаги по коридору,
я выхожу: Кускова в полосатой пижаме
Александра после ванны идет в постель,
туда к Шевардину. Теперь попалась!..
Опять звонит какой-то Авиньон,
сестра, возможно; это к ней, сюда,
на эту дачу двадцать лет назад
приехал я. Теперь и спать охота,
подействовало. Все, конец, провал.
На кухне завтрак. Вова, Виолетта уже
уехали куда-то дальше, в Выборг,
средневековый шведский городок.
Сам Шевардин с домохозяйкой будут
спать до двенадцати. Кускова ест
икру, остаток паюсной, засохшей
в старой банке. Я ем сосиски.
Ну, пошли, пошли. На электричке
десять-двадцать в город мы отбываем.
Но пока спешим по волглому, расслоенному
снегу поселка Муравьево. Облака
расходятся, и свежим солнцем марта
покрыто все. Поселок Муравьево,
едва дымясь, едва перевернувшись
на левый бок, свой начинает день.
И пробегает лыжник в алой форме,
уж слишком как-то профессионально
бежит он – очевидный чемпион.
Куда же он, куда? Дахин, дахин,
Туда, туда, где апельсины зреют.
1976
НЕ ПОСЯГНЕМ НА ТАЙНУ
Сережа, Сергей, Серж… Я вспоминаю, как видел его в последний раз. Это было в аэропорту «Кенне» в Нью-Йорке. Он привез меня на своем старом «олдсмобиле», помог дотащить чемодан до багажной стойки. Времени почти не оставалось. Поцеловались, пожали руки. «Долгое прощание – лишние слезы», – сказал я. «Ничего, скоро увидимся, теперь другие времена», – ответил он. Повернулся и пошел к выходу. Я смотрел ему вслед. Он был на голову выше всех в этом переполненном, толкливом зале. Пестрая рубаха, могучая фигура.
Мы были знакомы больше тридцати лет. Ленинград, Пушкинские Горы, Таллинн, теперь вот Нью-Йорк.
«Кто может знать при слове „расставанье“, какая нам разлука предстоит?».
Мы жили по соседству, через дом. Мой девятнадцать, его – двадцать три по улице Рубинштейна (в Петербурге – Троицкой). Разделял нас только Щербаков переулок. В начале 70-х я перебрался в Москву, но моя комната еще несколько лет сохранялась за мной. Я приезжал и жил подолгу, иногда месяц-два.
В эти времена Сережа приходил ко мне почти ежеутренне, он выходил гулять с фокстерьером Глашей прямо в тапочках на босу ногу (даже в осеннее время), добывал две-три бутылки пива и появлялся у меня в комнате. При этом Глашу неизменно нес подмышкой.
Я старался позабавить его какой-нибудь московской историей, но вскоре вступал Сергей и говорил долго и увлекательно. О службе в ВОХРе, о литературных делах, о своей семье, особенно часто о похождениях Бориса – двоюродного брата, иногда истории уходили в детство, возникал актер Николай Черкасов, отец Сергея – Донат Мечик, Зощенко, Алексей Толстой. Через тетку – сестру матери Мару Довлатову, одного из лучших литературных редакторов Ленинграда Сережина семья была связана с писательской средой очень основательно. Во всяком случае сороковые годы, война, тридцатые – все это всплывало в рассказах Сергея.
Я сразу же обратил внимание на очень высокий профессиональный уровень этих рассказов. Это были не смутные разодранные клочки, нет, сюжет проводился изобретательно и отчетливо, характеры обозначались ясно и ярко, реплики стояли на точных местах, были доведены до афоризма, гротеска, пародии. Короче говоря, это были прообразы рукописи, это были куски литературного труда.
Я тогда же сказал ему об этом, но кажется, не удивил Сергея. Он и сам знал это. Быть может, он проверял на мне свои заготовки, быть может частично это уже было написано. Потом в довлатовской прозе я встречал фрагменты этих рассказов, встречал и детали из них, перенесенные на другой, так сказать, «холст».
Как-то в Таллинне, уже несколько лет спустя я выслушал замечательный, захватывающий, яркий рассказ об одном Сережином приятеле – журналисте, чудаке, неудачнике. Затем Сергей представил мне героя своего рассказа, и я на неделю остановился у него в комнатах в какой-то заброшенной даче в Кадриорге. Это был действительно чрезвычайно особый человек. Особый до загадочности, до каких-то таинственных с моей стороны предположений. Это о нем написан один из лучших довлатовских рассказов – «Лишний». Сейчас мне очень трудно отделить фактическую сторону дела от общей ткани рассказа. Здесь вскрывается один из механизмов работы Довлатова. Задолго до написания рассказа он создал образ, артистически дополняющий реальность. Прежде чем он был записан на бумагу, этот рассказ состоялся дважды. Сначала в виде устной модели, художественно-выразительной, почти гротескной, но сотнями нитей связанный с реальностью. И последующие события, связанные с героем, уже сами выводили канву повествования, действительность как бы сама писала этот рассказ, опираясь на то, что предварительно было придумано автором.
Несколько лет подряд я ездил к Довлатову в Эстонию. Как я теперь понимаю, «эстонские» годы для Сережи были временами двойственными, одновременно и «способствующими» и мучительными. Он стал профессиональным литератором (что было для него очень важно), был признан внутри своего цеха, был окружен вниманием, даже своеобразным почетом. И в то же время его изводила лживая журналистская работа, проза его пылилась невостребованная в издательских кабинетах, столичный литературный поток шел мимо него. Все надежды, все жизненные планы упирались в одно – в книгу, готовившуюся в Таллиннском издательстве. По обстоятельствам того времени в этом не было ничего маниловского, сверхъестественного, события более подтвердили, чем опровергли основательность выбранного Довлатовым пути. Ведь книга дошла до «чистых листов», еще две-три недели, и она вышла бы в свет, и тогда, возможно, все сложилось бы в сережиной жизни иначе.
Тем сокрушительнее была для Сергея катастрофа, постигшая книгу. Я не буду об этом рассказывать подробно. По роковой случайности (конечно же, в чем-то закономерной) в последний момент книга привлекла внимание эстонского КГБ, была рассыпана, над автором стали сгущаться тучи не только литературного свойства. Сергей покинул Таллинн и вернулся в Ленинград.
И все-таки эстонские годы, мне кажется, были благотворны для него. Я вспоминаю его на фоне симпатичной и немного игрушечной таллиннской старины, за столиком кафе, в баре редакции, в его доме на Рабчинского, 41, в маленьких городах Эстонии. Огромный, яркий, очень пластичный, по какому-то закону контраста очень подходил к этой декорации. Он хорошо знал Эстонию, относился к ней с симпатией, может быть, чуть-чуть юмористически (что, впрочем, вообще неотделимо от его ментальности). И эстонцы чувствовали в нем друга, до известной степени «своего» человека.
Помню, как мы поехали с ним писать репортаж о съемках фильма «Бриллианты для диктатуры пролетариата». В Кадриорге была построена декорация, летний ресторан имитировал светскую жизнь 20-х годов. За столиками сидела нарядная публика, среди статистов были знаменитые актеры – Кайдановский, Волков. Режиссер фильма был моим старинным знакомым – он предложил нам сняться за одним из столиков. Для Сергея долго искали пиджак, галстук, трость – и сразу он стал самым ярким, самым колоритным человеком на съемочной площадке. Помню, панорама начиналась сразу же с крупного плана Сережи. И оператор, и я, и все вокруг залюбовались им. Вел он себя ловко, свободно, выглядел великолепным денди «прекрасной эпохи». Потом, как это всегда бывает, эпизодик этот оказался вырезанным, но кто знает, может быть, сам кадр где-то и сохранился.
Удивительно, что этот бывалый, все повидавший в жизни, прошедший огонь и медные трубы человек был самым литературным из всех тех сотен литераторов, что довелось мне повстречать в жизни.
Часами он мог говорить о литературе, вывести его из себя, довести до ярости, до отчаяния мог только литературный спор. О, как он почитал, знал, любил новую американскую литературу! Как свободно он мог цитировать Чехова, Зощенко, Платонова! Как тонко он разбирался в стихах, отличая модное от истинного, вычурное от подлинного. Еще в самом начале он отметил, отличил поэзию Иосифа Бродского. Стал почти маниакальным почитателем его и оставался таким до конца.
Почти дословно помню, как он во время какого-то разговора разгорячился и закричал: «Ни одной минуты не стану тратить на починку фановой трубы или утюга, потому что у меня полно литературных дел, и чтение – это тоже мое литературное дело!»
Я трижды побывал в Нью-Йорке до Сережиной кончины. Бродил с ним по Великому городу, ночевал у него в Квинсе, вместе с ним выступал перед русской и американской аудиторией. Вместе с Бродским он был ведущим моего первого американского вечера. Когда я впервые увидел его после отъезда, перерыв в наших очных отношениях составлял 10 лет.
Я ждал его в садике, примыкавшем к квартире Бродского на Мортон-стрит в Гринвич-Вилледж. Раньше назначенного часа отворилась калитка, и вошли Лена и Сережа. Если Сережа и переменился, то только в том смысле, что стал еще (хотя куда бы!) больше, заметнее, красивее. От природы элегантный, он был со вкусом, даже празднично одет. Мне он показался свежим и сильным, каким бывает человек после купания или лесной прогулки. Все в его жизни было правильно, он был на месте, он был хозяином своей жизни и своего дела. Вот чего недоставало ему, и теперь его новая жизнь так ему шла!
Мы отправились побродить по городу, сначала по Манхэттену, потом взяли такси и поехали на Брайтон-Бич. Меня поразило – он и здесь был известен, любим, его весело приветствовали в магазинах, на океанском берегу, в барах, куда мы два или три раза заходили, наступил обеденный час, и он повел Лену и меня в ресторан «Одесса», где снова оказался желанным и знаменитым гостем. Я замечал, как ему приятно все это. Здесь не было никакой показухи, эмигрантского пижонства: просто приехал старинный приятель, и он вводил его в свою новую жизнь с ее лучшей стороны, ибо ведь не магазинами, Рокфеллер-центром, и брайтоновской «Одессой» гордился он, нет, на фоне всего этого ошеломительного пейзажа он принимал друга, деликатно показывая ему, как может повернуться жизнь, как следует принимать эти новые обстоятельства.
И кроме того (а может быть, важнее всего) было то, что за всем этим стояли уже вышедшие книги. Теперь не надо было нервно постукивать по папке с рукописью. Были книги – «Зона», «Компромисс», «Наши», «Заповедник», «Иностранка» – и они говорили сами за себя.
Он гордился и успехом своих английских переводов, передав мне едва ли не в первый час нашего свидания реплику Курта Воннегута. Сережа обратился к нему при встрече с какой-то весьма скромной просьбой более информативного, чем конкретного характера. Воннегут уклонился, но привел сильную мотивировку для такого ответа: «Чем я могу помочь человеку, который постоянно печатается в „Нью-Йоркере“, сам я там не печатаюсь». Тут надо вспомнить, что «Нью-Йоркер» действительно является вершиной мирового журнального Олимпа. И он постоянно печатал английские версии сережиных рассказов.
Мне трудно сейчас отличить, что в какой мой визит было сказано. Уже пошли первые публикации довлатовской прозы на родине, и я пытался объяснить какие-то тонкости нового положения дел. Сережа говорил об этом спокойно, без ажиатации, казалось, его больше всего беспокоят порядок и точность этих публикаций (аккуратность в делах вплоть до педантизма была важной чертой его характера, и это была профессиональная черта, свойство «добрых нравов литературы», как говорила Ахматова). Но конечно же, в этом спокойствии было удовлетворение, и потом оно было следствием того, что передо мной находился человек с окончательно состоявшейся судьбой. Дело было сделано, проза была написана, давний разбег вывел бегуна на дистанцию – результаты были закономерны. Я думаю – так надо было понимать может быть чуть показное спокойствие Довлатова.
«Когда человек умирает, изменяются его портреты». Теперь это общеизвестная сентенция. Но, может быть, они не вовсе изменяются, а становятся правдивее, точнее. Вглядываясь в духовный портрет Довлатова из нынешнего дня, я вижу прежде всего поразительную цельность его дарования, оно объединяло его вкусы и образ жизни, поставленные им перед собой литературные задачи и взгляд на общие ценности бытия. Короче говоря, главным в его жизни были эстетика. Стиль прозы и идеал жизни, именно идеалы во всех проявлениях должны были быть достойными, осмысленными, значительными, ни в коем случае не претенциозными.
Такой должна была стать фраза в рассказе, но и общий замысел всей творческой судьбы его был основан на том же фундаменте. Как он добивался этого? Трудно, даже невозможно ответить исчерпывающе. Это его тайна, если иметь в виду ответ, абсолютно объясняющий его искусство. Не посягнем на эту тайну.
МОЙ ЭКЗЕМПЛЯР «УРАНИИ»
Передо мной темно-синяя книга немного необычного формата. На обложке белый шрифт – «Иосиф Бродский – Урания – Ардис» и рисунок – некое мифологическое существо, может быть Зефир или Борей, раздувает щеки.
Выходные данные сообщают, что книга вышла в ноябре 1987 года. А была она мне подарена Бродским в октябре 1988-го. Даже известно, какого именно числа – 4 октября. Это написано на книге.
Я прилетел в Нью-Йорк 18 сентября. Это был мой первый в жизни визит на Запад. В нью-йоркском аэропорту пришлось порядочно постоять в очереди к чиновнику паспортного контроля, потом долго тащиться с чемоданом по какому-то переходу. «А что, если меня не встретят? Или уйдут, не дождавшись? Как быть? Я даже не умею здесь пользоваться телефоном-автоматом», – думалось мне. Вот и холл, наполненный встречающими. Таблички с именами, выжидающие, напряженные лица. Вглядываюсь – меня никто не встречает. Надо сообразить, что делать дальше. Адрес у меня есть.
И вдруг, прямо над ухом: «Женюра, ну куда ты смотришь!?»
Передо мной стоит Иосиф.
Шестнадцать лет я его не видел, и вот – не узнал. Он сильно переменился. Лицо стало как бы негативом того молодого, еще не окончательного облика, который я знал в 60–70-е годы. Волос больше нет. Круглые очки.
А рядом – красавица Ася Пекуровская. Осина и моя приятельница еще по Ленинграду. Вот она не изменилась ничуть.
На большом черном «мерседесе» Иосиф повез меня к себе в Гринвич-Вилледж. В Нью-Йорке стояла прелая осенняя жара. Наконец-то я сбросил костюм, постоял под душем, влез в белые джинсы, майку. Через десять минут Иосиф сказал:
– Пойдем, нас уже ждут.
– Куда? Кто нас ждет?
– Ну, вот увидишь. Едем в японский ресторан. Сырую рыбу с морковкой любишь?
– Да все равно.
Вглядываюсь из машины в эту теснину зеркальных лакированных стен, витрин, каких-то пестрых навесов, стометровых реклам. Не то, чтобы не понимаю, – даже не чувствую еще. Все это находится пока за порогом сознания, словно в предутреннем глубоком сне.
Ресторан, неглубокие ниши, в них низкие столики с керамической посудой. Мы подсаживаемся к коротко остриженному, очень ладному человеку в темных очках. Мне кажется, я его знаю, когда-то видел. И действительно, ведь это Михаил Барышников.
Столик обрастает людьми, девушки щебечут, кто-то незнакомый назначает мне на другой день свидание в «Новом Русском Слове». Сырую рыбу взять в рот невозможно, тепловатое сакэ – гораздо хуже нормальной русской водки. Но все замечательно. Иосиф возбужден, весел, ежеминутно шутит, переводит с английского, испанского (с нами сидит еще и испанская художница, по словам Иосифа, герцогиня, в общем, аристократка и красавица, хоть и в летах). Он переводит мои рассказы, хотя я и сам пытаюсь лепетать на некоем эсперанто. И мне кажется, что шестнадцать лет разлуки сошли с его лица, он помолодел на глазах, кинолента жизни открутилась назад.

Е. Рейн.
И все прекрасно. Сакэ тоже можно пить, ресторан гудит, на эстраде японец играет на саксофоне, испанская герцогиня рассказывает о своем замке в окрестностях Саламанки, даже приглашает туда. И вдруг под парами этого благодушия возникает печальная мысль: поздно, поздно, ты опоздал, тебе пятьдесят три года. Привычно подыскивается рифма, и я говорю Иосифу, указывая на себя:
О, Евгений, бедный Йорик,
Поздно ты попал в Нью-Йорик.
Он хохочет, хлопает в ладоши, и тут же переводит экспромт на английский и испанский.
Я живу в том же доме, где и Иосиф, на Мортон-стрит, 44. Наши квартирки дверь в дверь, через коридор. Соседка Иосифа Марго, сотрудница «Амнисти интернейшенэл», уехала на месяц в Англию. Но по сути дела, если мы не осматриваем Нью-Йорк, не наносим визиты, не ходим по магазинам, то сидим в садике, примыкающем к его комнатам. Здесь почти прохладно, вокруг единственного могучего дерева вьются лианы (Иосиф уверяет, что все это китайские растения), стоит плетеная мебель, длинный стол, годный, пожалуй, и для пинг-понга. Здесь мы и обедаем, если лень идти в ресторан. Тут же у корейца в лавочке набираем каких-то экзотических блюд, пива, фруктов. Бывают у нас и гости. Позавчера заходил Томас Венцлова, сегодня попозже придет Довлатов с женой Леной. Но пока мы одни.
– Пожалуй, вот что, – говорит Иосиф (по-ленинградски отчетливо слышно «ч» в его «что»), – я тебе сейчас подарю «Уранию» с примечаниями.
Вот она, эта «Урания» передо мной. На обороте обложки сверху красными чернилами написано:
Прислушайся: картавый двигатель
поет о внутреннем сгорании,
а не о том, куда он выкатил
об упражненьи в умирании —
вот содержание «Урании».
Под этим крупно нарисован кот – тотем Бродского, – записывающий нечто в раскрытую тетрадь. В левой лапе у него зажата не то авторучка, не то дымящаяся сигарета. Кот полосат, сияющие его глаза прорисованы особо тщательно, за котом – флаг Соединенных Штатов. Чтобы не было сомнения, что это американский кот, над ним написано «звезды и полосы», и стрелки указывают на глаза и полосатые спинку и хвост. На спине кота значится его имя – Миссисипи (кстати, реальный кот Бродского, этот самый Миссисипи, дремлет тут же на дальнем конце стола, до отвала наевшись вместе с нами сладкой корейской курятины). В центре страницы крупно выведено: И. Б.
Форзац книги, где ардисовская лошадка тащит свой дилижанс, расписан уже синими чернилами. Над дилижансом:
Женюре, знавшему заранее
возможности мадам Урании.
Под дилижансом надпись: «С безграничной нежностью, с благодарностью и с любовью от Джозефа. 4-е окт. 1988 г. N. Y.» Перелистываю эту книгу…
Страница 13. Стихотворение «Посвящается стулу». Седьмая строфа. В строчке«…он выпрыгнет проворнее, чем фиш…» слово «фиш» подчеркнуто и рядом на полях в скобках написано «И. X.». Это безусловно напоминание о том, что рыба является древним символом Иисуса Христа и знаком первых христиан. Под стихотворением надпись: «Страстная неделя».
Страница 15. Стихотворение «Шорох акации». Над текстом вписано посвящение: «Веронике Шильц» – давнему и верному другу Иосифа.

М. Барышников. Париж. 1982 (?). Фото Нины Аловерт.
От строчек«…там поет „ла-ди-да“, трепеща в черных пальцах, серебряная дуда» проведена стрелка и написано – «Charlis Parker». Таким образом, назвав имя великого джазиста, Бродский уточняет, какую именно музыку, чью мелодию он здесь имел в виду. Под текстом вписана дата: «74–75».
Под стихотворением «Полдень в комнате» (страница 26) дата указана уже неуверенно, с вопросительным знаком «1974? 75?» Но зато точно названо место написания – «Ann Arbor Plymuth Rd». От строки«…мы пьем вино при крупных летних звездах…» – стрелка и пояснение: «Васко Попа и я».
Васко Попа – современный румынский поэт, если не ошибаюсь, эмигрант. Вполне возможно, что Иосиф встретился с ним на известном Роттердамском поэтическом фестивале. Кстати, в 1990 году я был на этом же фестивале, туда приехал и Иосиф вместе с Дереком Уолкотом. Были они в Роттердаме всего три дня, и эти дни мы почти не расставались. Сидели в какой-то знаменитой пивной, и спутница Дерека все время щелкала фотоаппаратом, в отличие от подавляющего числа фотолюбителей она сдержала свое слово, и я получил пачку фотографий, запечатлевших эти дни.
Страница 29. Стихотворение «Война в убежище Киприды». После текста идет пояснение, какая именно злоба дня вызвала к жизни эти три строфы: «Короткая война между греками и турками на Кипре».
Страница 43. Небольшая поэма или длинное стихотворение «Новый Жюль Верн». От седьмой строфы, которая состоит из реплик, произнесенных в каюте океанского лайнера, – стрелка и вписанная стихотворная строка: «О, иностранное слово среди пароходного шума».
Это строчка из моего старого стихотворения «Японское море», написанного еще в 1957 году. Видимо, Иосиф напоминает мне здесь, что сама тема океанического путешествия и разговоры на палубе и в каютах, которые как-то стилизованы в том моем давнем стихотворении, подвели его к подробной разработке того же приема в «Новом Жюль Верне».
Под огромным многосложным «Литовским ноктюрном» рукописная дата «1971–1984». Дата, свидетельствующая о тринадцатилетнем усилии, которое понадобилось для создания этого образцового шедевра маньеризма.
На странице 68, где напечатано стихотворение «Полярный исследователь» и типографски проставлена дата «22 июля 1978 года», рукой Иосифа помечено «День рождения М. Б.»
«М. Б.» – это инициалы Марины Басмановой, ленинградской художницы, подруги Бродского в 60-е годы, столь много значившей и в жизни его, и в поэзии. Видимо, этот день был памятен Иосифу, хотя сам текст стихотворения не дает прямых ассоциаций и, на мой взгляд, никак не связан с пронзительной лирикой, обычно адресованной М. Б.
Инициалы «М. Б.» уже в полном соответствии с давней традицией Бродский проставил на странице 30 (стихотворение «Строфы»), странице 47 (стихотворение «Помнишь свалку вещей на железном стуле»), странице 90 («До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу в возбужденье…»).
Страница 72. Знаменитое стихотворение «Пятая годовщина». Помечены строки:
Я вырос в тех краях. Я говорил «закурим»
их лучшему певцу. Был содержимым тюрем…
От слов «их лучшему певцу» стрелка и надпись: «Е. Рейн, хозяин этой книги».
Оставляя на совести Бродского столь невероятное определение, я должен заметить следующее. Несколько раз я слышал, что эта строчка имеет в виду Владимира Высоцкого. На мой взгляд, это невозможно. Все это стихотворение ретроспективно, написано из настоящего в прошлое, из нынешней эмигрантской жизни в былую, ленинградскую. А с Высоцким познакомился только в эмиграции (кстати, он подарил мне фотографию, сделанную в день этого знакомства). Так что «лучшего певца» следует искать среди прежних, еще доотъездных сотоварищей Бродского, и кроме того, «певец» в данном случае представлен в традиции 19 века – это просто поэт-сочинитель.
На странице 85 от руки вписано посвящение к стихотворению «Квинтет» – «Марку Стрэнду». Это друг Бродского. Под стихотворением и на полях на странице 87 Иосиф поясняет: «Анти-Элиотовское стихотворение; в английском варианте называется „Секстет“ – 6 частей; посвящено замечательному американскому поэту Марку Стрэнду».
Страница 91. Знаменитое, несомненно входящее в «гвардию» Бродского, стихотворение «Пьяцца Маттеи». На нижнем поле страницы надпись: «Все, описанное здесь, – чистая правда, полный акмеизм». После стихотворения рукой Иосифа помечена дата «1981» и место «Рим».
В этом очерке затруднительно разобрать связь Бродского с поэтикой серебряного века. Это, безусловно, особая тема, еще практически не разработанная. Но характерно, что Бродский, подчеркивая объективность, даже документальность «Пьяцца Маттеи», употребил термин «акмеизм», а не реализм, например, как можно было бы ожидать. Быть может, здесь сквозит дальнее эхо бесед с Ахматовой. Явное, легко дешифруемое влияние Цветаевой особенно на раннее творчество Бродского стало общим местом нашей критики. Но Бродский, конечно же, связан и с Ахматовой, только глубже, потаеннее. Здесь, в гениальном стихотворении «Пьяцца Маттеи» это ахматовско-акмеистическое влияние проглядывает очевидно, но не прямолинейно, еще надо подумать, как его очертить, доказать; оно, словно камень, лежащий на дне быстрого ручья, его изображение все время колеблется течением.