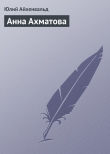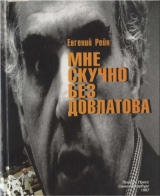
Текст книги "Мне скучно без Довлатова"
Автор книги: Евгений Рейн
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
ГЛАЗУНЬЯ НА ДЕВЯТЬ ЯИЦ
Это было в августе 1956 года. Вместе с Дмитрием Бобышевым я возвращался из Прикарпатья в Ленинград. Ехали через Москву. Еще в поезде мы решили найти Пастернака. В Мосгорсправке за пятнадцать копеек нам дали его адрес. Тут же мы отправились в Лаврушенский переулок, нашли дом, подъезд. В подъезде сидела консьержка.
– Вы к кому?
– К Пастернаку.
– Нет его, он на даче, – и отвела глаза.
И я вдруг понял – она врет. Мы ушли, побродили по окрестным переулкам, выпили пива у ларька и вернулись. В подъезде никого не было, консьержка куда-то ушла.
Мы бросились к лифту и поднялись на седьмой этаж. Чтобы подавить смущение, я сразу же нажал кнопку звонка. Дверь распахнулась мгновенно. В проеме стоял Пастернак – белые полотняные брюки, пиджак из синей диагонали, загорелое, почти бронзовое лицо, короткая, но запущенная стрижка. Белок левого глаза, ближе к переносице залит кровью. Тогда это называлось «лопнул сосуд».
– Борис Леонидович, здравствуйте! Простите, пожалуйста, мы к вам.
– Заходите, мальчики.
Комната совсем небольшая, одна стена – книжные полки, затянутые синим сатином. Рядом – высокое старое бюро. Я взглянул в окно – оно выходило на церковь.
Пастернак сел на венский стул, мы – на диванчик.
– Ну, рассказывайте, откуда вы?
Мы стали рассказывать. Он слушал тихо, внимательно, иногда задавал вопросы: кто родители? стихи пишете? что читаете? кто ваши любимые поэты?
Я назвал книги Пастернака, начиная с «Близнеца в тучах». На это он промолчал. Стихи прочесть не попросил. Стал говорить сам.
– Я написал роман. Писал его очень долго. А задумал совсем давно, еще до войны. Это о нашей жизни, обо всем, что случилось с моим поколением.
– И о лагерях? – спросил Бобышев.
– Нет, лагеря там впрямую нет, – ответил Пастернак, – ведь наша жизнь – не только лагеря.
– А что будет с романом? – спросил я.
– Я думаю, что его напечатают. Сначала, может быть, в журнале, а потом он выйдет в «Гослитиздате».
Так за три года до истории с «Доктором Живаго» мы узнали о его существовании.
– Может быть, вы хотите меня о чем-нибудь спросить? Я отвечу, как умею.
Мы стали спрашивать о Цветаевой, о Маяковском, о Мандельштаме, Ахматовой, Павле Васильеве.
Он отвечал коротко, правда, фразы громоздились, набегали одна на другую. Помню, он посоветовал найти Ахматову.
– Ведь Анна Андреевна живет у вас в Ленинграде. Я думаю, что ждановское постановление теперь уже не имеет прежней силы. Может быть, через год ее издадут.
Он опять ошибся, как и в предположениях о своем романе. Но в этом случае только на два года.
– Вы голодные? – внезапно спросил Пастернак.
Мы переглянулись.
– Хотите яичницу? Есть белый хлеб, я поставлю чай.
И он вышел.
Мы стали рассматривать книги на полках. Их было не очень много, целый ряд – сборники стихов, другой ряд – французские книги – Пруст, Верлен, Валери, еще какие-то немцы, наверное Рильке. Стояло не совсем полное собрание Льва Толстого, то, в котором около сотни томов.

А. Мальро, В. Мейерхольд, Б. Пастернак.
Вошел Пастернак.
– Пойдемте на кухню.
Кухонька оказалась совсем тесной. Мы втроем еле-еле поместились. На столе стояла огромная, по-моему еще дореволюционная, сковорода. И в ней – такая же большая глазунья. Я не поленился – сосчитал желтки. Их было девять.
– Вы знаете, какой у меня в ваши годы был аппетит? Ого! – сказал Пастернак.
Целиком нарезанный кирпич белого хлеба лежал в соломенной хлебнице. На плите кипел чайник, на нем подогревался заварочный.
– Кладите побольше сахара, сахар нужен для питания мозга, он укрепляет память. Как у вас с памятью?
– По-моему, все в порядке, – сказал я и прочитал пастернаковское стихотворение «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь…»
Пастернак не перебил меня, не сказал ни слова. Несколько секунд мы молчали. Потом он медленно с расстановкой произнес:
– Теперь я пишу иначе – проще и лучше. Мои новые стихи будут изданы вместе с романом.
– А нельзя их прочесть? – спросил Бобышев.
– Можно, только не сейчас. Если вы будете в Москве, позвоните или оставьте адрес, я постараюсь, чтобы вам их прислали.
Через два месяца я получил из Москвы бандероль со стихами из романа. Это была машинопись, третий или четвертый экземпляр. Она до сих пор хранится у меня, но отправителем был не Пастернак. Вероятно, он кого-нибудь попросил.
Мы были у Пастернака в гостях уже больше двух часов. Вдруг он посмотрел на левое запястье.
– Через десять минут придет парикмахер из Союза писателей.
Уходить очень не хотелось.
– Борис Леонидович, – сказал я, – а мы стрижке не помешаем, пусть вас стригут, а мы будем с вами говорить. Мы вас не обо всем спросили.
– Это в другой раз, мальчики, – сказал Пастернак. – А что касается разговора во время стрижки, то последний человек в мировой литературе, который мог себе это позволить, был Анатоль Франс.
БЮЛЛЕТЕНЬ НА МЕСЯЦ
Из глубины поколений, из темных генетических тоннелей пришло в нашу семью проклятие депрессий. МДП – маниакально-депрессивный психоз или циклотемия, как называют эту болезнь профессионалы. С годами она затухает, стушевывается, но в тридцать пять-сорок лет я постоянно «качался» на этой ужасной синусоиде.
Особенно тяжелы депрессии, когда белый свет предельно черен и не мил, когда жизнь отвратительна, бессмысленна, убога и отталкивающа.

А. Твардовский.
Рука бессильна поднять телефонную трубку, одеться и выйти на улицу – величайшая проблема. А жить надо (или не надо – это тоже вопрос), а если надо, то изволь добывать хлеб насущный. И тут я открыл для себя психо-неврологический диспансер.
Это был мир убогий, но довольно приветливый. Во время первого своего визита я стал что-то рассказывать о своих проблемах, меня оборвали на полуслове и выписали бюллетень.
По этой справке Литфонд платил мне десять рублей в день. А это в семидесятые годы было вполне достаточным для сносной жизни.
Более того, существовали еще бесплатные обеды и какие-то стационары, где читали газеты, слушали музыку и проводили просветительные беседы. Но в стационаре я не появлялся, также как категорически отказался от всяких предложений о больнице. Но вот обедать на улицу Чехова захаживал. И это были вполне приличные обеды с борщом, котлетами и компотом, получше тех комплексных, что предлагали за рубль двадцать в Доме литераторов.

П. Антакольский и П. Луконин.
Исполнился первый месяц моего бюллетеня, и милейшая интеллигентная женщина, врач из диспансера, что на Краснобогатырской улице, сказала мне:
– Я сама не могу больше продлевать ваш бюллетень, это может сделать только главврач в городском диспансере. Вы хотите к нему поехать?
– Отчего же нет.
Она вызвала машину, и мы поехали.
Это уже было иное заведение. В самом центре Москвы, кабинет огромный, светлый, итальянские окна. Высокий, выше меня, жизнерадостный профессор, седой, с испаньолкой, в пенсне. Рядом медицинская сестра в безупречном крахмале. Это я увидел, когда вошел в кабинет, но около получаса я протомился у дверей, пока мой лечащий врач рассказывала профессору обо всех моих состояниях и проблемах. Она же, естественно, привезла с собой и историю болезни.
Профессор был радушно вежлив и как-то особенно оптимистически настроен.

К. Чуковский. 1958–1959.
– Ну, как, молодой человек, как ваша меланхолия? Все еще не проходит?
Я развел руками.
– А вообще-то вы чем занимаетесь?
– Я литератор, сочиняю.
– Что именно?
– Разное. Но всю жизнь пишу стихи и считаю это своим делом.
– Стихи? Ну-у, стихи мы все пишем. Вот она, – он указал на медсестру. – Выступает со стихами в нашей стенгазете. Да и я не прочь иногда. Не хотите ли что-нибудь прочесть?
Мне было не до стихов.
– А кто-нибудь читал ваши стихи, в смысле из понимающих людей?
– Да, – сказал я, – Ахматова, Пастернак. Вы их считаете понимающими людьми?
И тут я случайно увидел, как профессор ногой под столом толкнул медсестру. Он давал ей знак записывать. Он понял, что перед ним не циклотемик, а больной манией величия.
– Ну и что они? Вы как им посылали стихи? Почтой?
– Нет. Я знал их лично, встречался с ними.
Профессор снова толкнул медсестру.
– А кто-нибудь из современных поэтов слышал о вас?
– Да, я дружу с некоторыми, – и я назвал пять или шесть популярных фамилий. При этом ни на грош не наврал.
Профессор в восторге развел руками.
– Вы сейчас в крайней точке вашей болезни, – сказал он, – хуже некуда. Теперь только вверх, – и он начертил в воздухе пресловутую синусоиду. – Идите, дружок, домой, уверяю вас, то, что вы здесь сказали, строго охраняется врачебной тайной, о ваших болезненных фантазиях никто не узнает.

Д. Самойлов.
И он выписал мне бюллетень еще на месяц.
ВИКТОР БОРИСОВИЧ
Лет пятнадцать я мечтал встретиться со Шкловским. Я достал буквально все его книги. Я прочел роман Каверина «Вечера на Васильевском острове». Я прикрепил над письменным столом фотографию, где он на пляже в купальнике сидит спиной к спине с Маяковским. Я цитировал пародию Архангельского. Я считал Шкловского гением – создателем уникального стиля. Я придумал какую-то периодическую систему элементов русской литературы, явно подражая Виктору Шкловскому. В чем там было дело, сейчас уже не помню.
Впервые я его увидел в 1963 году на лекции на Высших сценарных курсах в Москве. Впечатление было большое. Правда, в самом финале он заговорил о каторге Достоевского, о «Записках из мертвого дома» и ужасно распалился. Он вспомнил орла, которого каторжники выпускали на свободу. Он вытянул вперед руку и закричал: «Вот орел побежал по степи к свободе!» Искусственная челюсть вылетела у него изо рта, но не упала, он поймал ее в воздухе протянутой рукой.
В семидесятом году был снят по моему сценарию фильм «Чукоккала». Я довольно близко познакомился с Корнеем Ивановичем Чуковским. Все фильм хвалили, было полно хороших рецензий. Надо было развивать успех. Теперь пришла пора сделать фильм о Шкловском, решил я. Режиссером должен был быть Алексей Габрилович. Мы написали заявку. Сам мэтр – Габрилович-старший – отец Алексея, Евгений Осипович вписал туда несколько фраз. Надо было получить согласие Шкловского. Я позвонил ему, трубку сняла Серафима Густавовна. Я объяснил ей, в чем дело, она пригласила меня зайти.
Оказалось, что Шкловский видел «Чукоккалу», ему понравилось. Чуковского он называл «Корнейчуком». С первого момента он начал говорить о деньгах.
– Сколько вы напечатали прозы? – спросил он меня.
Я назвал какую-то жалкую цифру.
– А я больше пятисот печатных листов. Так что, молодой человек, сами понимаете… Я предлагаю вам двадцать пять процентов.
При этом сценарий целиком должен был писать я. Корней Иванович о деньгах не упомянул ни разу. Я согласился со Шкловским. Вдруг он сказал такую фразу:
– Даже собак нельзя кормить битым стеклом. Я прочту ваш сценарий.
Я благодарно кивнул.
Я стал приходить к нему ежедневно и что-то записывать. Однажды, посреди нашей работы пришел журналист за интервью. Шкловский устроил сеанс – кричал, бегал, вращал глазами. Оказалось, что он многое путает. Он считал, что Ахматова умерла в Фонтанном доме, он перепутал Морозова-пушкиниста с Морозовым-шлиссельбуржцем, приписав ему открытие десятой главы «Онегина». Но в общем, впечатление было сильное. Он был еще в очень хорошей форме. Иногда среди беседы он внезапно вспоминал Маяковского, Хлебникова, Кульбина, Эйхенбаума. Рассказал мне, что в архиве царской ставки хранится телеграмма коменданта петербургского Адмиралтейства: «Вынужден сдать Адмиралтейство. Окружен броневиками Шкловского». Это о событиях Февральской революции. Однажды он спросил меня:
– Что вы делаете вечером?
– Я свободен, Виктор Борисович.
– Приглашаю вас в Дом кино на премьеру. Серафима пойти не может.
Серафима сказала, что в таких мятых брюках я появляться в Доме кино не должен:
– Снимайте брюки.
Я снял. Остался в трусах, сел стыдливо в кресло. Она очень ловко выгладила брюки.
Мы поехали в Дом кино. Это была премьера «Братьев Карамазовых». Пырьева уже не было в живых. Фильм заканчивали Лавров и Ульянов. Это была самая роскошная кинопремьера, которую я когда-либо видел – сотни фотографов, журналистов, телевизионщиков, Эверест цветов, дипломаты, светская толпа.
Нас посадили в тот особый ряд, что резервируется для съемочной группы. Шкловский не давал мне смотреть фильм, все время говорил о Достоевском – громко, отчетливо, гладкими фразами. Вдруг я вспомнил, что все это уже слышал, и вспомнил – где. Он цитировал себя, свою книгу о Достоевском «Pro» и «contra».
После фильма я пошел провожать Виктора Борисовича. Стояла теплая зима, но он был в тяжелой шубе, в бобровой шапке боярского типа. Он устал, ему было не по себе. Толпа расхватывала такси у Дома кино. Мы побрели к Белорусскому вокзалу. Там стояли машины, но шоферы ждали «выгодных» клиентов. Ехать к «аэропортовским» домам не хотел никто. Шкловский еле стоял на ногах. Надо было что-то предпринять. Я распахнул дверцу ближайшей машины и плюхнулся на сиденье.
– Гагарина знаешь? – спросил я очень недовольного на вид водителя.
– Гагарина знаю, – ответил тот. – А ты кто, Титов, что ли?
– Видишь этого человека в шапке – вон, на тротуаре стоит?
– Ну и что?
– Это тайный главный конструктор, это он запустил Гагарина и Титова. Старик, шесть раз Герой труда, его надо домой отвезти к метро «Аэропорт». Все будет учтено, ты не беспокойся.
Водитель вышел из машины и пошел за Шкловским. Этого я не учел. Я не успел предупредить Шкловского. Сейчас водитель его о чем-нибудь спросит, я буду разоблачен, и мы никуда не поедем. Но я недооценил Виктора Борисовича. Он уселся на переднее сиденье. Мы поехали.
– Ну, что, – спросил водитель, – как там Юрик и Герман? Полетают еще?
Шкловский в ту же секунду ответил:
– Любое событие есть диалектический прыжок на фоне общей спирали истории.
Водитель был абсолютно удовлетворен. Я через сидение протянул ему сигарету «Уинстон». Он уважительно заметил:
– Понятно, значит, ждать надо на днях.
Тут мы, слава Богу, приехали.
Кстати, меня всегда занимал один анекдот о находчивости и предприимчивости Шкловского, рассказанный мне в Ленинграде еще в пятидесятые годы.
Еще сегодня живет в Бостоне Надежда Филипповна Фридлянд. Ей ныне девяносто шесть лет. С детских лет я дружил с ней и ее дочерью, замечательной писательницей Людмилой Штерн. Надежда Филипповна знала Шкловского с 1916 года. Замечу также, что Надя Фридлянд упоминается в ранней книге Шкловского «Zoo». Она мне рассказала такую историю.
Когда Горький уехал в эмиграцию, то он свою квартиру в Петрограде на Кронверкском оставил Шкловскому. И Надя поселилась со Шкловским в горьковской квартире. Стояла голодная страшная зима времен Гражданской войны. Теплого пальто у Нади не было. Она почти не выходила на улицу. Однажды Шкловский сказал:
– Тут где-то находятся горьковские отрезы.
Через десять минут он нашел в задней комнате сундук, набитый английскими шерстяными тканями. Он выбрал потолще и получше и спросил Надю:
– У тебя есть приличный портной?
– Но это же воровство!
– Ну, тогда мерзни или сиди дома, – холодно сказал Шкловский.
Через неделю пальто было сшито.
Шкловский являлся в те времена членом ЦК партии левых социалистов-революционеров. Однажды глубокой ночью он и Надя возвращались домой. Когда они вышли на Кронверкский проспект, то неожиданно увидели, что окно их кухни светится.
– Засада, – сказал Шкловский. Он подумал минуту и продолжил: – Ты возвращайся домой, тебя не возьмут, а я попробую через наше «окно» в Белоострове уйти в Финляндию.
И он пошел пешком на вокзал к первому поезду. Он перешел границу и вскоре объявился в Берлине. Засады, кстати сказать, не было. Оказалось, что они просто забыли перед уходом выключить на кухне свет. Через год уехала и Надя Фридлянд. Шкловский все еще был в Берлине. Надю он встретил приветливо.
– Хочешь хорошо пообедать? – спросил он ее.
– Кто же не хочет.
– Приглашаю тебя на обед к Горькому сегодня в пять часов.
– Я не могу пойти, – ответила Надя, – на мне ворованное пальто. Он узнает свой отрез.
– Не узнает, – сказал Шкловский, – там было двадцать отрезов, как он мог их запомнить.
– Тогда пойдем, – сказала Надя, – я неделю горячего не ела.
Они пошли. Шкловский представил Надю Алексею Максимовичу. Прямо в прихожей он спросил у Горького:
– Алексей Максимович, обратите внимание на это пальто, оно вам не кажется знакомым? Приглядитесь как следует.
А пальто было из приметной английской ткани в крупную ёлочку. Горький посмотрел внимательно, покачал головой, узнал, сказал:
– Это из того моего отреза, что мне прислали еще до катастрофы из Манчестера.
По словам Надежды Филипповны, у нее подкосились ноги. Она залепетала что-то, хотела поцеловать Горькому руку. Тот руку отдернул.
– А, ну-ка, пройдитесь туда-сюда, – сказал он, – я погляжу.
Надежда Филлиповна, ни жива ни мертва, зашагала по огромной прихожей. Горький внимательно следил. Наконец, сказал:
– Портной приличный, только левый рукав тянет.
Фильм по моему сценарию о Шкловском поставлен не был. Шкловский параллельно вел с телевидением переговоры об экранизации книги своих воспоминаний «Жили-были». Этот фильм был снят.
Я был в ЦДЛ на панихиде по Шкловскому. Людей было немного, человек тридцать. Не помню, кто выступал. Под его голову была положена подушка. Огромный, неестественно обширный, какой-то двояко-выпуклый череп его поднимался высоко над гробом. Он безусловно был гениальным человеком. По крайней мере, частично гениальным. В холле ЦДЛ я отколол от стены траурное объявление о смерти Шкловского. Оно и сейчас у меня.
Кстати, Виктор Борисович дал мне рекомендацию для вступления в Союз кинематографистов, куда я так и не вступил. На приемной комиссии некто заявил, что я аморален, устраиваю пьяные оргии, одна студентка, чтобы не быть изнасилованной, выпрыгнула с балкона и сломала ключицу. А жил я на первом этаже в семье жены, и тесть мой был полковник и Герой Советского Союза. Так рекомендация Виктора Борисовича мне и не пригодилась. И только иногда, перерывая свой архив, я натыкаюсь на этот листок, исписанный крупными, отдельно стоящими буквами.
ВТОРОЕ МАЯ
Памяти Ильи Авербаха
В такой же точно день – второе мая —
идти нам было некуда, а надо
куда-нибудь пойти.
И мы пошли с Литейного
через мосты и мимо
мечети, туда, где
в сердцевине Петроградской
жил наш приятель.
Он не очень ждал нас…
Но ежели пришли – пришли,
и были мы приглашены к столу.
Бутылку водки принесли с собой
и в старое зеленое стекло —
осколки от дворянского сервиза —
ее разлили.

И. Авербах.
Ты – второе мая,
лиловый день, похмелье,
что ты значишь?
Какие-то языческие игры,
остаток пасхи, черно-красный стяг
Бакунина и Маркса, что окрашен
в крови и саже у чикагских скотобоен,
и просто выходной советский день
с портретами наместников, похожих
на иллюстрации к брюзжанью Салтыкова.
По косвенным причинам вспоминаю,
что это было в шестьдесят восьмом.
Мы оба, я и мой приятель,
а может быть, наоборот —
скорее, все-таки, наоборот,
стояли, я сказал бы, на площадке
между вторым и первым этажом
официально-социальных маршей
той лестницы, что выстроена круто
и поднимается к неясному мерцанью
каких-то позолоченных значков.
Быть может, ГТО на той ступени,
где не нужны уже ни труд, ни оборона…
Приятель наш был человеком дела,
талантом, умником и чемпионом
совсем еще недавних институтов.
Он на глазах переломил судьбу,
стал кинорежиссером, и заправским,
и снял свой первый настоящий фильм.
(И мы в кино свои рубли сшибали
в каких-то хрониках и научпопах),
но он-то снял совсем-совсем другое,
такое, как Пудовкин и Висконти,
такое же, для тех же фестивалей,
таких же смокингов и пальмовых ветвей.
Ах, пальмовые ветви, нет, не даром
вы сразу значитесь по ведомствам обоим —
экран и саван, может, вы – родня?
И вот сидели мы второго мая
и слушали, что кинорежиссер
рассказывал о Кафке и буддизме,
Марлоне Брандо, Саше Пятигорском,
боксере Флойде Патерсоне,
об экранизации булгаковских романов,
Москве кипящей, сумасбродной Польше,
где он уже с картиной побывал.
И это было все второго мая…
Второго мая я сижу один
в Москве, уже давно перекипевшей
и снова закипающей и снова…
Что снова? Сам не знаю. Двадцать лет
на этой кухне выкипели в воздух.
Я думаю – и ты сидишь один
в своей двухкомнатной квартирке над Гудзоном,
который будто бы на этом месте
коли отрезать слева вид и справа,
Неву у Смольного напоминает,
но это и немало – у меня
все виды одинаковы, все виды —
есть вид на жительство и больше ничего.
Там, в этом баскетболе небоскребов,
играешь ты за первую команду —
десяток суперпрофессионалов,
которые давно переиграли своих собратий
и теперь остались под ослепительным
оскалом всесветского ристалища словес.
И где-нибудь на розовом атолле
сидит кудрявый быстрый переводчик —
не каннибал в четвертом поколенье, —
и переводит с рифмой и размером
тебя на узелковое письмо.
И это – финишная ленточка, поскольку
все остальное ты уже прошел.
Ну, что, дружок, еще случится с нами?
Лишь суесловие да предисловья,
а вот с хозяином квартиры петроградской
и этого не будет…
А он стоял в огромном павильоне,
и скрученное кинолентой время,
спеша, входило, как статист на съемку
стрекочущего многокрыльем фильма,
да вдруг оборвалось…
Второго мая
Мы все сидим в удобных одиночках
без жен, которых мы беспечно растеряли,
и без детей, должно быть, затаивших
Эдипов комплекс, вялый и нелепый,
как все вокруг. И наша жизнь не в том,
а в том – за двадцать лет
мы заслужили такую муку, что уже
не можем
пойти втроем по Петроградской
мимо Ленфильма и кронверка,
и стены апостолов Петра и Павла,
мимо мечети Всемогущего и мимо
большого дома «Политкаторжан»,
откуда старики «Народной воли»
народной волей вволю любовались.
Мимо еще чего-то, мимо, мимо, мимо…
Вот так проводим мы второе мая.
1986