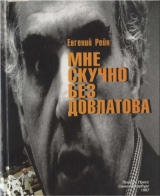
Текст книги "Мне скучно без Довлатова"
Автор книги: Евгений Рейн
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
На странице 100, над стихотворением «Полонез: вариация» вписано посвящение нашей старой приятельнице из Польши «Зосе Копусцинской».
Но, может быть, самое удивительное посвящение Бродский поставил на странице 108. Стихотворение «Резиденция» Иосиф связал с именем генсека Ю. Андропова, известного шефа КГБ и кратковременного главы послебрежневского советского государства.
Это посвящение (как и некоторые другие из моего экземпляра «Урании») Бродский не перенес в текст собрания сочинений, может быть, потому что в нем содержится более типажное, чем личное указание на самый предмет стихотворения. На первый взгляд, в «Резиденции» описано жилище не то диктатора, не то начальника спецслужб или какого-нибудь «отца нации» маркесовского толка. И только последние строки, предсмертные вопли сознавшегося во всем сына, записанные на пленку, возвращают нас к отечественной истории, заставляя вспомнить и Петра I, и Сталина. Стихотворение это написано в 1987 году и, очевидно, что ближайшим прототипом для него и явился Андропов. Хотя, как это очень часто бывает у Бродского, образ максимально расширен и транспонирован на всю суть проблемы, охватывая при этом горизонтали бытового гротеска и вертикали философии и историософии.
Целая группа стихов в «Урании» связана с Анной Лизой Аллево. Бродский вписал ее имя над «Арией» (страница 109), над стихотворением «Ночь, одержимая белизной» (страница 162), над «Элегией» (страница 188). А к стихотворению «Сидя в тени» (страница 156) он сделал следующую приписку: «Размер оденовского „1 сентября 1939 года“. Написано – дописано на острове Иския в Тирренском море во время самых счастливых двух недель в этой жизни в компании Анны Лизы Аллево».
Под посвящением той же Анне Лизе на странице 162 другая фраза, от имени спускается долгая линия, упирающаяся в продолжение записи: «… на которой следовало бы мне жениться, что может быть еще и произойдет».
Стихотворение, написанное на Искии, помечено июлем 1983 года.
А зимой 1985 года, по воспоминаниям о светлом и мягком зимнем дне – где-нибудь в феврале-марте, мне довелось познакомиться с Анной Лизой.
Часов в двенадцать дня раздался звонок в дверь. Я открыл. На пороге стояла женщина, не высокая, стройная, ладная, в небогатой одежде западного студенческого образца.
– Это вы – Евгений? – спросила она. – Мне ваш адрес дал Иосиф Бродский.
– А телефон он вам дал?
– Дал.
– Почему же вы не позвонили, ведь меня могло не оказаться дома?
– А я загадала: если вы будете дома – все обойдется.
– Что-нибудь случилось?
– Да, у меня украли деньги. Кошелек. А банковский перевод будет только завтра.
По-русски она говорила очень прилично, гораздо лучше большинства известных мне славистов. Мы прошли на кухню. Я приготовил кофе, яичницу. О чем-то беседовали. Сейчас уже, естественно, не помню – о чем. Наверное, об Иосифе, о ее славистских занятиях, о всякой политической и литературной злобе дня. Потом пошли пообедать в ресторан. Деньги у меня, слава Богу, в этот день были. И тут я заметил, что на меня снизошел покой. Состояние стало редкостно спокойным, умиротворенным. Иронически его можно было бы назвать благостным. Причиной была явно Анна Лиза. От нее исходила кротость, нечто даже фаталистическое. Тихий голос, ясный взгляд серых глаз. При всей миловидности в ее внешности не было ничего вульгарного, затертого, банального. Мне сейчас по памяти было бы трудно описать ее, но я еще тогда подумал, что вот такая головка могла бы быть отчеканена на античной монете.
– Как же у вас украли деньги?
– Я задумалась, – ответила она, – и вор это заметил.
– Вот негодяй, – напустился я.
Но она совсем меня не поддержала.
– Там было совсем немного денег. И потом, может быть, он был голоден.
– Вы мало похожи на итальянку, – сказал я.
В ленинградские годы я дружил со многими людьми из итальянской колонии. Их нравы, темперамент были мне хорошо известны.
– Да я, по сути, не итальянка. Мать моя гречанка. С островов.
С отцом тоже было не так-то просто. Что именно – сейчас не помню.
Уже в сгущающихся сумерках я показывал ей Новодевичий монастырь. Горел он тусклым золотом и багрянцем, небо было полно птиц, дети съезжали на санках с довольно крутого обледеневшего обрыва. Вдруг на минуту повеяло русской стариной, чем-то даже олеографическим.
– А мне бы очень хотелось тоже прокатиться на санках, – это было единственное желание, которое она высказала за весь день.
Я быстро договорился с каким-то мальчиком.
Уже совсем поздним вечером я посадил ее в такси. И весь этот день, наполненный внезапной гостьей, показался мне значительным, особым, неординарным. Добротой, кротостью, но вместе с тем каким-то сосредоточенным душевным миром повеяло на меня. Совсем юная, она уже была мудрым человеком, самодостаточным, цельным.
Когда я прочел надписи в ее честь, сделанные в «Урании», мне все стало ясно. Она его любила и, видимо, не безответно.
Но почему-то этот союз не состоялся. Может быть, просто потому, что судьба уже готовила его к другому.
На странице 122 в двенадцатой строфе «Экологи 4-й (зимней)» отмечены три стиха:
И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого
города, мерзнущего у моря,
меня согревают еще сегодня.
На поля выведена стрелка и написано – «Бодлер». Этого я истолковать никак не могу, возможно кто-нибудь, лучше меня знающий поэзию Шарля Бодлера, поймет, что здесь имел в виду Бродский.
На странице 138, к заголовку стихотворения «В окрестностях Александрии» через запятую приписано: «Virginia». Следовательно, подразумевается городок из южного американского штата, а отнюдь не знаменитый античный город Средиземноморья.
Страница 161. Стихотворение «Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве…» Под ним надпись Иосифа: «Рождество, не помню какого года 1985? 86?»
Страница 173. Стихотворение без названия, начинающееся со строфы:
Вечер. Развалины геометрии.
Точка, оставшаяся от угла.
Вообще: чем дальше, тем беспредметнее.
Так раздеваются догола.
После текста идет запись Иосифа: «Стихотворение, которое очень нравится Джанни Буттафаве, немножко де Кирико». И действительно, эти «развалины геометрии» сразу адресуют нас к метафизической живописи вождя итальянского сюрреализма де Кирико. И это еще раз свидетельствует о связи Бродского с современным изобразительным искусством. Иногда эта связь оседает в тексте, так он несколько раз упоминает в стихах Казимира, и это, конечно, Малевич. А на странице 176 после стихотворения «На выставке Карла Вейлинка» он делает примечание: «К. Вейлинк – голландский сюрреалист в духе Магрита или Дельво».
А вот Джанни Буттафава… Но о нем надо рассказать подробно.
В 60-е годы я познакомился с итальянскими студентами и аспирантами, славистами, стажировавшимися при Ленинградском университете. Потом подружилась с ними и вся моя компания. Был среди этих итальянцев и Джанни Буттафава. Самый изо всех них живой, веселый, любопытный. По-русски он говорил много лучше других иностранцев и интересовался всем сразу: русской литературой – классической и современной, советским кино, левым театром – Мейерхольдом, Таировым, Радловым, искусством и архитектурой сталинской эпохи.
Он был абсолютно неутомим, обходил за день десяток букинистических магазинов, сутками просиживал в библиотеках и архивах. А уж что касается кино, то не было такого дрянного и давным-давно забытого фильма 30–50-х годов, который бы он не исхитрился бы посмотреть. Я помню, он звал меня поехать вместе с ним куда-то за город, на Ржевку, кажется, где на утреннем сеансе в 9 30шел фильм «Школьный вальс».
В молодости он был очень примечателен внешне: пышная, взбитая волосня почти до плеч а la Тарзан и необыкновенно выразительное, все время отображающее какие-то восторги и ужасы, лицо. Можно было бы назвать это гримасами, но лучше подыскать другое слово.
Прошли годы. Он часто приезжал в Россию. Был очень небогат. Работал и гидом при туристических группах, писал какие-то очерки для журналов, газет, часто бульварного толка. Потом дела его пошли в гору, приезжал по поручению кинофестивалей просматривать и отбирать фильмы. И все время переводил, очень много и самое разное – надо было зарабатывать, а переводы эти оплачивались негусто. Помню, он перевел подряд «Бесов» Достоевского, какую-то книгу Солженицына, антологию русской поэзии «От Ломоносова до Бродского» и советский роман, кажется, Георгия Маркова.
Мне потом в Италии слависты объясняли, что поэтические переводы Буттафавы не очень высокого качества. Мы все переводили стихи, известно, что это такое. Разве в этом дело? Добрее, впечатлительнее, веселее человека, чем Джанни, я не встречал.
Потом он несколько остепенился, отпустил пышные усы, и кто-то пошутил, что он это сделал в честь Горького. Правда, сам Джанни считал, что внешне он стал похож на Мопассана.
Бродский очень его любил. Повез с собой в Стокгольм на Нобелевские дни. Летал к нему в Рим, приглашал в Америку и даже как-то помогал ему. Долгие годы Джанни был беден, так и не успел жениться. Он умер в 1990 году, молодым, ему не было и пятидесяти. Умер в кресле, в парикмахерской, от тромба. Это о нем написано замечательное стихотворение Бродского «Вертумн». Живее и отзывчивее этого человека, остроумнее, экспансивнее его я никого не встретил в жизни, а теперь уже и подавно не встречу. У меня есть маленькая книжечка итальянских стихов «Сапожок», там сонет «Памяти Д. Б.», это о нем.
Я думаю, ты стал на Мопассана,
А может быть, на Горького похож.
О, как ты был на Троицкой хорош
С той волосней до плеч, как у Тарзана.
И где твои гримасы павиана
И пара гуттаперчевых калош?
Вот римский сон – мы вместе. Не тревожь.
Проснувшись, мне не пережить обмана.
На Венето я дом твой отыскал,
Во дворике фонтан, вздыхая слезно,
Напоминал, что времени оскал
Кусает не особенно серьезно.
И Рим прошел, и кончен Ленинград.
Я думаю – пройдут и рай и ад.
Страница 180. Стихотворение «В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой…» Бродский помечает: «в больнице».
Следующее стихотворение – «В Италии», вот его первая строфа:
И я когда-то жил в городе, где на домах росли
статуи, где по улицам с криком «растли! растли!»
бегал местный философ, тряся бородкой,
и бесконечная набережная делала жизнь короткой.
Строфа отчеркнута, и на полях приписано: «Розанов».
Разве Розанов призывал к растлению, не перепутал ли чего-нибудь здесь Бродский? И все-таки, по зрелому размышлению, я думаю, что не перепутал. Это ведь не колкость в адрес конкретного Василия Васильевича Розанова, а просто аллюзия к петербургскому мифу, к атмосфере серебряного века, а Розанов был неотъемлемой частью этой атмосферы. Он не призывал к растлению, скорее наоборот, он был анти-революционер и охранитель. И при всем этом он сотрудничал одновременно в «правой» и «левой» прессе, эротизм, даже скорее, эротомания были главным вектором в его творчестве. Бродский вывернул ситуацию наизнанку, это, кстати, один из излюбленных его приемов.
Страница 182. Стихотворение «Стрельна»:
Боярышник, захлестнувший металлическую ограду.
Бесконечность, велосипедной восьмеркой
принюхивающаяся к коридору.
Воздух принадлежит летательному аппарату,
и легким здесь делать нечего, даже откинув штору.
В то нью-йоркское утро, 4-го октября, мы вспоминали старый Ленинград, город нашей юности. Не архитектуру и музеи, а людей, наших приятелей. О тех, кто уехал, Бродский знал, конечно же, лучше меня, о тех, кто остался, он меня расспрашивал.
Куда делся Миша Красильников, где теперь Кондратов, как поживает Еремин, а что Герасимов? Прямо у меня на глазах Бродский посвятил «Стрельну» Владимиру Герасимову, сделав в моем экземпляре «Урании» соответствующую надпись, откуда она, слава Богу, попала в собрание сочинений. Ведь далеко не все посвящения учтены в этом собрании. Сужу только по себе. В моем архиве, кроме прочего, хранятся два листа со стихами, посвященными мне Иосифом (кроме тех, что отмечены в четырехтомнике). Это «Эней и Дидона» и раннее стихотворение «Слава». Там не только посвятительные надписи, но и объяснения, почему он это сделал. Надеюсь, что это будет учтено в последующих, более упорядоченных изданиях.
Так вот, Володя Герасимов… Целый час мы его вспоминали, перебивая друг друга, выкапывая из прошлого самые невероятные подробности. Когда он работал в журнале «Костер», то пропивал даже почтовые марки и чистые конверты, когда учился в университете, то написал десятки дипломов (только для Ляли Хорошайловой целых два), а своего так и не написал.
Он работал в Пушкинских Горах экскурсоводом, и слава его была так велика, что экскурсанты ни о ком другом и слышать не хотели. Довлатов, который трудился там же, рассказывал, как однажды замученный похмельем Володя не вышел поутру на работу. Он остался у себя в избе, что называется, «поправлять голову». Делегаты от истомившейся экскурсии нашли его, соорудили из подручных средств носилки, на которые и водрузили Володю. Его несли посменно из Михайловского в Тригорское, поднимали на Савкину горку. Лежа на носилках, Герасимов рассказывал. Рассказывал он замечательно, предмет, за который он взялся, лучше него не знал никто.
Но и у всезнающего Герасимова есть (слава Богу, есть, а не был!) свой конек. Это Петербург и его окрестности. Бродить по Петербургу с Герасимовым, поехать куда-нибудь в пригород невероятно интересно и даже иногда чуть утомительно. Он знает все – десятки дат, имена архитекторов, фамилии владельцев за двести лет.
Проходя по какой-нибудь Троицкой улице, он указывает на заурядный доходный дом конца 19 века и начинает рассказ: «Построен в таком-то году, архитектор – имярек, принадлежал генералу такому-то. На первом этаже были магазин „Эйлерс“, винный погреб и страховая контора, на втором – контора журнала „Сатирикон“, кстати, над ней, на третьем этаже жил сам Аркадий Аверченко. Кроме Аверченко в этом доме в разные годы жили…» Называются десятки фамилий, даты, рассказываются подробности, и вы можете быть уверены, что все это абсолютно точно.
Теперь Володя один из самых известных специалистов по Петербургу. Говорят, что его экскурсии расписаны на год вперед.
А когда-то он просто бродил по улицам и рассказывал, бродил с нами, с нашими знакомыми, с приезжими иностранцами, которых мы удивляли володиной эрудицией. И это длилось годами, безотказно, бескорыстно. Почему именно «Стрельна» посвящена Герасимову? Да наверняка потому, что Володя ездил туда с Бродским, рассказывал наверно и о полетах первых аэропланов над стрельнинскими берегами и парками, над Петродворцом.
Через страницу от «Стрельны» стихотворение:
Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке
отражения город. Позвякивают куранты.
Комната с абажуром. Ангелы вдалеке
галдят, точно высыпавшие из кухни официанты.
Я пишу тебе это с другой стороны земли
в день рожденья Христа…
Над стихотворением типографская пометка «Е. Р.». Это мои инициалы. Да и вообще стихотворение это было когда-то просто письмом ко мне, поэтическим посланием, как выразились бы в старину.
Под стихотворением дата: декабрь 1985 года, и рукой Иосифа приписано: «Во время третьего инфаркта».
Есть в моем экземпляре еще и другие записи, но это дело уже будущих исследований, «время – вещь необычайно длинная» и оно наверняка дотечет и до «академического» Бродского.
Итак, 4 октября 1988 года. Бродскому оставалось еще семь с половиной лет жизни, он еще выпустит два тома прозы, несколько стихотворных книг, получит орден Почетного легиона, премию Флоренции, мантии многих университетов. Он еще встретит Марию, и в жизнь его войдет огромная счастливая, я полагаю, последняя любовь. Он станет отцом Нюши. Мы еще увидимся в Нью-Йорке и Бостоне, в Роттердаме, Амстердаме, Венеции.
А потом будет и последнее свидание, в похоронном доме на Бликер-стрит. Когда зал закрывали, я помедлил и на несколько минут мы остались вдвоем.
Еще семь с половиной лет впереди. Через два часа придет Довлатов и мы отправимся на мерседесе Иосифа куда-то в Бруклин, на берег Гудзона, откуда, по его словам, лучший вид Манхэттена и статуя Свободы и какой-то симпатичный ресторанчик.
Иосиф покуривает, обрывая фильтры «Кента». Из музыкального ящика, принадлежащего когда-то Гене Шмакову, доносится моцартовский «Юпитер».
Кот Миссисипи прерывает дрему и подходит к хозяину, удостоверяя свое тождество с тем котом, что нарисован в моем экземпляре «Урании».
ПЕСОК
Наблюдатель во фланелевом костюме,
я случайно к ним подсел за столик,
обладатель электронной зажигалки,
что наигрывает буги-вуги.
Щелкаю я к делу и без дела
этой полированной игрушкой
и вполглаза потихоньку наблюдаю.
Старая веранда у залива
благородно называется «Волною».
Ледниковых валунов навалы
разделили это побережье
между Репиным и Комаровым.
А за столиком сидят полузнакомцы,
что-то все-таки припоминаю:
одного из них я раньше видел
в молодости, там, в шестидесятых.
Но теперь совсем иное дело,
и ему пошли на пользу годы —
он в кино большой администратор,
и уже изъездил он полмира.
Потому-то он спокойно курит
дорогие сигареты «Ротшильд»
и глядит на огниво заката
через золоченую оправу.
Это он меня окликнул первый,
был он виноват передо мною
(помнит ли об этом – я не знаю),
но не слишком, а не то пришлось бы
худо мне, не ожидай пощады,
если кто воистину виновен,
он найдет против тебя оружье.

Л. Лосев. 1974
Но теперь-то мы гордимся встречей,
дорогих дружков упоминаем,
мертвецы особенно почетны,
но и средь живых есть монументы.
Легкое вино с копченым мясом,
зелень, помидоры – все чудесно.
Спутники его лишь суетливы:
только опрокинули бокалы
и опять за женщину в матроске
поднимают тост велеречиво.
Но и мне матроска любопытна
(впрочем, это вовсе не матроска —
блузка в модном итальянском вкусе —
синий воротник на белом поле
и глубокий вырез треугольный).
Были мы представлены, и ждал я,
как она откликнется на это, —
тихо так она сказала имя.
Но и с ней я был знаком когда-то,
так недолго, но и незабвенно.
Под таким же светом предзакатным
ранней осенью сказали мы друг другу:
«Кончено, наш узел перерезан».
Вот и повстречались. Боже! Боже!
Что же я наделал? Что наделал
в предзакатный час на милом взморье?
Вот мы снова имена назвали,
так давно известные друг другу,
и закат сковал нас медным светом,
алой и гранатовой подсветкой.

В. Некрасов. Париж. 1982.Фото Нины Аловерт.
Десять лет ушло – как не бывало,
десять лет, как нас перемололо.
Но ты стала несравненно лучше,
несравненно – разве в этом дело?
Вышло все – и все не получилось,
все как надо – но нельзя однажды
жизнь принять, как праздничный подарок…
Может, впрочем, я и ошибаюсь.
Ну, а сам я? Да, меня как будто
попусту ничем не одарили.
Может быть, наоборот, и это
тоже дьявольские выкрутасы.
Ах, как надо, чтобы хоть единый
раз явился Санта-Клаус,
вывалил мешок, гремя в прихожей,
а в мешке все ваши сновиденья.
Неужели вот он, Санта-Клаус?
Далеко еще до Рождества-то.
Это господин другой породы —
чертик из пружинной табакерки.
Но пора, уже пора обратно.
Подошли официанты дружно,
словно родичей в дорогу провожают.
Собирают толстые пакеты.
– Ты поедешь? – говорит мне главный.
– Не могу, на дачу мне вернуться надо обязательно. —
Вот жалко, ведь недолго будет
белофинский свет наш, посидеть в такие ночи любо.
– Нет, увы, – ответил я со вздохом,
вспоминая скучную каморку
в общежитии писательском убогом.
Как бывает в срочный миг отъезда,
все рассыпались. Хозяин ресторана
утащил куда-то господина нашего,
дружки пошли по пляжу прогуляться.
Мы вдвоем остались.

Д. Бобышев и Е. Рейн
– Где теперь увидимся? – спросил я. —
Где теперь, через какие годы?
– Ну, теперь, – она ответила, – не фокус,
хоть сегодня, завтра, послезавтра.
Только для чего? Ведь все, что было
десять лет назад, – все было правдой,
только мне она не по карману.
Был бы ты бродяга, неудачник,
я бы думала: тебя я погубила;
был бы ты деляга, вроде мужа моего,
вышло бы – я приз переходящий.
А теперь мне хочется покоя,
я за десять лет его дождалась.
– Ну, а я вот нет. Ведь все на свете,
все, что я придумал, пересилил…
ведь за всем одно воспоминанье:
предвечерье мутное в июле,
и стоим мы на соседнем пляже,
надо нам спешить на электричку,
надо нам решить, чего мы стоим.
До сих пор я все это решаю,
как решу, так и покончу с этим. —
И тогда она сухую горстку
мелкого песка взяла со взморья
и вложила мне в ладонь.
Что значил этот жест,
никак мне не дознаться.
Тут подъехал их автомобильчик,
погудел нетерпеливо, нервно,
отзывая компаньонов с пляжа,
и через минуту он рванулся.
Вынул зажигалку, закурил я,
и она сыграла буги-вуги.
То, что мы отплясывали буйно
вперемежку с танцем па-де-катром.
1987–1992








