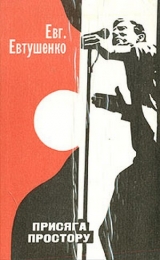
Текст книги "Присяга простору "
Автор книги: Евгений Евтушенко
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Ломают вышки мрачные
и проволоку прочь.
Ну, а в бараки попросту
с утра несет народ
кто скатерти, кто простыни,
кто шанежки, кто мед.
Приделывают ставенки,
кладут половики,
а я вот, дура старая,
жарки несу, жарки.
Пускай цветы таежные
стоят, красным-красны,
чтоб снились не тревожные,
не лагерные сны.
Уже мне еле ходится,
я, видно, отжила.
Вы стройте, что вам хочется,
лишь только б не для зла.
Моя избушка под воду
уйдет, ну и уйдет,
лишь только б люди подлые
не мучили народ...»
«Ну, что молчишь ты, бабушка?»
«Да так, сынки, нашло...»
«А что ты плачешь, бабушка?»
«Да так я, ничего...»
И крестит экскаваторы
и нас – на все века -
худая, узловатая
крестьянская рука...
НЮШКА
Я бетонщица, Буртова Нюшка.
Я по двести процентов даю.
Что ты пялишь глаза? Тебе нужно,
чтобы жизнь рассказала свою?
На рогожке пожухнувших пожней
в сорок первом году родилась
в глухоманной деревне таежной
по прозванью Великая Грязь.
С головою поникшей, повинной
мать лежала, пуста и светла,
и прикручена пуповиной
я к застылому телу была.
Ну, а бабы снопы побросали
и, склонясь надо мною, живой,
пуповину серпом обрезали,
перевязывали травой.
Грудь мне ткнула соседская Фроська.
Завернул меня дед Никодим
в лозунг выцветший «Все для фронта!»,
что над станом висел полевым.
И лежала со мной моя мамка
на высоком, до неба, возу.
Там ей было покойно и мягко,
а страданья остались внизу.
И осталось не узнанным ею,
что почти через месяц всего
пуля-дура под городом Ельня
угадала отца моего.
Председатель наш был не крестьянский,
он в деревню пришел от станка,
и рукав, пустовавший с гражданской,
был заложен в карман пиджака.
Он собранию похоронку
одинокой рукой показал:
«Как, народ, воспитаем девчонку?» -
и народ: «Воспитаем!» – сказал.
Я была в это горькое время
вроде трудного лишнего рта,
но никто меня в нашей деревне
никогда не назвал «сирота».
Затаив под суровостью ласку,
председатель совал, как отец,
то морковь, то тряпичную ляльку,
то с налипшей махрой леденец.
Меня бабы кормили картошкой,
как могли, одевали в свое,
и росла я деревниной дочкой
и, как мамку, любила ее.
Отгремела война, отстреляла,
солнце нашей победы взошло,
ну, а мамка-деревня страдала,
и понять не могла я, за что.
«План давайте!» – из центра долбили.
Телефон ошалел от звонков,
ну, а руки напрасно давили
на иссохшие сиськи коров.
И такие же руки в порезах,
в черноте неотмывной земли
мне вручили хрустящий портфельчик
и до школы меня довели.
Мы уселись неловко за парты,
не дышали, робки и тихи.
От учителки чем-то пахло -
я не знала, что это духи.
Городская, в очках и жакете,
прервала она тишину:
«Что такое Отчизна, дети?
Ну-ка, дети, подумайте, ну?..»
Мы молчали в постыдной заминке:
нас такому никто не учил.
«Знаю – Родина!» – Петька-заика
торжествующе вдруг подскочил.
«Ну, а Родина?» – в нетерпенье
карандашик стучал по столу.
Я подумала: «Наша деревня!» -
но от страха смолчала в углу.
Я училась, я ум напрягала,
я по карте указкой вела.
Я ледащих коней запрягала
и за повод вперед волокла.
Я молола, колола, полола,
к хлебопункту возила кули,
насыпала коровам полову,
а они ее есть не могли.
Я брала самоплетку-корзинку
да еще расписной туесок
и ходила в тайгу по бруснику,
по грибы и по дикий чеснок.
Из тайги – моего огорода -
к председателю шла поскорей,
потому что средь прочих голодных
он в деревне был всех голодней.
Ел он жадно, все сразу сметая,
и шутил он, скрывая тоску:
«Есть грибы, да вот нету сметанки...
Есть брусника, да нет сахарку...»
Брал он Ленина старое фото,
и часами смотрел и курил,
и как будто бы спрашивал что-то,
и о чем-то ему говорил.
А потом, просветленно очнувшись,
прижимал меня крепко к груди:
«Ничего, все изменится, Нюшка...
Погоди еще чуть, погоди...»
Меж деревней и телефоном,
разрываясь, метался он.
Хлеба требовали исступленно
и деревня и телефон.
Хряки с голоду выли, как волки,
ну, а в трубку горланили: «План!»
И однажды из дряхлой двустволки
он пустил себе в сердце жакан.
И лежал он, и каждый стыдился,
что его не сберег от курка,
а нахмуренный Ленин светился
на борту его пиджака.
Молчаливо глядели оба.
Было страшно и мне и другим,
что захлопнется крышка гроба
и за Лениным и за ним.
Я росла, семилетку кончала,
но на душных полатях во сне
я порою истошно кричала.
Что-то страшное виделось мне...
Будто все на земле оголенно -
ни людей, ни зверей, ни травы:
телефоны одни, телефоны
и гробы, и гробы, и гробы...
И в осеннюю скользкую пасмурь
из деревни Великая Грязь,
получив еле-еле свой паспорт,
в домработницы я подалась.
Мой хозяин – солидная шишка -
был не гад никакой, не злодей,
только чуяла я без ошибки:
он из тех телефонных людей.
Обходился со мною без мата,
правда, вместе за стол не сажал,
но на праздник Восьмого марта
мне торжественно руку пожал.
И, подвыпив, басил разморенно:
«Ну-ка, Нюшка, грибков подложи,
да и спой-ка... Я сам из народа...
Спой народную... Спой для души...»
Я с утра пылесосила шторы,
нафталинила польта, манто,
протирала рояль, на котором
не играл в этом доме никто.
В деревянных скользучих колодках
натирала мастикой паркет
и однажды нашла за комодом
запыленный известный портрет.
Я спросила, что делать с портретом, -
может, выбросить надлежит,
но хозяин, помедлив с ответом,
усмехнулся: «Пускай полежит. .»
Он, газеты прочтенные скомкав,
становился угрюм и надут:
«Ну и ну!.. Чего доброго, скоро
до партмаксимума дойдут».
Расковыривал яростно студень,
воротясь из колхоза в ночи:
«Кулаком, понимаешь ли, стукнул,
а уже говорят, не стучи...»
И, заснуть неудачливо силясь,
он ворчал, не поймешь на кого:
«Демократия... Распустились!..
Жаль, что нету на них самого...»
Одобренье лицом выражая,
но, как должно, чуть-чуть суроват,
проверял он, очки водружая,
за него сочиненный доклад.
И звонил он: «Илюша, ты мастер...
В общем, надо сказать, удалось.
Юморку бы народного малость,
да и пару цитаток подбрось».
И подбрасывали цитаток,
и народного юморка,
и баранинки, и цыпляток,
и огурчиков, и омулька.
Уж кого он любил, я не знала,
только знала одно – не людей.
И шофер – необщительный малый -
его точно прозвал: «Прохиндей».
Я все руки себе простирала
и сбежала, сама не своя.
В судомойки вагон-ресторана
поступила по случаю я.
И я мыла фужеры и стопки,
соскребала ромштексы, мозги
от Москвы и до Владивостока,
а оттуда – опять до Москвы.
Крал главповар, буфетчицы крали,
а в окне проплывала страна,
проплывали заводы и краны,
трактора, самолеты, стога.
Сквозь окурки, объедки, очистки
я глядела, как будто во сне,
и значение слова «Отчизна»
открывалось, как Волга, в окне.
В той Отчизне, суровой, непраздной,
прохиндействовать было – что красть
у рабочих, у площади Красной,
у деревни Великая Грязь.
Было – с разными фразами лезли,
было – волю давали рукам,
ну, да это не страшное, если
в крайнем случае и по щекам.
И скисали похабные рожи,
притихали в момент за столом.
В основном-то народ был хороший.
Он хороший везде в основном.
Но меж теми, кто ели и пили
и в окне наблюдали огни,
пассажиры особые были -
чем-то тайным друг другу сродни.
Так никто не глядел на вокзалы
и на малости жизни живой
изнуренными глазами,
обведенными синевой.
Возвращались они долгожданно,
исхудалые, в седине,
с Колымы, Воркуты, Магадана,
наконец возвращались к стране.
Не забудешь, конечно, мгновенно
ни овчарок, ни номер ЗК,
но была в этих людях вера,
а не то чтобы, скажем, тоска.
И какое я право имела
веру в жизнь потерять, как впотьмах,
если люди, кайля онемело,
не теряли ее в лагерях!
А однажды в ковбойках и кедах
к нам ввалился народ молодой
и запел о туманах и кедрах
над могучей рекой Ангарой.
Танцевали колеса и рельсы.
Окна ветром таежным секло.
«А теперь за здоровье Уэллса!» -
кто-то поднял под хохот ситро.
И очкарик, ученый ужасно,
объяснил мне тогда, что Уэллс
был писатель такой буржуазный
и не верил он в Братскую ГЭС.
Я к столу подошла робковато
и спросила, идя напролом:
«А меня не возьмете, ребята?»
И ребята сказали: «Возьмем!»
И я встала, тайгу окликая,
вместе с нашей гурьбой озорной,
не могучая никакая
над могучей рекой Ангарой.
Потревоженно гуси кричали.
Где-то лоси трубили в ответ.
Мы счастливо стояли, братчане,
в нашем Братске, которого нет.
А имущество было у Нюшки -
пара стоптанных башмаков,
да облупленный нос, да веснушки,
да неполных семнадцать годков.
Впрочем, был чемоданчик фанерный
с незаманчивым всяким тряпьем,
и висел для сохранности верной
небольшенький замочек на нем.
Но в палатке у нас нетуманно
заявили, жуя геркулес,
что с замочками на чемоданах
не построить нам Братскую ÃÝÑ.
Виновато я сжалась в комочек,
и, на стройку идя поутру,
я швырнула тот чертов замочек
и замочек с души – в Ангару!
Стали личным имуществом сосны,
цифры мелом на грубых щитах
и улыбки, а слезы – так слезы
у товарок моих на щеках.
И когда я спала, мне светила
под урчанье машин и зверья
мною выстроенная плотина -
и не чья-нибудь – лично моя!
Словно льдинка, чуть брезжило солнце.
Был мой лом непомерно большим.
И свисали сосульками сопли
под зашмыганным носом моим.
Но себе говорила я: «Нюшка,
тянет лечь, ну, а ты не ложись.
Пусть из носа хоть сопли, хоть юшка, -
ты деревнина дочка... Держись!
Ты шатаешься... Тебе худо...
Но долби и долби, не валясь,
чтобы жизнь получшела повсюду -
и в деревне Великая Грязь».
Страшный ветер меня колошматил,
и когда уже не было сил,
то мне чудился председатель,
как он с Лениным говорил.
И опять я долбила под грохот,
и жила, и дышала одним:
не захлопнется крышка гроба
ни за Лениным, ни за ним!
И я верила в это не словом,
не пустою газетной строкой,
а я верила своим ломом,
и лопатою, и киркой.
А потом и бетонщицей стала,
получила общественный вес.
Вместе с городом я вырастала,
и я строилась вместе с ГЭС.
Но, казалось, под наговор вешний,
лишь вибратор на миг положу -
ничего я на деле не вешу,
отделюсь от земли – полечу!
И летела по небу, летела,
ни бетона не видя, ни лиц,
и чего-то такого хотела,
что похоже на небо и птиц.
Но на радость мою и на горе
над ломающей льдины горой
появился весною в конторе
интересный москвич молодой.
Был он гордый... Не пил, не ругался,
на девчонок глаза не косил.
Увлекался искусством, а галстук
и в рабочее время носил.
Я себя убеждала: «Да что ты!
На столе его, дура, лежит,
понимаешь, не чье-нибудь фото,
а французской артистки Брижитт».
И глядела я в зеркало хмуро
и за словом не лезла в карман:
«Недоучка... Кубышкой фигура...
И румянец уж слишком румян...»
Я купила в аптеке лосьону
для смягчения кожи рук.
Терла, терла я их потаенно
от своих закадычных подруг.
И, терпя от насмешников муку,
только сверху я трогала суп
и крутила проклятую штуку
под названием «хула-хуп».
И читала я книжку за книжкой,
и для бледности уксус пила -
все равно оставалась кубышкой,
все равно краснощекой была.
Виновата ли я, что эпохе
было некогда не до меня,
что росла на черняшке, картохе,
о фигуре не думала я?
Мой румянец – не с витаминов,
не от пляжей, где праздно лежат,
а от хлещущих вьюг сатанинских,
от мороза за пятьдесят.
Ты, наверно бы, так не смеялась,
не такой бы имела ты вид,
если б в Нюшкиной шкуре хоть малость
побывала, артистка Брижитт!
Позабыть я себя заставляю -
никогда позабыть не смогу,
как отпраздновать Первое мая
мы поплыли на лодках в тайгу.
Пили «гымзу» под частик в томате
за любовь и за Братскую ГЭС.
Кто-то был уже в чьей-то помаде...
Кто-то с кем-то куда-то исчез...
Я смотрела тайком пригвожденно,
как, от всех и меня вдалеке,
размышлял у костра отчужденно
он с приемничком-крошкой в руке.
Несся танец по имени «мамба»
и Парижей и Лондонов гул,
и шептала я: «Мамочка-мама,
хоть бы раз на меня он взглянул!»
И взглянул – в первый раз любопытно...
Огляделся – мы были вдвоем,
и, кивнув на вечерние пихты,
он устало сказал мне: «Пойдем...»
И пошла, хоть и знала с тоскою:
оттого это все так легко,
что я рядом была, под рукою,
а француженка та далеко.
Я дрожала, как будто зверюшка,
и от страха, и от стыда.
До свидания, бывшая Нюшка!
До свидания, до свида...
И заплакала я над собою...
Был в испуге он: «Что ты дуришь?»
А в приемничке рядом на хвое
надо мною смеялся Париж.
С той поры тот москвич поразумнел:
и наряды он мне отмечал,
и выписывал новый инструмент,
а как будто бы не замечал.
Но однажды во время работы
закачалося все на земле.
И внутри меня торкнулось что-то,
объявляя само о себе.
Становилось все чаще мне плохо,
не смотрела почти на еду...
Но зачем же, такая дуреха,
я сказала об этом ему?!
Смерил взглядом холодным и беглым
и, приемничком занят своим,
процедил: «Я, конечно, был первым,
но ведь кто-то мог быть и вторым...»
«Семилетку в четыре года!» -
бились лозунги, как всегда,
а от гадости и от горя
я бежала не знаю куда.
Я взбежала на эстакаду,
чтобы с жизнью покончить враз,
но я замерла истуканно,
под собой увидев мой Братск.
И меня, как ребенка, схватила
с беззащитным укором в глазах
недостроенная плотина
в арматуре и голосах.
И сквозь ревы сирен и смятенье
голубых электродных огней
председатель и Ленин смотрели,
и те самые, из лагерей.
И кричала моя деревушка,
и кричала моя Ангара:
«Как ты можешь такое, Нюшка?
Как ты можешь?» И я не смогла.
От бригадных девчат и от хлопцев
положенье скрывая с трудом,
получив полагавшийся отпуск,
я легла на девятом в роддом.
Я металась в постели ночами,
и под грохот и отблески ГЭС
появился наш новый братчанин,
губошлепый, мокрехонький весь.
Появился такой неуемный
и хватался за все, хоть и слаб.
Появился, ни в чем не виновный,
и орал, как на стройке прораб.
И когда его грудью кормила,
председатель, я слез не лила.
В твою честь я сынишку Трофимом,
хоть не модно, а назвала.
Я вникала в свое материнство,
а в палату ко мне между тем
поступали цветы, мандарины,
погремушки, компоты и джем.
Ну, а вскоре сиделка седая,
помогая надеть мне пальто,
сообщила: «Вас там ожидают...»
И, ей-богу, не знала я – кто.
И, прижав драгоценный мой сверток
и, признаться, тревогу тая,
на ногах закачавшись нетвердых,
всю бригаду увидела я.
И расплакалась я неприлично,
прислонившись ослабло к стене.
Значит, все они знали отлично,
только виду не подали мне.
Слезы лились потоком – стыдища!..
Но, меня ото слез пробудив,
«Дай взглянуть-то, каков наш сынишка...» -
грубовато сказал бригадир.
Мне народ помогал, как сберкнижка.
Меня спрашивали с той поры,
улыбаясь: «Ну, как наш сынишка?» -
и монтажники и маляры.
И, внезапно остановившись,
из кабины просунув вихор,
улыбаясь: «Ну, как наш сынишка?» -
мне кричал незнакомый шофер.
Экскаваторщики, верхолазы,
баловали его, шельмецы,
и смущенно и доброглазо
поднимали, как будто отцы.
И со взглядом нетронуто-синим
не умел он еще понимать,
что он сделался стройкиным сыном,
как деревниной дочкою – мать...
И в огромной толпе однокашной
с ним я шла через год под оркестр.
В этот день – и счастливый и страшный -
состоялось открытие ГЭС.
Я шептала тихонечко: «Трошка! -
прижимая сынишку к груди. -
Я поплачу, но только немножко.
Я поплачу, а ты уж гляди...»
И казалось мне – плакали тыщи,
и от слез поднималась вода,
и пошел, и пошел он, светище,
через жилы и провода.
На знаменах торжественно-алых
к людям рвущийся Ленин сиял,
и в толпе средь спецовок линялых
председатель, наверно, стоял.
И под музыку, шапки и крики
вся сверкала и грохала ГЭС...
Жаль, что не был тогда на открытье
буржуазный писатель Уэллс!
...Вот вишу я с подругою Светкой
на стремянке в шальной вышине
и домазываю последки
у плотины на серой спине.
Вроде все бы спокойно, все в норме,
а в руках моих – детская дрожь,
и задумываюсь: по форме
мастерок на сердечко похож.
Я, конечно, в детали не влажу,
что нам в будущем суждено,
но сердечком своим его мажу,
чтобы было без трещин оно.
Чтобы бабы сирот не рожали,
чтобы хлеба хватало на всех,
чтоб невинных людей не сажали,
чтоб никто не стрелялся вовек.
Чтобы все и в любви было чисто
(а любви и сама я хочу),
чтоб у нас коммунизм получился
не по шкурникам – по Ильичу.
Я, конечно, помру, хоть об этом
говорить еще рано пока,
но останусь я все-таки светом
на года, а быть может, века.
И на фабрике, и в кабинете,
и в кругу сокровенном семьи
знайте: лампы привычные эти -
Ильича и немножко мои.
Пусть запомнят и внуки и внучки,
все светлей и светлей становясь:
этот свет им достался от Нюшки
из деревни Великая Грязь.
БОЛЬШЕВИК
Я инженер-гидростроитель Карцев.
Я не из хилых валидольных старцев,
хотя мне, мальчик мой, за шестьдесят.
Давай поговорим с тобой чин чином,
и разливай, как следует мужчинам,
в стаканы водку, в рюмки – лимонад.
Ты хочешь, – чтобы начал я мгновенно
про трудовые подвиги, наверно?
А я опять насчет отцов-детей.
Ты молод, я моложе был, пожалуй,
когда я, бредя мировым пожаром,
рубал врагов Коммуны всех мастей.
Летел мой чалый, шею выгибая,
с церквей кресты подковами сшибая,
и попусту, зазывно-веселы,
толпясь, трясли монистами девахи,
когда в ремнях, гранатах и папахе
я шашку вытирал о васильки.
И снились мне индусы на тачанках,
и перуанцы в шлемах и кожанках,
восставшие Берлин, Париж и Рим,
весь шар земной, Россией пробужденный,
и скачущий по Африке Буденный,
и я, конечно, – скачущий за ним.
И я, готовый шашкой бесшабашно
срубить с оттягом Эйфелеву башню,
лимонками разбить витрины вдрызг
в зажравшихся колбасами нью-йорках, -
пришел на комсомольский съезд в опорках,
зато в портянках из поповских риз.
Я ерзал: что же медлят с объявленьем
пожара мирового? Где же Ленин?
«Да вот он...» – мне шепнул сосед-тверяк.
И вздрогнул я: сейчас ОНО случится...
Но Ленин вышел и сказал: «Учиться,
учиться и учиться...» Как же так?
Но Ленину я верил... И в шинели
я на рабфак пошел, и мы чумели
на лекциях, голодная комса.
Нам не давали киснуть малахольно
Маркс-Энгельс, постановки Мейерхольда,
махорка, Маяковский и хамса.
Я трудно грыз гранит гидростроенья.
Я обличал не наши настроения,
клеймя позором галстуки, фокстрот,
на диспутах с Есениным боролся
за то, что видит он одни березки,
а к индустрийной мощи не зовет.
Был нэп. Буржуи дергались в тустепе.
Я горько вспоминал, как пели степи,
как напряженно-бледные клинки
над кутерьмой погонов и лампасов
в полете доставали до пампасов,
которые казались так близки.
Я, к подвигам стремясь, не сразу понял,
что нэп и есть не отступленье – подвиг.
И ленинец, мой мальчик, только тот,
кто, – если хлеба нет, коровы дохнут, -
идет на все, ломает к черту догмы,
чтоб накормить, чтобы спасти народ.
Кричали над Россией паровозы.
К штыкам дрожавшим примерзали слезы.
В трамваях прекратилось воровство.
Шатаясь, шел я с Лениным проститься,
и, как живое что-то, в рукавице
грел партбилет – такой, как у него.
И я шептал в метельной круговерти:
«Мы вырвем, вырвем Ленина у смерти
и вырвем из опасности любой!
Неправда будет – из неправды вырвем!
Товарищ Ленин, только слезы вытрем -
и снова в бой, и снова за тобой!»
В Узбекистане строил я плотину.
Представь такую чудную картину,
когда грузовиками – ишаки.
Ну, а зато, зовущи и опасны,
как революционные пампасы,
тревожно трепетали тростники.
Нас мучил зной, шатала малярия,
но ничего: мы были молодые.
Держались мы, и, не спуская глаз,
все в облаках, из далей неохватных,
как будто басмачи в халатах ватных,
глядели горы сумрачно на нас.
Всю технику нам руки заменяли.
Стучали мы кирками, кетменями,
питаясь ветром, птичьим молоком,
и я счастливо на топчан валился.
А где-то Маяковский застрелился.
(А после был посажен Мейерхольд.)
Я за день ухайдакивался так, что
дымилась шкура. Но угрюмо, тяжко
ломились мысли в голову, страшны.
И я оцепенело и виновно
не мог понять, что делается – словно
две разных жизни были у страны.
В одной – я строил ГЭС под вой шакалов.
В одной – Магнитка, Метрострой и Чкалов,
«Вставай, вставай, кудрявая...», и вихрь
аплодисментов там, в кремлевском зале...
В другой – рыданья: «Папу ночью взяли...» -
и – звезды на пол с маршалов моих.
Я кореша вопросами корябал,
с Алешкой Федосеевым, прорабом,
мы пили самогон из кишмиша,
и кулаком прораб грозил кому-то:
«А все-таки мы выстроим Коммуну!» -
и, плача, мне кричал: «Не плакать! Ша!»
Но мне сказал мой шеф с лицом аскета,
что партия дороже дружбы с кем-то.
Пронзающе взглянул, оправил френч
и постучал значительно по сейфу:
«Есть матерьялы – враг твой Федосеев...
А завтра партактив... Продумай речь...»
«Так надо!» – он вослед не удержался.
«Так надо!» – говорили – я сражался.
«Так надо!» – я учился по складам.
«Так надо!» – строил, не прося награды,
но если лгать велят, сказав: «Так надо!»,
и я солгу, – я Ленина предам!
И я, рубя с размаху ложь в окрошку,
за Ленина стоял и за Алешку
на партактиве, как под Сивашом.
Плевал я, что мой шеф не растерялся,
а рьяно колокольчиком старался
и яростно стучал карандашом.
Я вызван был в Ташкент. Я думал – это
для выясненья подлого навета.
Я был свиреп. Я все еще был слеп.
Пришли в мой номер с кратким разговором
и увезли в фургоне, на котором
написано, как помню, было «Хлеб».
Когда меня пытали эти суки,
и били в морду, и ломали руки,
и делали со мной такие штуки -
не повернется рассказать язык! -
и покупали: «Как насчет рюмашки!» -
и мне совали подлые бумажки,
то я одно хрипел: «Я большевик!»
Они сказали, усмехнувшись: «Ладно!» -
на стул пихнули, и в глаза мне – лампу,
и свет меня хлестал и добивал.
Мой мальчик, не забудь вовек об этом:
сменяясь, перед ленинским портретом,
меня пытали эти суки светом,
который я для счастья добывал!
И я шептал портрету в исступленье:
«Прости ты нас, прости, товарищ Ленин...
Мы победим их именем твоим.
Пусть плохо нам, пусть будет еще хуже,
не продадим, товарищ Ленин, души,
и коммунизма мы не продадим!»
Мы лес в тайге валили, неречисты,
партийцы, инженеры и чекисты,
начдивы... Как могло такое быть?
Кого сажали, знали вы, сексоты?
И жуть брала, как будто не кого-то,
а коммунизм хотели посадить.
Но попадались, впрочем, здесь и гады...
Я помню, из трелевочной бригады
«мой шеф» в лохмотьях бросился ко мне.
А я ему ответил не без такта:
«Мне партия дороже дружбы. Так-то!»
Он с той поры держался в стороне.
Я злее стал и в то же время мягче.
Страданья просветляют нас, мой мальчик,
и помню я, как, сев на бурелом,
у костерка обкомовец свердловский
Есенина читал нам, про березки,
и я стыдился прежних слов о нем.
Война... Я помню, шибко Гитлер начал...
Но, «враг народа», – для победы нашей
я на Кавказе строил ГЭС опять.
Ее в скале с хитринкой мы долбили,
и «хейнкели» ночами нас бомбили,
но не могли, сопливые, достать.
Вокруг, следя, конвойные стояли,
но ты не понимал, товарищ Сталин,
что, от конвоя твоего вдали,
тобой пронумерованные зеки,
мы шли через моря и через реки
и до Берлина с армией дошли.
Никто героем здесь не назывался.
Над нами красный стяг не развевался,
но бились мы за Родину свою.
И мы, сомкнувшись, как под красным стягом,
отпор давали власовцам, блатягам
и прочей контре, будто бы в бою.
«Врагом народа» так же оставаясь,
я строил ГЭС на Волге, не сдаваясь.
Скрывали нас от иностранных глаз.
А мы рекорды били. Мы плевали,
что не снимали нас, не рисовали
и не писали очерков про нас.
Но я старел, и утешала Волга
и шелестела мне: «Еще недолго...»
А что недолго? Жить? Сутул и сед,
я нес, вконец измотан, свою муку,
когда в уже слабеющую руку
Двадцатый съезд вложил мне партбилет.
Не буду говорить, что сразу юность -
ах, ах! – на крыльях радости вернулась,
но я поехал строить в Братске ГЭС.
Да, юность, мальчик мой, невозвратима,
но посмотри в окно: там есть плотина?
И, значит, я на свете тоже есть.
Я вижу, ты, мой мальчик, что-то грустен.
Ты грусть свою заешь соленым груздем
и выпей-ка, да мне еще налей.
Разбередил тебя? Но я не каюсь:
вас надо бередить... Ну, а покамест
продолжу я насчет отцов-детей.
Ты, помни, видя стройки и плотины,
во что мой свет когда-то обратили.
Еще не все – технический прогресс.
Ты не забудь великого завета:
«Светить всегда!» Не будет в душах света -
нам не помогут никакие ГЭС!
Ты помни наши звездные папахи,
горевшие у нас в глазах пампасы,
бессонницу строительных ночей,
«Я большевик!» – под той проклятой лампой
и веру в жизнь за лагерной баландой...
Ни в чем таких отцов предать не смей!
Ты помни всех, кто корчевал и строил
и кто не лез в герои – был героем,
себе не накопивши ни копья.
Ты помни комиссарскую породу -
они не лгали никогда народу,
и ты не лги, мой мальчик, никогда!
Но помни и других отцов – стучавших,
сажавших или подленько молчавших, -
в Коммуне места нет для подлецов!
Ты плюй на их угрозы или ласки!
Иди, мой мальчик, чист по-комиссарски,
с отцовской правдой против лжи отцов!
И ежели тебе придется туго,
ты не предай ни совести, ни друга:
ведь ты предашь и мертвых и живых.
Иди, мой мальчик! Знай, готовясь к бою:
Алешка, я и Ленин за тобою.
И клятвой повтори: «Я большевик!»
ДИСПЕТЧЕР СВЕТА
Я диспетчер света, Изя Крамер.
Ток я шлю крестьянину, врачу,
двигаю контейнеры и краны
и кинокомедии кручу.
Где-то в переулочках неслышных,
обнимаясь, бродят, как всегда.
Изя Крамер светит вам не слишком?
Я могу убавить, если да.
У меня по личной части скверно.
До сих пор жены все нет и нет.
Сорок лет не старость, это верно,
только и не юность сорок лет.
О своей судьбе я не жалею,
отчего же все-таки тогда
зубы у меня из нержавейки,
да и голова седым-седа!
Вот стою за пультом над водою,
думаю про это и про то,
а меня на белом свете двое,
и не знает этого никто.
Я и здесь и в то же время где-то.
Здесь – дела, а там – тела, тела...
Проволока рижского гетто
надвое меня разодрала.
Оба Изи в этой самой коже.
Жарко одному, другой дрожит.
Одному кричат: «Здорово, кореш!» -
а другому: «Эй, пархатый жид!»
И у одного, в тайге рождаясь,
просят света дети-города,
у другого к рукаву прижалась
желтая несчастная звезда.
Но другому на звезду, на кепку
сыплется черемуховый цвет,
а семнадцать лет – они и в гетто,
что ни говори, семнадцать лет.
Тело жадно дышит сквозь отрепья
и чего-то просит у весны...
А у Ривы, как молитва ребе,
волосы туманны и длинны.
Пьяные эсесовцы глумливо
шляются по гетто до зари...
А глаза у Ривы – словно взрывы,
черные они, с огнем внутри.
Молится она окаменело,
но молиться губы не хотят
и к моим, таким же неумелым,
шелушась, по воздуху летят!
И, забыв о голоде и смерти,
полные особенным, своим,
мы на симфоническом концерте
в складе продовольственном сидим.
Пальцы на ходу дыханьем грея,
к нам выходит крошечный оркестр.
Исполнять Бетховена евреям
разрешило все-таки эсэс.
Хилые, на ящиках фанерных,
поднимают скрипки старички,
и по нервам, по гудящим нервам
пляшут исступленные смычки.
И звучат бомбежки ураганно,
хоры мертвых женщин и детей,
и вступают гулко и органно
трубы где-то ждущих нас печей.
Ваша кровь, Майданек и Освенцим,
из-под пианинных клавиш бьет,
и, бушуя, – немец против немцев, -
Людвиг ван Бетховен восстает!
Ну, а в дверь, дыша недавней пьянкой,
прет на нас эсэсовцев толпа...
Бедный гений, сделали приманкой
богом осененного тебя.
И опять на пытки и на муки
тащит нас куда-то солдатня.
Людвиг ван Бетховен, чьи-то руки
отдирают Риву от меня!
Наш концлагерь птицы облетают,
стороною облака плывут.
Крысы в нем и то не обитают,
ну, а люди пробуют – живут.
Я не сплю, на вшивых нарах лежа,
и одна молитва у меня:
«Как меня, не мучай Риву, боже,
сделай так, чтоб Рива умерла!»
Но однажды, землю молчаливо
рядом с женским лагерем долбя,
я чуть не кричу... я вижу Риву,
словно призрак, около себя.
А она стоит, почти незрима
от прозрачной детской худобы,
колыхаясь, будто струйка дыма
из кирпичной лагерной трубы.
И живая или неживая -
не пойму... Как в сон погружена,
мертвенно матрасы набивает
человечьим волосом она.
Рядом ходит немка, руки в бедра,
созерцая этот страшный труд.
Сапоги скрипят, сверкают больно.
Сапоги новехонькие. Жмут.
«Эй, жидовка, слышишь, брось матрасы!
Подойди! А ну-ка помоги!»
Я рыдаю. С ног ее икрастых
стягивает Рива сапоги.
«Поживее! Плетки захотела!
Посильней тяни! – И в грудь пинком. -
А теперь их разноси мне, стерва!
Надевай! Надела? Марш бегом!»
И бежит, бежит по кругу Рива,
спотыкаясь посреди камней,
и солдат лоснящиеся рыла
с вышек ухмыляются над ней.
Боже, я просил ей смерти, помнишь?
Почему она еще живет?
Я кричу, бросаюсь ей на помощь,
мне товарищ затыкает рот.
И она бежит, бежит по кругу,
падает, встает, лицо в крови.
Боже, протяни ей свою руку,
навсегда ее останови!
Боже, я опять прошу об этом!
Милосердный боже, так нельзя!
Солнце, словно лагерный прожектор,
Риве бьет в безумные глаза.
Падает... К сырой земле прижалась
девичья седая голова.
Наконец-то вспомнил бог про жалость.
Бог услышал, Рива: ты мертва...
Я диспетчер света, Изя Крамер.
Я огнями ГЭС на вас гляжу,
грохочу электротракторами
и электровозами гужу.
Где-то на бетховенском концерте
вы сидите, – может быть, с женой,
ну, а я – вас это не рассердит? -
около сажусь, на приставной.
Впрочем, это там не я, а кто-то...
Людвиг ван Бетховен, я сейчас
на пюпитрах освещаю ноты
из тайги, стирая слезы с глаз.
И, платя за свет в квартире вашей,
счет кладя с небрежностью в буфет,
помните, какой ценою страшной
Изя Крамер заплатил за свет.
Знает Изя: много надо света,
чтоб не видеть больше мне и вам
ни колючей проволоки гетто
и ни звезд, примерзших к рукавам.
Чтобы над евреями бесчестно
не глумился сытый чей-то смех,
чтобы слово «жид» навек исчезло,
не позоря слова «человек»!
Этот Изя кое-что да значит -
Ангара у ног его лежит,
ну, а где-то Изя плачет, плачет,
ну, а Рива все бежит, бежит. .
НЕ УМИРАЙ, ИВАН СТЕПАНЫЧ
Не умирай, Иван Степаныч,
не умирай, не умирай...
Нехорошо ты поступаешь,
бросая свой родимый край.
Лежишь ты в Братской горбольнице,
седобородый, у окна,
а над тобой сиделки, шприцы
и белизна, и белизна.
Ты и обласкан и ухожен,
и здесь просторная изба,
но ты уходишь, ты уходишь,
Иван Степаныч, из себя.
Иван Степаныч, верь в леченье,
Иван Степаныч, не спеши...
Но тело медленно легчеет,
освобождаясь от души.
И твои руки тянет, тянет
какой-то силой роковой
земля, темнея под ногтями,
соединиться вновь с землей.
Ты жил на крохотной заимке
в низовье самом Ангары,
и землю знал ты до землинки
еще с мальчишеской поры.
И, как земля, тебе знакома
была от века Ангара,
ее суровые законы,
ее пороги, шивера.
Ты всяким слухам супротивно
не мог поверить целый год,
что поперек нее плотина
стоит и людям свет дает.
Но ты, в раздумьях трудных глядя
на точки красненькие «ТУ»,
котомку все-таки наладил
да и поплыл на верхоту.
И вот увидел ты плотину,
и вот увидел нашу ГЭС,
и, щуплый, седенький, притихло
везде с котомочкою лез.
Не слыша окриков и шуток,
цементной пылью весь покрыт,
плотину ты, не веря, щупал
и убеждался: да, стоит.
И вдруг в глазах все покачнулось
и вбок плотину повело,
и сердце словно бы споткнулось -
устало сердце, подвело.
И ты упал у поворота
и руки странно распростер...








