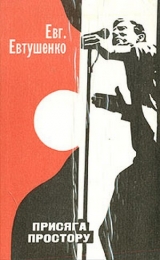
Текст книги "Присяга простору "
Автор книги: Евгений Евтушенко
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
седобров и меднолиц,
словно грек, печалью маясь,
с русской шхуны моторист.
Моторист садится рядом:
«Выпьем, что ли, корешок!» —
и ручищею корявой
молча лезет в кожушок.
Углубленно,
деловито
из кармана
достает
переводчицу
– пол-литру,
о скамейку
воблой бьет.
И сидят, и пьют в молчанье,
и глядят, обнявшись, вдаль
вместе с греческой печалью
наша русская печаль...
1904
139
НЕВЕСТА
На Печоре есть рыбак
по имени Глаша.
Говорит с парнями такз
«Глаша, да не ваша!»
Ухажеров к ляду шлет,
сердится серьгами.
Сарафаны себе шьет
из сиянья северного!
Не красна она, наверно,
модною прическою,
но зато в косе не лента,
а волна печорская!
Недоступна и строга,
сети вытягает,
а глаза, как два сига,
из-под платка сигают!
Я ходил за иен,
робея,
зачарованный,
как черемухою, ею
зачеремленный.
Я не знал, почему
(может быть, иаветно)
говорили по селу
про нее: «Невеста».
«Чья? – ходил я сам не свой.—
Может, выдумали?»
Рыбаки, дымя махрой,
ничего не выдымили.
«Чья она? Чья она?
Чья она невеста?» —
спрашивал отчаянно
у норд-веста.
НО
Вдруг один ко мне прилип
старичок запечный,
словно тундровый гриб,
на мокре взошедший:
«Больно быстр, я погляжу.
Выставь четвертииочку —
и на блюдце положу
тайну, как чаиночку..»
Пил да медлил, окаянный,
а когда все выкачал:
«Чья невеста?
Океана...
Того... Ледовитыча...»
Если б не был пыоха стар
если б не был хилый,
я б манежинчать не стал —
дал бы в зад бахилой!
Водят за нос меня.
Что это за шутки!
Лж гогочет гагарпя,
а ж гогочут щуки!
Ну а Глаша на песке
карбас высмаливала
и прорехи в паруске
на свету ·высматривала.
Я сказал ей:
«Над водой
рыба вспрыгивает,
н, от криков став худой,
чернеть вскрикивает.
Хочешь – тундру подарю
лишь за взгляд за ласковый?.
Горностаем подобью
ватник твой залатанный.
Пойду с неводом Печорой
в потопленные луга,
семгу выловлю, в которой
не икра, а жемчуга.
141
все сложу я, что захочешь,
у твоих подвернутых
у резиновых сапожек,
чешуей подернутых.
В эту чертову весну,
сам себя замучив,
я попался на блесну
зубов твоих зовучих.
Но от пьюхи-недовеска,
пьяным-пьяного,
я слыхал, что ты невеста
океанова?!»
Отвечала Глаша: «Да.
Я его невеста.
Видишь, как в реке вода
не находит места.
Та вода идет,
идет
к седоте глубинной,
где давно меня он ждет —
мой седой любимый.
Не подав об этом вести,
веслами посверкивая,
приплыву к нему я вместе
с льдинами-последками.
И меня он обоймет
ночью облачною,
и в объятьях обомнет,
разом обмершую.
На груди своей держа,
все забыть поможет.
В изголовье мне моржа
мягкого положит.
Мне на все он даст ответ,
всплесками беседуя...
Что мои семнадцать лет?,
142
С ним я, как безлетпяя.
Все семнадцать чепушинок
с меня ссыплются,
дрожа,
как семнадцать чешуинок
из-под вострого ножа.
Океан то обласкает,
то грома раскатывает.
Все он гулом объясняет,
все про жизнь рассказывает.
Парень, лучше отвяжись.
Я твоей не стану.
Что ты скажешь мне про жизнь
после океана?
Потому себя блюду,
кавалер ты липовый,
что такого не найду,
как и он,
великого...»
И поднялся парусок,
и забился влажно,
и ушла наискосок
к океану Глаша.
Я шептал – не помню что —
с опустелым взглядом.
Видно, слишком я не то
с океаном рядом.
И одно, меня пронзив,
сверлит постоянно:
что же я скажу про жизнь
после океана?!
1963
143
ГЛУХАРИНЫЙ
ток
Охота – это вовсе не охота,
а что — я сам не знаю. Это что-то,
чего не можем сами мы постичь,
и, сколько бы мы книжек ни в к у с и л и , -
во всей его мяту шести и силе
зовет нас предков первобытный клич.
От мелких драк, от перебранок постных
беги в леса на глухариный подслух,
пружинно сжавшись, в темноте замри,,
вбирай в себя все шорохи и скрипы,
всех птиц журчанья, щелканья и всхлипы,
все вздрагиванья неба и земли.
Потом начнет надмирье освещаться,
как будто чем-то тайно освящаться,
и – как по табакерке ноготок —
из-за ветвей, темнеющих разлапо
и чуть уже алеющих, раздастся
сначала робко, тоненько: «Ток-ток!»
«Ток-ток!» – и первый шаг, такой же робкий.
«Ток-ток!» – и шаг второй, уже широкий.
«Ток-ток!» – и напролом сквозь бурелом.
«Ток-ток!» – через кусты, как в сумасшествье.
«Ток-ток!» – упал, и замираешь вместе
с невидимым тобою глухарем.
Но вновь: «Ток-ток!» – и вновь под хруст и шелест,
проваливаясь в прелую замшелость,
не утирая кровь от комарья,
как будто там отчаянно токует
и по тебе оторванно тоскует* <
твое непознаваемое «я».
Уже ты видишь, видишь па поляне
в просветах сосен темное пыланье.
Прыжок, и – леса гордый государь —
перед тобой, в оранжевое врублен,
сгибая ветку, отливая углем,
как черный месяц, светится глухарь.
Он хрюкает, хвостище распускает,
свистящее шипенье испускает,
поволит шеей, сам себя ласкает
и воспевает существо свое.
А ты стоишь, не зная, что с ним делать...
Само в руках твоих похололелых
дрожаще поднимается ружье.
А он – он замечать ружья не хочет.
Он в судорогах сладостных пророчит.
Он ерзает, бормочет. В нем клокочет
природы захлебнувшийся избыв.
А ты стреляешь. И такое чувство,
когда стреляешь, – словно это чудо
ты можешь сохранить, его убив.
Так нас кидают крови нашей гулы
на зов любви. Кидают в чьи-то губы,
чтоб ими безраздельно обладать.
Но сохранить любовь хотим впустую.
Вторгаясь в сущность таинства святую,
его мы можем только убивать.
Так нас кидает бешеная тяга
и к вам, холсты, и глина, и бумага,
чтоб сохранить природы красоту.
Рисуем, лепим или воспеваем —
мы лишь природу этим убиваем.
И от потуг бессильных мы в поту.
И что же ты, удачливый охотник,
невесел, словно пойманный охальник,
когда, спускаясь по песку к реке,
передвигаешь сапоги в молчанье
с бессмысленным ружьишком за плечами
и с убиенным таинством в руке?!
0963
!вг. Евтушенко
.
П5
ШУТЛИВОЕ
Комаров по лысине р а з м а з а в,
попадая в топи там и сям,
автор нежных дымчатых рассказов
шпарил из двустволки по гусям.
И, грузинским тостам не обучен,
речь свою за водкой и чайком
уснащал великим и могучим
русским нецензурным языком.
В духоте залузганной хибары
он ворчал, мрачнее сатаны,
по ночам – какие суки бабы
по у т р а м – к а к и е суки мы.
А когда храпел, ужасно громок,
думал я тихонько про себя:
за него, наверно, тайный гномик
пишет, нежно перышком скрипя.
Но однажды ночью темной-темной
при собачьем л а е и дожде
(не скажу, что с радостью огромной)
на зады мы вышли по нужде.
Совершая тот обряд законный,
мой товарищ, спрятанный в тени,
вдруг сказал мне с дрожью незнакомой:
«Погляди, как светятся они!»
Били прямо в нос навоз и силос.
Было гнусно, сыро и темно.
Ничего как будто не светилось
и светиться не было должно.
Но внезапно я увидел, словно
на минуту раньше был я слеп,
как свежеотесанные бревна
испускали ровный-ровный свет.
И была в них лунная дремота,
запах далей северных лесных
146
и еще особенное что-то,
выше нас и выше их самих.
А напарник тихо и блаженно
выдохнул из мрака: «Благодать...
Светятся-то, светятся как, Женька!»
и добавил грустно: «Так их мать!..»
1963
ПО ПЕЧОРЕ
За ухой, до слез перченной,
сочиненной в котелке,
спирт, разбавленный Печорой,
пили мы на катерке.
Катерок плясал по волнам
без гармошки трепака
и о льды на самом полном
обдирал себе бока.
И плясали мысли наши,
как стаканы на столе,
то о Д а ш е, то о Маше,
то о каше на земле.
Я был вроде и не пьяный,
ничего не упускал.
Как олень под снегом ягель,
под словами суть искал.
Но в разброде гомонившем
не добрался я до дна,
Ибо
СУТЬ
II
ГОВОРИВШИМ
не совсем была ясна.
Люди все куда-то плыли
по работе, но судьбе.
Люди пили. Люди были
неясны самим себе
117
Оглядел я, вздрогнув, кубрик:
понимает ли рыбак,
тот, что мрачно пьет и курит,
отчего он мрачен так?
Понимает ли завсклалом,
иродовольствеиный колосс,
что он спрашивает взглядом
из-под слипшихся волос?
Понимает ли, сжимая
локоть мои, товаровед,—
что он выяснить желает?
Понимает или нет?
Кулаком старпом грохочет.
Шерсть дымится на груди.
Ну, а что сказать он хочет —
разбери его поди.
Все кричат: иредсельсовета,
из рыбкопа чей-то з а м.
Каждый требует ответа,
а на ч т о – н е знает сам.
Ах ты, матушка-Россия,
что ты делаешь со мной?
То ли все вокруг смурные?.
То ли я один смурной!
Я – из кубрика на волю,
но, суденышко креня,
вопрошающие волны
навалились на меня.
Вопрошали что-то искры
из трубы у катерка,
вопрошали ивы, избы,
птицы, звери, облака.
Я прийти в себя пытался,
и под крики птичьих стай
я по палубе метался,
как по льдине горностай.
148
А потом увидел псица.
Он, как будто на холме,
восседал надменно, немо,
словно вечность, на корме.
Тучи шли над ним, нависнув,
ветер бил в лицо, свистя,
ну, а он молчал недвижно —
тундры мудрое дитя.
Я застыл, в о о б р а ж а я —
вот кто знает все про нас.
Но вгляделся – вопрошали
щелки узенькие глаз.
«Неужели, – как в тумане
крикнул я сквозь рев и г и к, —
все себя не понимают,
и тем более – других?»
Мои щеки повлажнели.
Вихорь брызг меня ш а т а л.
«Неужели? Неужели?
Неужели?» – я шептал. <
«ЭДожет быть, я мыслю грубо?
Может быть, я слеп и глух?
Может, все ие так уж глупо —
просто сам я мал и глуп?»
Катерок то погружался,
то взлетал, седым-седой.
Грудью к тросам я прижался,
наклонился над водой.
«Ты ответь мне, колдовская,
голубая глубота,
отчего во мне т а к а я
горевая глупота?
Езжу, плаваю, летаю,
все куда-то тороплюсь,
книжки умные читаю,
а умней не становлюсь.
149
Может, поиски, метанья —
не причина тосковать?
Может, смысл существованья
в том, чтоб смысл его искать?»
Ж д а л я, ж д а л я в криках чаек,
но ревела у борта,
ничего не отвечая,
голубая глубота.
1963
ИЗБА
И вновь рыбацкая изба
меня впустила ночью поздней
и сразу стала так близка,
как та, где по полу я ползал.
Я потихоньку лег в углу,
как бы в моем углу извечном
на шатком, щелистом полу,
мне до шершавинки известном.
Р ы б а к уже храпел вовсю.
Взобрались дети на полати,
1
д е р ж а в зубеиках на весу
еще горячие оладьи..
И лишь хозяйка не легла.
Она то мыла, то скоблила.'
Ухват, метла или игла —
в руках все время что-то было,
Печору, видно, проняло —
Печора ухала взбурленно.
«Дурит...» – хозяйка про псе
с к а з а л а, будто про буренку.
В коптилку тусклую дохнув,
хозяйка вышла. Мгла обстала
150
Л за стеною – «хлюп да хлюп!» —
стирать хозяйка в кухне стала.
Кряхтели ходики в ночи —
они историю влачили.
Светились белые лучи
свеженащепленной лучины.
И, удивляясь и боясь,
из темноты неприрученно
светились восемь детских глаз,
как восемь брызг твоих, Печора.
С полатей головы склоня,
из невозможно дальней дали
четыре маленьких меня
за мною, взрослым, наблюдали.
Чуть шевеля углами губ,
л е ж а л я, спяшим притворившись,
и вдруг затихло «хлюп да хлюп!» —
и дверь чуть-чуть приотворилась.
И ощутил я в тишине
сквозь ту притворную дремоту
сыздетства памятное мне
прикосновение чего-то.
Тулуп – а это был тулуп —
облег меня лохмато, ж а р к о,
а в кухне снова – «хлюп да хлюп!»
стирать хозяйка продолжала.
Сновали руки взад-вперед
в пеленках, простынях и робах,
под всех страстей круговорот,
под мировых событий рокот.
И не один, должно быть, хлюст
сейчас в бессмертье лез, кривляясь,
но только "это «хлюп да хлюп!»
бессмертным, в сущности, являлось.
И ощущение судьбы
в меня входило многолюдно,
как ощущение избы,
где миллионам женщин трудно,
где из неведомого дня,
им полноправно обладая,
мильоиы маленьких меня
за мною, взрослым, наблюдают.
1963
ПОДРАНОК
А-
Вознесенскому
Сюда, к просторам вольным, северным,
где крякал мир и нерестился,
я прилетел, подранок, селезень,
и на Печору опустился.
И я почуял всеми нервами,
как из-за леса осиянно
пахнуло льдинами и нерпами
в меня величье океана.
Я океан вдохнул и выдохнул,
как будто выдохнул печали,
и все дробинки кровью вытолкнул,
д а р я на память их Печоре.
Они пошли па дно холодное,
а сам я, трепетный и легкий,
поднялся вновь, крылами хлопая,
с какой-то новой силой летной.
Меня ветра чуть-чуть покачивали,
неся над мхами и кустами.
Сопя, дорогу вдаль показывали
ондатры мокрыми усами.
Через простор земель непаханых,
цветы и заячьи орешки,
152
меня несли на пантах бархатных
ьеселоглазые олешки.
Когда на кочки я п р и с а ж и в а л с я, —
и тундра ягель подносила,
и клюква, за зиму прослаженная,
себя попробовать просила.
И я, затворами облязганнып,
вдруг понял – я чего-то стою,
раз я такою был обласканный
твоей, Печора, добротою!
Когда-нибудь опять, над Севером,
тобой не узнанный, Печора,
я пролечу могучим селезнем,
сверкая перьями парчово.
И ты засмотришься нечаянно
на тот полет и оперенье,
забыв, что все это не чье-нибудь—·
твое, Печора, ода репье.
И ты не вспомнишь, как ты прятала
меня весной, как обреченно
то оперенье кровью плакало
в твой голубой подол, Печора...
1963
БАЛЛАДА
О
МУРОМЦЕ
Он спал, рыбак. В окне у ж е светало.
А он все дрых. Багровая рука
с лежанки на иол, как весло, свисала,
от якорей наколотых т я ж к а.
Русалки, корабли, морские боги
качались на груди, как на волнах.
Торчали в потолок босые ноги.
Светилось «Мы устали» на ступнях.
153
Рыбак мычал в тяжелом сие мужицком,
и, вздрагивая зябнуще со сна,
вздымалось и дышало «Смерть фашистам!»
у левого, в пупырышках, соска.
Ну а в окне з а р я росла, росла,
и бубенцами звякала скотина,
и за плечо жена его трясла:
«Вставай ты, черт... Очухайся – путина!»
И, натянув рубаху и
штаны,
мотая головой, бока
почесывая,
глаза повинно пряча
от жены,
вставал похмельный
муромец печорский.
Так за плечо трясла его жена,
оставив штопать паруса и сети:
«Вставай ты, черт... Очухайся – война»,
когда-то в сорок первом на рассвете.
И, принимая от нее рассол,
глаза он прятал точно так, повинно...
Но встал, пришел в сознанье, и пошел,
и так дошел до города Берлина...
1903
Все, что дарит нам природа, – не случайно.
Так поклонимся земным поклоном ей.
В ней прекрасная задумчивая тайна,
возвышающая нас, ее детей.
Не случайно джунгли спящие стрекочут,
не случайно шелестит речная гладь.
Так глядит на нас природа, будто хочет
что-то важное глазами рассказать.
Не случайно утром вспыхивают росы
светляками на ладонях у листвы.
Так глядит на нас природа, будто просит
нашей помощи, защиты и любви.
154
Отчего, куда вы так бежите, звери,
мзбёгаясь по тропинкам потайным.
Вы бежите, людям, видимо, не веря.
Понимаю, есть за что не верить им.
Озабоченно стучит природы сердце:
птиц все меньше, в мертвых реках рыбы
Исчезают звери столькие от зверства
к ним, ничем не заслужившим этих бед.
Исчезают от винчестеров, капканов...
Люди добрые, с какой такой поры
превратились вы в недобрых великанов?
Великаны настоящие добры.
Берегите эти земли, эти воды,
д а ж е малую былиночку любя.
Берегите всех зверей внутри природы,
убивайте лишь зверей внутри себя!
1973
КАТЕР СВЯЗИ!
Не начиналась навигация
и ожидалась много позже,
а письма с просьбами, наказами
л е ж а л и грудою на почте.
А там рыбацкие каракули
уплыть напрасно порывались,
корили, жаловались, плакали,
в любви неловко признавались.
Напрасно лайки перед волнами,
глазами рыская в тумане,
нЗ днищах лодок перевернутых
лежали серыми холмами.
Но, словно призрак, что пригрезился
в томительном однообразье,
155
седыми мачтами прорезался
обледенелый катер связи.
Он был заезженный, злмурзанпый,
но д л я рыбацкого селенья
звучало самой лучшей музыкой
его простудное сипенье.
II, нам конец на берег выкинув,
таскали молча, деловито
матросы, мрачные как викинги,
в мешках дерюжных души чьи-то.
И катер вновь пошел намаянио,
бортами льды ломая трудно,
а я среди мешков наваленных
л е ж а л в его промозглом трюме.
Я всею мечущейся совестью '
ответ выискивал в мученье:
«А что же я такое, собственно,
и в чем мое предназначенье?.
Неужто я – лолчонка утлая
и, словно волны, катят страсти,
швыряясь мной?» Но голос внутренний
мне отвечал: «Ты – кагер связи.
Спеши волнами разъяренными,
тяжелый от обледененья
меж всеми, льдом разъединенными
и ждущими объединении.
Еще начала навигации
придется ждать, пожалуй, долго,
но ты неси огни негаснушие
соединительного долга.
И пенной жизнью, как Печорою,
сквозь все и льдины и норд-весты
вези в себе мешки почтовые,
где безнадежность и надежды.
156 ,
По помни, спои гудок надсаживая,
что, лишь утихнут непогоды,
пройдут водой, уже не страшною,
взаправдашние пароходы.
И рыбаки, привстав над барками,
на них смотреть, любуясь, будут
и под гудки холено-бархатные
твои сиплый голос позабудут. .
Но ты, пропахший рыбой, ворванью,
не опускай понуро снасти.
Ты свое дело сделал вовремя —
и счастлив будь. Ты – катер связи».
Так говорил мой голос внутренний,
внушая чувство вещей ноши,
и был я весь какой-то утренний
среди печорской белой ночи.
Я не раздумывал завистливо
про чью-то жизнь среди почета,
а был я счастлив, что зависело
и от меня па свете что-то.
И сам, накрытый чьей-то шубою,
я был от столького зависим,
и, как письмо от Ваньки Жукова,"
дремал на грудах прочих писем.
1963
БЛЯХА-МУХА
Что имелось в эту ночь?
Кое-что существенное.
Был поселок Нельм и н Нос
и была общественность.
Был наш стол уже хорош.
Был большой галдеж.
Был у нас консервный нож
н консервы тож.
Был и спирт, как таковой,
наш товарищ путевой
с выразительным эпитетом
и кратким: «Питьевой».
Но попался мне сосед
до того скулежный,
на себя,
на белый свет,—
просто невозможный.
Он всю ночь крутил мне пуговицу.
Он вселял мне в душу путаницу:
«Понимаешь, бляха-муха —
невезение в крови.
У меня т а к а я мука —
хоть коровою реви.
Все нескладно, все неловко.
В жизни форменный затор.
Я мотор купил на лодку —
в реку плюхнулся мотор.
Надо мной смеются дети.
От меня страдает план.
Я в Печору ставлю сети —
их уносит в океан.
Бляха-муха, чуть не плачу
от себя, как от стыда.
Я в снегу капканы прячу —
попадаю сам туда."
Может, я не вышел рылом,
может, просто обормот?
Но ни карта, и ни рыба,
и ни баба не идет...»
Ну и странный сосед —
наказанье божье!
И немного ему лет —
158
тридцать пять, не больше.
И лицом не урод,
да и рост могучий —
что же он рубаху рвет
на груди мохнучей?
Что же может его грызть?
Что шумит свирепственно*
«Бляха-муха, эта жисть
нсусовершенствована!»
А наутро вышел я
на берег Печоры,
где галдела ребятня,
фыркали моторы.
А в ушанке набочок,
в залосненной стеганке
вновь тот самый рыбачок,
трезвенькип,
как стеклышко.
Между лодками летал,
всех собой уматывал,
парус наскоро л а т а л,
шебаршил, командовал.
Бочки, ящики грузил,
взмокший, будто в бане.
Бабам весело грозил
вострыми зубами.
«Пошевеливай, народ! —
он кричал и у х а л. —
Ведь не кто-нибудь нас ждет
семга,бляха-муха!»
Было все его – река,
паруса, Россия.
И кого-то у мыска
159
«Кто это?» – спросил я.
И с завидинкою
так
был ответ мне выдан:
«Это ж лучший наш рыбак,
раз везучий, идол!»
К рыбаку я подошел,
на него злючий:
«Что же ты вчера мне плел,
. будто невезучий?»
Он рукой потер висок:
«Врал я не напрасно
Мне действительно везет —
это и опасно.
И бывает в захмеленье
начинаю этак врать,
чтоб о жизни разуменья
от везенья не терять».
З а м о л ч а л.
Губами чмокал,
сети связывая,
и хитрили губы, что-то
не досказывая.
З в а л и в путь его ветра,
семга-розовуха:
«Ладно, парень. Мне пора.
Так-то, бляха-муха!»
1963
160
БЕЛЫЕ
НОЧИ В
АРХАНГЕЛЬСКЕ
Белые ночи – сплошное «быть может»...
Светится что-то и странно т р е в о ж и т —,
может быть, солнце, а может, луна.
Может быть, с грустью, а может, с весельем,
может, Архангельском, может, Марселем
бродят новехонькие штурмана.
С ними в обнимку официантки,
а под бровями, как лодки-ледянки,
ходят, покачиваясь, глаза.
Р а з в е подскажут шалонника гулы,
надо ли им отстранять свои губы?
Может быть, надо, а может, нельзя.
Чайки над мачтами с криками вьются —
может быть, плачут, а может, смеются.
И у причала, прощаясь, моряк
женщину в губы целует протяжно:
«Как твое имя?» – «Это не важно...»
Может, и так, а быть может, не так.
Вот он восходит по трапу на шхуну:
«Я привезу тебе нерпичью шкуру!»
Ну, а забыл, что не знает – куда.
Женщина молча стоять остается.
Кто его знает – быть может, вернется,
Может быть, нет, ну а может быть, да.
Чудится мне у причала невольно:
чайки – не чайки, волны – не волны,
он и она – не он и она:
все это – белых ночей переливы,
все это – только наплывы, наплывы,
может, бессонницы, может быть, сна.
Шхуна гудит напряженно, прощально.
4
Он уже больше не смотрит печально.
Вот он, отдельный, далекий, плывет,
смачно пуская соленые шутки
в, может быть, море, на, может быть, шхуне,
может быть, тот, а быть может, не тот.
I
Еог.
Евтушенко
.1-
161
И безымянно стоит у причала —*
может, конец, а быть может, начало
женщина в легоньком сером пальто,
медленно тая комочком т у м а н а, —
может быть, Вера, а может, Тамара,
может быть, Зоя, а может, никто...
1904
СМЕЯЛИСЬ Л Ю Д И
ЗА СТЕНОЙ
Е.
Ласкиной
Смеялись люди за стеной,
а я глядел на эту стену
с душой, как с девочкой больной
в руках, пустевших постепенно.
Смеялись люди за стеной.
Они как будто измывались.
Они смеялись надо мной,
и как бессовестно смеялись!
На самом деле там,
в гостях,
устав кружиться по
паркету,
они смеялись просто
так, —
не надо мной и не
над кем-то ^1
Смеялись люди за стеной,
себя вином подогревали,
и обо мне с моей больной,
смеясь, и не подозревали.
Смеялись люди... Сколько раз
я тоже, тоже так смеялся,
а за стеною кто-то гас
и с этим горестно смирялся!
И думал он, бедой гоним
и ей почти у ж е сдаваясь,
что это я смеюсь над ним
и, может, д а ж е издеваюсь.
162
г
Д а, так устроен шар земной,
и так устроен будет вечно]
рыдает кто-то за стеной,
когда смеемся мы беспечно.
Но так устроен шар земной,
п тем вовек неувядаем:
смеется кто-то за стеной,
когда мы чуть ли не рыдаем.
II не прими па душу грех,
когда ты, мрачный и разбитый,
там, за стеною, чей-то смех
сочесть завистливо обидой.
Как разновесье – бытие.
И нем зависть – самооскорбленье.
Ведь за несчастие твое
чужое счастье – искупленье.
Ж е л а й,. ч т о б в час последний
твой,
когда замрут глаза, смыкаясь,
смеялись люди за стеной,
смеялись, все-таки смеялись!
1903
ЗАЧЕМ ТЫ ТАК?
Когда радист «Моряны», горбясь,
искал нам радиомаяк,
попал в приемник женский голос!
«Зачем ты так? Зачем ты так?»
Она из Амдермы кричала
сквозь мачты, льды и лай собак,
и, словно шторм, кругом крепчало!
«Зачем ты так? Зачем ты так?»
103
Д а в я друг друга нелюдимо,
хрустя друг другом так и сяк,
одна другой хрипели льдины:
«Зачем ты так? Зачем ты так?»
Белуха в море зверобою
кричала, путаясь в сетях,
фонтаном крови, всей собою:
«Зачем ты так? Зачем ты так?»
Ну, а его волна р я б а я
швырнула с лодки, и бедняк
шептал, бесследно погибая:
«Зачем ты так? Зачем ты так?»
Я предаю тебя, как сволочь,
и нет мне удержу никак,
и ты меня глазами молишь:
«Зачем ты так? Зачем ты так?»
Ты отчужденно и ненастно
глядишь – почти у ж е как враг,
и я молю тебя напрасно:
«Зачем ты так? Зачем ты* так?»
И все тревожней год от году
кричат, проламывая мрак,
душа – душе, народ – народу:
«Зачем ты так? Зачем ты так?»
1964
В лодке, под дождем колымским льющим,
примерзая пальцами к рулю,
я боюсь, что ты меня не любишь,
и боюсь, что я тебя люблю.
А глаза якута Серафима,
полные тоской глухонемой,
164
булто лве дымипочки из дыма
горького костра над Колымой.
Черен чай, как булто деготь в чашке —
сахарку бы надо подложить.
«Серафим, а что такое счастье?»
«Счастье в том, чтобы подольше жить...»
Серафим, пора у ж е ложиться,
но тебя помучаю я вновь:
«А не лучше самой долгой жизни
самая короткая любовь?»
Серафим на это не попался,
он, как в полусне, глаза смежил:
«Лучше, – только это и опасно.
Кто любил – тот вряд ли долго жил».
З н а ю т это и якут и чукча,
к а к патроны, сберегая дни:
дорого обходятся нам чувства —
ж и з н ь короче делают они.
Золото в ключе нашел Бориска,
и убило золото его.
Вот мы почему любви боимся,
к а к чумного золота того.
Чтобы не пугал пожар, как призрак,
дотопчи костер и додави,
Горек он, костерный дымный привкус
д а ж е у счастливейшей любви.
Вот какие наши разговоры,
Колыма полночная темна,
лишь творожно брезжущие створы
светятся, как женские тела.
Струи, как натянутые лески,
Д о ж д ь навеки, что ли, обложил...
Не хочу я долгой жизни – если
кто любил, тот вряд ли долго жил.
1977
165
ДЕРЕВЕНСКИЙ
О чем поскрипывает шхуна?
Не может быть, что ни о чем,
когда, дыша машиной шумно,
несется в сумраке ночном.
О чем под скрип ее вздыхает
матрос, едва успев заснуть,
и что сейчас ему вздымает
татуированную грудь?
Когда, вторгаясь в тучи косо,
елозя, ерзает бизань,
во сне усталого матроса
вдруг прорезается Рязань.
И шхуна тросами, снастями
скрипит, скрипит ему .впотьмах
о снеге детства под санями,
о кочерыжках на зубах.
Он просыпается не в духе.
Он пляшет с мрачным криком «Жги!..
внутри разрезанной белухи,
чтобы прожирить сапоги.
Он от команды в отдаленье
молчит, насуплен и небрит.
«В деревню хочется, в деревню...» —
он капитану говорит.
И вот в избе под образами
сидит он, тяжкий и хмельной;
и девки жрут его глазами —
аж вместе с бляхой ременной.
Он складно врет соседской Дуне,
что, мол, она – его звезда,
но по ночам скрипит о шхуне
его рассохлая изба.
Уже чуть-чуть побитый молью
на плечи просится бушлат.
166
'«Маманька,'Море тянет, море...» —
глаза виновно говорят.
И будет он по морю плавать,
покуда в море есть вода,
и будет Дунька-дура плакать,
что не она его звезда.
Но, обреченно леденея,
со шхуны в море морем сбит, '
«В деревню хочется... в деревню...»
он перед смертью прохрипит.
1964
БАЛЛАДА
О
ВЫПИВКЕ
В. Черных
Мы сто белух у ж е забили,
цивилизацию забыли,
махрою легкие сожгли,
но, порт завидев, – грудь навыкат!
друг другу начали мы выкать
и с благородной целью выпить
со шхуны в Амдерме сошли.
Мы шли по Амдерме, как боги.
Слегка вразвалку, руки в боки,
и наши бороды и баки
несли направленно сквозь порт;
и нас девчонки и с а л а! и,
а т а к ж е местные собаки
сопровождали, как эскорт.
Но, омрачая всю планету,
висело в л а в к а х: «Спирту нету».
И, как на немощный компот,
мы на «игристое донское»
глядели с болью и тоскою
и понимали – не возьмет.
Ну кто наш спирт и водку выпил?
И пьют же люди – просто гибель...
167
Но тощий, будто бы моща,
Морковский Петька из Одессы,
как и всегда, куда-то делся,
сказав таинственное: «Ща!»
А вскоре прибыл с многозвенным
огромным ящиком картонным,
у ж е чуть-чуть навеселе;
и звон из ящика был сладок,
и стало ясно: есть! порядок!
И подтвердил Морковский: «Е!»
Мы размахались, как хотели,—
зафрахтовали «люкс» в отеле,
уселись в робах на постели;
бечевки с ящика слетели,
и в блеске сомкнутых колонн
пузато, грозно и уютно,
гигиеничный абсолютно
предстал тройной одеколон.
И встал, стакан подняв, Морковский,
одернул свой бушлат матросский,
сказал: «Хочу произнести!»
·«Произноси!» – все загудели,
но только прежде захотели
хотя б глоток произвести..
Сказал Морковский: «Ладно, – дернем!
Одеколон, сказал мне доктор,
предохраняет от морщин.
Пусть нас осудят – мы плевали!
Мы вина всякие пивали.
Когда в Германии бывали,
то «мозельвейном» заливали
мы радиаторы машин.
А кто мы есть? Морские волки!
Нас давит лед и хлещут волны,
но мы сквозь льдины напролом,
жлобам и жабам вставим клизму,
плывем назло нмперьялизму?!»
И поддержали все: «Плывем!»
168
«И мам не треба ширпотреба,
нам греба ветра, греба неба!
Братишки, слухайте сюда:
у нас в душе, як на сберкнижке,
есть море, мамка и братишки,
все остальное – лабуда!»
Так над землею-великаном
стоял Морковский со стаканом,
в котором пенились моря.
Отметил кэп: «Все по-советски...>
И только боцман всхлипнул детскиз
«А моя мамка – померла...»
И мы заплакали навзрыдно,
совсем легко, совсем нестыдно,
как будто в собственной семье,
гормя-горючими слезами
сперва по боцмановой маме,
а после просто по себе.
Уже висело над аптекой
«Тройного нету!» с грустью некой
а восемь нас, волков морских,
рыдали, – аж на всю Россию!
И мы, рыдая, так разили,
как восемь парикмахерских.
Смывали слезы, словно шквалы,
всех ложных ценностей навалы,
все надувные имена,
и оставалось в нас, притихших,
лишь море, мамка и братишки
(пусть д а ж е мамка п о м е р л а).
Я плакал – как освобождался,
я плакал, будто вновь, рождался,
себе – иному – не чета,
и перед богом и собою,
как слезы пьяных зверобоев,
была душа моя чиста...
1964
169
СЛОВА НА В Е Т Е Р
Бросаю слова на ветер.
Не ж а л к о. Пускай пропадают.
А люди, как листья, их вертят,
по ним, как пО картам, гадают.
"И мне придавая значенье,
которого, может, не стою,
слова возвышают священно
великой своей добротою.
Но если б девчонка замерзла
беззвучно шепча мои строки,
вошла бы в меня, как заноза,
не гордость, а боль по сестренке.
И если бы кто-то печальный
в письме написал мне об этом,
письмо я не стал бы печатать
под собственным скорбным портретом.
Мне было бы важно дослезно
не то, что я понят был тонко,
а то, что замерзла, з а м е р з л а,
з а м е р з л а, замерзла девчонка.
И если бы пулями где-то
стихи мои были пробиты,
мне было бы важно не это,
а то, что ребята убиты.
Бросаю слова на ветер,
ревущий о стольких несчастьях.
Случайно – бросаю навеки.
С расчетом на вечность – на часик.
А ветер слова отнимает
и тащит на суд и расправу.
А ветер слова поднимает
и дарит им смерть или славу.
А ветер швыряет их с лета
туда, где их ждут, где им верят,
и страшно за каждое слово,
которое бросил на ветер.
1971
170
БЕРЕГОВОЙ
ПРИПАЙ
Вторые сутки, как рога марала,
пушисты мачты – иней лег на них.
Вторые сутки мечется «Моряна»
среди нагромождений ледяных,.
Вторые сутки – аж мороз по коже! —
сойдя от беззакатиости с ума,
над нами солнце бешено хохочет,
как белая полярная сова.
Придется нам теперь забыть про Диксон,
и капитан, прихлебывая чай,
угрюмо заключает: «Не пробиться.
Береговой припаи – он есть припай».
И шхуна курс меняет... Мы уходим,
а там за льдами, синий, как угар,
оставленный, с беспомощным укором
взывает остров криками гагар.
Я остров, окруженный льдом. Ты шхуна.
Я привстаю. Я слышу голос твой.
Пытаешься ты, плача и тоскуя,
пройти сквозь мой причал береговой.
Но льды вокруг меня остры, как зубья.
Ты бьешься грудью бедною своей
о скользкие торосы себялюбья,
о грязный лед изломанных страстей.
Неужто ты пройти ко мне не сможешь
сквозь намертво припаянную ложь? .
Все это оковало меня, смерзлось.
Все это от меня не отдерешь.
И ощущаю с ужасом провидца,
что эта шхуна, может быть, не ты,
а это я к себе хочу пробиться
и натыкаюсь вновь и вновь, на льды.
171
Неужто в двуединой ипостаси,
треща по швам со льдинами в борьбе,
я плюну зло, я поверну, я сдамся,
разбитый, не пробившийся к себе?
1904
НЕИЗВЕСТНАЯ
Д а м а м в море быть рисково,
но, войдя в рыбацкий быт
с репродукции Крамского
Неизвестная глядит.
Д а м а в к у б р и к е – я в л е н ь е,
и тем более – одна,
только, нам на удивленье,
не смущается она.
И глядит, не упрекая
за раскаты храпака,
из России той – к а к а я,
как Таити, далека.
Д р е м л е т муфта
на коленях.








