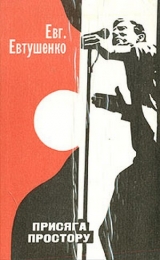
Текст книги "Присяга простору "
Автор книги: Евгений Евтушенко
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Выискивая в неводе изъян,
отец сказал, рукою в солнце тыча:
«Ты погляди-ка, Мишка,
а туман,
однако, уползает... чКрасотища!»
Сын с показным презреньем ел уху.
С таким надменным напуском у сына
104
глаза прикрыла белая чуприна —
мол, что смотреть такую чепуху.
Сын пальцем сбил с тельняшки рыбий глаз
и натянул рыбацкие ботфорты,
и были так роскошны их заверты,
как жизнь,
где вам не «кбмпас», а «компас».
Отец костер затаптывал дымивший
и ворчанул как бы промежду дел:
«По сапогам твоим я слышу, Мишка,
что ты опять портянки не надел...»
Сын покраснел мучительно и юно,
как будто он унижен этим был.
Ботфорты сиял.
В портянки ноги сунул
и снова их в ботфорты гневно вбил.
Поймет и он —
вот, правда, поздно слишком,
как одиноки наши плоть и дух,
когда никто на свете не услышит
все, что услышит лишь отцовский слух...
1973
Нет, мне ни в чем не надо половины!
Мне дай все небо! Землю всю положь!
Моря и реки, горные лавины
мои – не соглашаюсь на дележ!
Нет, жизнь, меня ты не заластишь частью.
Все полностью! Мне это по плечу!
Я ие хочу ни половины счастья,
ни половины горя не хочу!
Хочу лишь половину той подушки,
где, бережно прижатое к щеке,
беспомощной звездой, звездой падучей,
кольцо мерцает на твоей руке...
1963
105
РОДНОЙ
СИБИРСКИЙ
ГОВОРОК
В. Артемову
Родной сибирский говорок,
как теплый легонький парок
у губ, ког«аа мороз под сорок.
Как омуль, вымерший почти,
нет-нет, он вдруг блеснет в пути
забытым всплеском в разговорах.
Его я знаю наизусть.
Горчит он, как соленый груздь.
Как голубика – с кислецой
и нежной дымчатой пыльцой.
Он как пропавшая с лотка
черемуховая мука,
где, словно карий глаз кругла,
глядишь, – и косточка цела.
Когда истаивает свет,
то на завалинке чалдоиочка
с милком тверда, как плосколопочка:
«Однако, спать пора – темнет...»
А парень дышит горячо.
«Да чо ты, п а р я!» —« Я пичо...»
«Ты чо – немножечко тово?
Каво ты д е л а т ь?» – «Иикаво».
«Ты чо мне, паря, платье м я т ь?»
«А чо – сама не понимать?»
И на сибирском говорке
сердечко екает в руке
сквозь теплый ситец, где цветы
горят глазами темноты.
И вновь с чалдоночкой-луной
в обнимку шепчется Вилюй,
и лиственннчною смолой
тягуче пахнет поцелуй,
и вздох счастливо виноват:
«Задаст мне мать... Уже светат».
106
Родной сибирский говорок,
меня ты, паря, уберег
от всех прилизанных речей
из гладких ровных кирпичей,
где нет наличников резных
и голубятен озорных,
как над тобой, моя изба,
как над тобой, моя судьба.
Я был во всем огромном мире
послом не чьим-нибудь – Сибири,
хоть я совсем не дипломат.
И до конца – в ответ наветам —
сибирским буду я поэтом,
а тот, кто мне не верит в этом,
что ж – тот ничо не понимат!
1973
никто
и ничто
Дымятся избеночки нехотя,
и ветер играет в лото
бензинными бочками в Эконде,
что значит «Никто и Ничто».
Какое название страшное,
но д а ж е и в этом селе
Эвенки, пришельцев не спрашивая,
себя называли: «илэ».
«Илэ» – человек,
а не что-нибудь,
и было то слово
в чести
в продымленном
чуме, заштопанном
иглою из рыбьей
кости.
Но Золушкой мира проклятого
ты мечешься, еле дыша,
как Сонечка Мармеладова,
униженная душа.
107
И, как Мармсладову Сонечку
в лицованном жалком пальто,
позор убеждать потихонечку
людей: «Вы никто и ничто».
В трущобах Манилы и Гарлема
в глазах выражение то,
как будто бы в лица им харкнули:
«Вы кто? Вы никто и ничто».
Какое похмелие мрачное,
вновь дернувши граммчиков сто,
добавить пять раз по сто граммчиков,
скуля «Я никто и ничто».
Весьма утешение спорное
быть трусом, но скромным зато:
«Что сделать могу я в истории?
Кто я? Я никто и ничто».
Философы столькие трудятся,
но вновь предлагают не то...
Пока в нас ничто не пробудится,
Мы будем и вправду никто.
1973
ОПЯТЬ НА СТАНЦИИ ЗИМА
(ОТРЫВОК)
Боюсь, читатель, ты ладонью
прикроешь тягостность зевка.
Прости мне кровь мою чалдонью,
но я тебе опять долдоню
о той же станции Зима.
Зима! Вокзальчик с палисадам,
деревьев чахлых с полдесятка,
в мешках колхозниц – поросята,
и замедляет поезд ход,
108
и пассажиры волосато,
в своих пижамах полосатых,
как тигры, прыгают вперед.
Вот по перрону резво рыщет,
роняя тапочки, толстяк.
Он жилковатым носом свищет.
Он весь в поту. Он пива ищет
и не найдет его никак.
И после долгого опроса,
пыхтя, как после опороса,
вокзальчик взглядом смерит косо:
«Ну и дырища! Ну и грязь!»
В перрон вминает папиросу,
бредет в купе, и под колеса,
как в транс, впадает в преферанс.
А ведь родился-то, наверно,
и не в П а р и ж е, и не в Вене,
а, скажем, где-нибудь в Клинцах,
и пусть уж он тогда не взыщет,
что и в Клинцах такой же рыщет,
и на перроне пива ищет,
а не найдя,– «Ну и дырища!» —
его Клинцы клянет в сердцах.
О, это мелочное чванство,—
в нем столько жалкого мещанства!
Оно – позор перед страной,
страной натруженной, усталой,
где каждый малый полустанок —
он д л я кого-нибудь родной.
И д а ж е мчась куда-то мимо,
должны мы в помыслах своих
родным, от нас неотделимым,
считать родное для других.
Страна от моря и до моря
неповторима и сложна,
достойна в радости и горе
любви от моря и до моря,
огромной, как с ма она.
Ты должен быть повсюду с нею —
109
в Клинцах, Зиме или Тавде,
а если где еще скуднее,
там быть должно еще роднсе,
еще любимее тебе.
А у кого любви не хватит,
скажу ему: «Себя жалей...»
Нет долга, может быть, святей
любую точечку на карте
считать кровинкою своей.
Так входит в плоть – не по-иному —
через любовь к родному дому
любовь к родимой стороне,
п о т о м – к о всей своей стране
и к шару, наконец, земному
в его бескрайней ширине.
И как бы мог любить я Кубу,
ее оливковую куртку,
ее деревья и дома,
когда бы нежно и кристально
я, как Есенин мать-крестьянку,
ке обожал тебя, З и м а?!
Мое любое возвращенье
к тебе – всегда, как возрожденье,
и с новым, смыслом каждый раз,
и вот – в Зиме я вновь сейчас...
1963
Г Р А Ж Д А Н Е, ПОСЛУШАЙТЕ МЕНЯ...
Д.
Апдайку
Я на пароходе «Фридрих Энгельс»,
ну а в голове – т а к а я ересь,
мыслей безбилетных толкотня.
Не пойму я – слышится мне, что ли,
полное смятения и боли:
«Граждане, послушайте меня...»
по
Палуба сгибается и стонет,
пол гармошку палуба чарльстопит,
а на баке, тоненько моля,
пробует пробиться одичало
песенки свербящее начало:
«Граждане, послушайте меня..»
Там сидит солдат на бочкотаре.
Наклонился чубом он к гитаре,
пальцами растерянно мудря.
Он гитару и себя изволит,
а из губ мучительно исходит:
«Граждане, послушайте меня...»
Г р а ж д а н е не хочут его слушать.
Гражданам бы выпить да откушать
и сплясать, а п р о ч е е – м у р а!
Впрочем, нет,—еще поспать им важно...
Что он им заладил неотвязно:
«Граждане, послушайте меня...»?
Кто-то помидор со смаком солит,
кто-то карты сальные мусолит,
кто-то сапогами пол мозолит,
кто-то у гармошки рвет меха.
Но ведь сколько раз в любом кричало
и шептало это же начало:
«Граждане, послушайте меня...»
Кто-то их порой не слушал тоже.
Распирая ребра и корежа,
высказаться суть их не могла.
Вряд ли что с недоброю душою,
но не слышат граждане чужое:
«Граждане, послушайте меня...»
·
Эх, солдат на фоне бочкотары,
я такой же – только без гитары...
Через реки, горы и моря
я бреду и руки простираю
и, уже охрипший, повторяю:
«Граждане, послушайте меня...»
111
Страшно, если слушать не желают.
Страшно, если слушать начинают.
Вдруг вся песня в целом-то мелка,
вдруг в ней все ничтожно будет, кроме
этого мучительною, с кровью:
«Граждане, послушайте меня...»?!
1903
г
ВАЛЬС НА ПАЛУБЕ
Спят на борту грузовики,
спят краны.
На палубе танцуют вальс
бахилы,кеды.
Все на Камчатку едут з д е с ь -
в крайкрайний.
Никто не спросит: «Вы куда?»
Лишь:«Кем вы?»
Вот пожилой мерзлотовед.
Вот парни —
торговый флот! Танцуют лихо —
есть опыт.
На их рубашках Сингапур,
ПЛЯЖ,
пальмы,
а въелись в кожу рук металл,
соль, копоть.
От музыки и от воды
плеск, звоны.
Танцуют музыка п ночь
Другс другом.
119
И тихо кружится корабль —
мы,
звезлы,
и кружится весь океан
круг за кругом.
Туманен вальс, туманна ночь,
путь дымчат.
С зубным врачом танцует
кок Вася.
И Надя с Мартой из буфета
чуть дышат —
и очень хочется, как всем,
имвальса.
Я тоже, тоже человек,
и мне надо, что надо всем.
Быть одному
мне мало.
Но не сердитесь на меня
вы,Н а д я,
и не сердитесь на меня
вы,Марта.
Д а, я стою, но я танцую]
Я в роли . '
довольно странной – правда, я
в ней часто,
и на плече моем р у к и'
нет вроде,
и на плече моем рука
есть чья-то.
Ты далеко, но разве это
так важно?
113
Девчата смотрят. Улыбнусь'
имбегло.
Стою– н все-таки иду
под плеск вальса.
С тобой иду, и каждый вальс
твой, Белла.
С тобой я м а л о танцевал
и лишь выпив.
И получалось-то у нас —
так, слабо.
Но лишь тебя на этот вальс
явыбрал.
Как горько танцевать с тобой,
как сладко.
Курилы за бортом плывут.
В их складках
снег вечный.
А там в Москве – зеленый па
пруд, лодка.
С тобой катается мой друг,
друг верный.
Он грустно и красиво врет.
Врет ловко.
Он заикается умело.
Онмолит.
Он так богато врет тебе
и так бедно.
И ты не знаешь, что вдали,
там,
в море,
с т о б о й' т а н ц у ю я сейчас
вальс,
Белла.
1958
111
Б. Ахмадцлиной
Со мною вот что происходит! л
ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в праздной суете
разнообразные не те.
И он
не с теми ходит где-то
и тоже понимает это,
и наш раздор необъясним,
и оба мучаемся с ним.
Со мною вот что происходит;
совсем не та ко мне приходит,
мне руки на плечи кладет
и у другой меня крадет.
А той —
скажите, бога ради,
кому па плечи руки класть?
Та,
у которой я украден,
в отместку тоже станет красть.
Не сразу этим же ответит,
а будет жить с собой в борьбе
и неосознанно наметит
кого-то дальнего себе.
О, сколько
нервныхи недужных,
ненужных связей,дружб ненужных!
Во мне уже осатанённость!
О, кто-нибудь
приди, нарушь
чужих людей соединенность
и разобщенность
близких душ!
1У57
115
Д В А ГОРОДА
Я, как поезд, что мечется столько уж лет
между городом Даи городом Нет.
Мои нервы натянуты, как провода,
между городом Нет и городом Д а.
Все мертво, все запугано в городе Нет.
Он похож на обитый тоской кабинет.
По утрам натирают в нем желчью паркет.
В нем диваны – из фальши, в нем стены – из бед
В нем глядит подозрительно каждый портрет.
В нем насупился замкнуто каждый предмет.
Черта с два здесь получишь ты добрый совет, '
или, скажем, привет, или белый букет.
Пишмашинки стучат под копирку ответ:
«Нет-нет-нет... Нет-иет-нет... Нет-пет-нет...»
А когда совершенно погасится свет,
начинают в нем призраки мрачный балет.
Черта с два —
хоть подохни —
получишь билет,
чтоб уехать из черного города Нет...
Ну, а в городе Да – жизнь, как песня дрозда.
Этот город без стен, он – подобье гнезда.
С неба просится в руки любая звезда.
Просят губы любые твоих без стыда,
бормоча еле слышно: «А, все ерунда...» —
и, мыча, молоко предлагают стада,
и ни в ком подозрения нет ни следа,
и куда ты захочешь, мгновенно туда
унесут поезда, самолеты, суда,
и, журча, как года, чуть лепечет вода:
«Да-да-да... Да-да-да... Да-да-да...»
Только скучно, по правде сказать, иногда*
что дается мне столько почти без труда
в разноцветно светящемся городе Да...
Пусть уж лучше мечусь до конца моих лет
Мб
между городом Да
и городом Нет!
Пусть уж нервы натянуты,
как провода,
между городом Нет и городом Д а!
1904
Когда взошло твое лицо
над жизнью скомканной моею,
вначале понял я лишь то,
как скудно все, что я имею.
Но рощи, реки и моря
оно особо осветило
и в краски мира посвятило
непосвященного меня.
Я так боюсь, я так боюсь
Конца нежданного восхода,
конца открытий, слез, восторга,
но с этим страхом не борюсь.
Я понимаю – этот страх
и есть любовь, его лелею,
хотя лелеять не умею,
своей любви небрежный с т р а ж..
Я страхом этим взят в кольцо.
Мгновенья эти – знаю – кратки,
и для меня исчезнут краски,
когда зайдет твое ЛИЦО...
1960
117
* *
*
Ты начисто притворства лишена,
когда молчишь со взглядом напряженным,
как лишена притворства тишина
беззвездной ночью в городе сожженном.
Он, этот город, – прошлое твое.
В нем ты почти ни разу не смеялась,
бросалась то в шитье, то в забытье,
то бунтовала, то опять смирялась.
Ты жить старалась из последних сил,
но, о т в е р г а я' в с е живое хмуро,
он, этот город, на тебя давил
угрюмостью своей архитектуры.
В нем изнутри был заперт каждый дом.
В нем было все недобро умудренным.
Он не скрывал свой тягостный надлом
и ненависть ко всем, кто не надломлен.
Тогда ты ночью подожгла его,
испуганно от пламени метнулась,
и я был просто первым, на кого
ты, убегая, в темноте наткнулась.
Я обцял всю дрожавшую тебя,
и ты ко мне безропотно прижалась,
еще не понимая, не любя,
но, как зверек, благодаря за жалость.
И мы с тобой пошли... Куда пошли?
Куда глаза глядят. Но то и дело
оглядывалась ты, как там, вдали,
зловеще твое прошлое горело.
Оно сгорело до конца, дотла.
Но с той поры одно меня тиранит:
туда, где иеостывшая зола,
тебя, как зачарованную, тянет.
И вроде ты со мной, и вроде нет.
На самом деле я тобою брошен.
118
Неся в руке голубоватый свет,
по пепелищу прошлого ты бродишь.
Что там тебе? Там пусто и темно!
О, прошлого таинственная сила!
Ты не могла любить его само,
ну а его руины – полюбила.
Могущественны пепел и зола.
Они в себе, наверно, что-то прячут.
Над тем, что так отчаянно сожгла,
по-детски поджигательница плачет.
1960.
Качался старый лом, в хорал слагая скрипы,
и нас, как отпевал, огскрипывал хорал.
Он чуял, дом скрипун, что медленно и скрытно
в нем умирала ты и я в нем умирал.
«Постойте умирать!» – звучало в ржанье с луга,
в протяжном вое псов и сосенной волшбе,
но умирали мы навеки друг для друга,
а это все равно что умирать вообще.
А как хотелось жить! По соснам дятел чокал,
и бегал еж ручной в усадебных грибах,
и ночь плыла, как пес, косматый, мокрый, черный,
кувшинкою речной держа звезду в зубах.
Д ы ш а л а мгла в окно малиною сырою,
а за моей спиной – все видела спина! —
с платоновскою Фро, как с найденной сестрою,
измученная мной, любимая спала.
Я думал о тупом несовершенстве браков,
о подлости всех нас – предателей, врунов,
ведь я тебя любил, как сорок тысяч братьев,
и я тебя губил, как столько же врагов.
Д а, стала ты другой. Твой злой прищур нещаден,
насмешки над людьми горьки и солоны. .
119
Но кто же, как ие мы, любимых превращает
в таких, каких любить уже не в силах мы?
Какая же пена ораторскому жару,
когда, расшвыряй вдрызг по сиенам и клише,
хотел я счастье дать всему земному шару,
а дать его не смог – одной живой душе?!
Д а, умирали мы, но что-то мне мешало
уверовать в твое, в мое небытие.
Любовь еше была. Любовь еще дышала
.
на зеркальце в руках у слабых уст ее.
Качался старый дом, скрипел среди крапивы
и выдержку свою нам предлагал взаймы.
В нем умирали мы, но были еще живы.
Еще любили мы, и, значит, были мы.
Когда-нибудь потом (не дай мне бог, ие дай мне!),
когда я разлюблю, когда и впрямь умру,
то будет плоть моя, ехидничая втайне,
«Ты жив!» мне по ночам нашептывать в ж а р у.
Но в суете страстей, печально поздний умник,
внезапно я пойму, что голос плоти лжив,
и так себе скажу: «Я разлюбил. Я умер. Когда-то
я любил. Когда-то я был жив».
1966
А, собственно, кто ты такая,
с какою такою судьбой,
что падаешь, водку л а к а я,
а все же гордишься собой?
А, собственно, кто ты такая,
когда, как последняя мразь,
пластмассою клипсов сверкая,
играть в самородок взялась?
Л, собственно, кто ты такая,
сомнительной славы раба,
по трусости рты затыкая
последним, кто верит в тебя?
А, собственно, кто ты т а к а я,
И; собственно, кто я такой,
что вою, тебя попрекая,
к тебе прикандален тоской?
1974
К.
Шульженко
А снег повалится, повалится,
и я прочту в его канве,
что моя молодость повадится
опять заглядывать ко мне.
И поведет куда-то за руку
на чьи-то тени и шаги.
И вовлечет в старинный заговор
огней, деревьев и пурги.
И мне покажется, покажется
по Сретенкам и Моховым,
что молод не был я пока еще,
а только буду молодым.
И ночь завертится, завертится
и, как в воронку, втянет в грех,
и моя молодость завесится
со мною снегом ото всех.
Но, сразу ставшая накрашенной
при беспристрастном свете дня,
цыганкой, мною наигравшейся,
оставит молодость меня.
121
Начну я ж т н ь переиначивать,
свою наивность застыжу
и сам себя, как пса бродячего,
па цепь угрюмо посажу.
Но снег повалится, повалится,
закружит все веретеном,
и моя молодость появится
опять цыганкой иод окном.
А снег повалится, повалится,
н цени я перегрызу,
и жизнь, как снежный ком, покатится
к сапожкам чьим-то там, внизу...
1966
сквозь впсгмь тысяч
КИЛОМЕТРОВ
В колымских скалах, будто смертник,
собой запрятанный в тайте,
сквозь восемь тысяч километров
я голодаю по тебе.
Сквозь восемь тысяч километров
хочу руками прорасти.
Сквозь восемь тысяч километров
хочу тебя о б ш и ь, спасти.
Сквозь восемь тысяч километров,
все зубы обломав об лед,
мой голод ждет, мой голод верит,
не ждет, не вериг, снова ждет.
И меня гонит, гонит, гонит,
во мхах предательских топя,
изголодавшийся мой юлол
все дальше, дальше от тебя.
Я только призрак твой глодаю
и стал, как б у л ю призрак, сам.
122
По голосу я голодаю
и голодаю по г л а з а м.
И, превратившаяся в тело,
что жлет хоть капли из ковша,
колымской лагерною тенью
пошатывается душа.
И в дверь твою вторгаясь грубо,
уйдя от вышек и облав,
пересыхающие губы
торчат сквозь телеграфный бланк.
Пространство – это не разлука.
Разлука может быть впритык.
У голода есть сила звука,
Когда он стой, когда он крик.
И на крыле любого «Ила»,
вкогтившись в клепку, словно зверь,
к тебе летит душа, что взвыла
и стала голодом теперь.
Сквозь восемь тысяч километров
любовь пространством воскреси.
Пришли мне голод свои ответный
и этим голодом спаси.
Пришли его, не жди, не медли —
ведь насмерть душу или плоть
|
сквозь восемь тысяч километров
ресницы могут уколоть.
1977
ВТОРАЯ ДОБЫЧА
Любимая, не разлюби.
Любимая, не раздроби
Мне каблучками позвоночника.
Чтоб медленно сходить с ума,
нет лучше мест, чем Колыма,
где золото не позолочено.
Вода колымская мутна —
в ней все продражспо до дна.
Грязь – это дочь родная золота.
А что с тобой искали мы,
когда, как берег Колымы,
душа искромсана, изодрана?
На мокром камушке сижу,
сквозь накомарник чай цежу.
Неужто зря река изранена?
Но золотым песком о зуб
вдруг хрустнет, к нам попавшись в суп,
новозеландская баранина.
Закон таков на приисках —
в уже процеженных песках,
когда их снова цедят, · встряхивают,—
такое золото молчком
вдруг вспыхнет желтеньким бочком,
что, ахнув, д а ж е драги вздрагивают.
Есть в первой добыче обман,
когда заносят в промфинплан,
что все здесь выскреблено дочиста.
Несчастен тот, кто забывал
любовь, как брошенный отвал,—
есть и в любви вторая добыча!
На полигоне золотом
я вспоминаю зло о том,
как с первой добычей небрежничал,
но из промытого песка,
так далека и так близка,
вновь золотая прядь забрезжила.
124
Вторая добыча – верней.
Все, чем последней, тем ценней.
Ни в чем последнем нет бесследного.
Есть и у золота конец,
но для венчальных двух колеи
мне хватит золота последнего.
1977
Идут белые снеги,
как по нитке скользя...
Ж и т ь и жить бы на свете,
да, наверно, нельзя.
Чьи-то души, бесследно
растворяясь вдали,
словно белые снеги,
идут в небо с земли.
Идут белые снеги..;
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду.
Я не верую в чудо.
Я не снег, не звезда,
и я больше не буду
никогда, никогда.
И я думаю, грешный,—
ну, а кем же я был,
что я в жизни поспешной
больше жизни любил?
А любил я Россию
всею кровью, хребтом —
ее реки в разливе
и когда подо льдом,
125
дух ее пятистенок,
дух ее сосняков,
ее Пушкина, Стеньку
и ее стариков.
рели было несладко,
я не шибко тужил.
Пусть я прожил негладко —
для России я жил.
И надеждою маюсь —
полный тайных тревог,—
что хоть малую малость
я России помог.
Пусть она позабудет
про меня без труда,
только пусть она будет
навсегда, навсегда...
Идут белые снеги,
как во все времена,
как при Пушкине, Стеньке
и как после меня.
Идут снеги большие,
аж до боли светлы,
и мои и чужие
заметая следы,..
Быть бессмертным не в сити
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я...
1965
126
К а к а я чсртопая сила,
к а к а я чертовая страсть
меня вела и возносила
и не давала мне упасть?
И отчего во мне не стихнула,
и отчего во мне не сгинула
моя веселая настыринка,
моя веселая несгибинка?
Л оттого, что я рожден
в стране, для хлипких непригодной.
и от рожденья награжден
ее людьми, ее природой.
В России все моя родня,
и нет, наверно, ни избы в ней,
где бы не приняли меня
с участьем, с лаской неизбывной.
Я счастлив долею почетной,
моей спасительною ладанкой,
что на Печоре я печорский
и что на Ладоге я ладожский.
И пусть я, птица перелетная,
мечусь по всей России, мучаясь,—
всегда Россия перельет в меня
свою спокойную могучесть...
19СЗ
127
ПРО ТЫКО
ВЫЛКУ
З а п р я г а в хитрую ухмылку,
я расскажу про Тыко Вылку.
Выть может, малость я навру,
но не хочу я с тем считаться,
что стал он темой диссертаций.
Мне это в с е – н е по нутру.
Ведь, между прочим, эта тема
имела – черт их взял бы! – тело
порядка сотни килограмм.
Песцов и рыбу продавала,
оленей в карты продувала,
унты, бывало, пропивала
и, мажа холст, не придавала
значенья тонким колерам.
Все восторгались с жалким писком
им – первым ненцем-живописцем,
а он себя не раздувал,
и безо всяческих загадок
он рисовал закат – закатом ·
и море – морем рисовал.
Был каждый глаз у Тыко Вылки,
как будто щелка у копилки.
Но он копил, как скряга хмур,
не медь потертую влияний,
а блики северных сияний, ,
а блестки рыбьих одеяний .
и переливы нерпьих шкур.
«Когда вы это все учтете?» —
искусствоведческие тети
внушали ищущим юнцам.
«Из вас художников не выйдет.
Вот он – рисует все, как видит...
К нему на выучку бы вам!» г
Ему начальник раймасштаба,
толстяк, .грудастый, словно баба,
который был известный гад,
с к а з а л: «Оплатим все по форме...
Отобрази меня на фоне
оленеводческих бригад.
Ты отрази 'и поголовье,
и липа, полные здоровья,
и трудовой задор, и пыл,
но чтобы все в натуре вышло!»
«Начальник, я пишу, как вижу...»
И Вылка к делу приступил.
Он, в краски вкладывая нежность,
изобразил оленей, ненцев,
н – будь что будет, все равно!—« д
к а к завершенье, на картине
с размаху шлепнул посредине
большое грязное пятно!
То был для Вылки очень странный
прием – по сущности, абстрактный,
а в то же время сочный, страстный,
реалистический мазок.
Смеялись ненцы и олени,
и лишь начальник в изумленье,
сочтя все это за глумленье,
никак узнать себя не мог.
И я восславлю Тыко Вылку!
Пускай он ложку или вилку
д е р ж а т ь как надо не умел —
зато он кисть д е р ж а л как надо,
зато себя д е р ж а л как надо!
Вот редкость – гордость он имел.
1903
БЕРЕЗА
Он промазал, охотник.
Он выругался
гильзу теплую
в снег отряхнул,
· ушенко
329
а по веткам разбуженным двигался,
колыхая сосульки,
гул.
И береза с корою простреленной,
расколдованное дитя,
вся покачивалась,· вся посверкивала,
вся потягивалась
хрустя.
И томилась испугом невысказанным,
будто он, прикоснувшись ко лбу,
разбудил поцелуем—
не выстрелом,
как царевну в хрустальном гробу.
И охотник от чуда возникшего
д а ж е вымолвить слова не мог:
от дробинок его. в ствол вонзившихся,
брызнул, брызнул березовый сок.
И охотник, забыв об измотанности,
вдруг припал пересохшей душой,
будто к собственной давешной молодости,
к бьющей молодости чужой.
Зубы сладко ломило
от холода,
и у ног задремало ружье...
Так поила береза
охотника,
позабыв, что он ранил ее.
1964
130
//.
Тарасову
Страданье устает, страданьем быть
и к радостям относится серьезно,
как будто бы в ярме обрыдлом бык
траву жует почти религиозно.
И переходит в облегченье боль,
и переходит в утешенье горе,
кристаллизуясь медленно, как соль,
в у ж е перенасыщенном растворе.
И не случайно то, что с давних пор
до хрипоты счастливой, до ерываиья
частушечный разбойный перебор
над Волгой называется «страданье».
Ручей весенний – это бывший лед.
Д а й чуть весны страдавшему кому-то,
и в нем тихонько радость запоет,
как будто бы оттаявшая мука.
Просты причины радости простой.
Солдат продрогший знает всею юшкой,
как сладок д а ж е кипяток пустой
с пушистым белым облачком над кружкой.
Что нестрадавшим роскошь роз в Крыму?
Но заключенный ценит подороже
в Мадриде на прогулочном кругу
задевший за ботинок подорожник.
И женщина, поникшая в беде,
бросается, забывши о развязке,
на мышеловку состраданья, где
предательски надел кусочек ласки.
Усталость видит счастье и в борще,
придя со сплава и с лесоповала...
А что такое счастье вообще?
Страдание, которое устало.
.1908
КОГДА
МУЖЧИНЕ СОРОК Л Е Т
Когда мужчине сорок лет,
ему пора д е р ж а т ь ответ:
душа не одряхлела? —
перед своими сорока,
и каждой каплей молока,
и каждой крошкой хлеба.
Когда мужчине сорок лет,
то снисхожденья ему нет
перед собой и богом.
Все слезы те, что причинил,
все сопли лживые чернил
ему выходят боком.
Когда мужчине сорок лет,
то наложить пора запрет
на ж а ж д у удовольствий:
ведь если плоть не побороть,
урчит, облизываясь, плоть —
съесть душу удалось ей.
И плоти, в общем-то, кранты,
когда вконец замуслен ты,
как лже-Христос, губами.
Один роман, другой роман,
а в результате лишь туман
и голых баб, как в бане.
До сорока яснее цель.
До сорока вся жизнь – как хмель,
а в сорок лет – похмелье.
Отяжелела голова.
Не сочетаются слова.
Как в яме, новоселье.
До сорока, до сорока
схватить удачу за рога
на ярмарку мы скачем,
а в сорок с ярмарки пешком
с пустым мешком бредем тишком.
Обворовали – плачем..
132
Когда мужчине сорок лет,
он должен д а т ь себе совет:
от ярмарок подальше.
Там не о б м а н е ш ь – н е продашь.
Обманешь – сам у ж е торгаш.
Таков закон продажи.
Еще противней р ж а т ь, д р о ж а,
конем в руках у торгаша,
сквалыги, живоглота.
Д в а равнозначные стыда —
когда торгуешь и когда
тобой торгует кто-то.
Когда мужчине сорок лет,
жизнь его красит в серый цвет,
но если не каурым —
будь серым в яблоках конем
и не продай базарным днем
ни яблока со шкуры.
Когда мужчине сорок л е т , '
то не сошелся клином свет ·
па ярмарочном гаме.
Нее впереди – ты погоди.
Ты лишь в комедь не угоди,
но не теряйся в драме!
Когда мужчине сорок лет,
и д я распад, или расцвет —
мужчина сам решает.
Себя от смерти не спасти,
но, кроме смерти, расцвести
ничто не помешает.
1972
ОЛЕНИНЫ
НОГИ
Бабушка Олена,
слышишь, как повсюду
бьет весна-гулена
в черепки посуду,
133
как захмелела сойка
с березового сока
и над избой твоей
поет,что соловей?
Ты на лес, на реченьку
посмотреть сходи...
Что глядишь невесело
на ноги свои?
И ночами белыми
голосом-ручьем
с ними, ослабелыми,
говоришь о чем?
«Ноженьки мои, ноженьки,
что же вы так болите?
Что же вы в белые ноченьки
снова бежать не велите?
«Лодочки» в пляске навастривая,
вы каблуки сбивали,
и сапоги наваксенные
за вами не успевали.
Вы торопились босыми
в лес по заросшей тропочке,
посеребренные росами,
вздрагивая по дролечке.
И под рассохлой лодкою,
где муравьи да кузнечики,
гладил он вас, мои легкие,
ровные, словно свечечки.
Ноженьки мои, ноженьки,
кроме гулянок с гармошкой,
знали вы тяжкие ношеньки —
ведра, мешки с картошкой.
Все я на вас – то с тряпкою,
то с чугунком, то с вилами,
134
то с топором, то с тяпкою,—
вот вы и стали остылыми.
На вас я полола-выкашивала,
мыкалась в снег и в дождик;
на вас я в себе вынашивала
осьмнадцать сынов и дочек.
Ни одного не выскоблила —
мы ведь не городские.
Всех я их к сроку вызволила,
всех отдала России.
Всех я учиться заставила.
«Вникайте!» – им повторяла.
На ноги их поставила,
ну, а свои потеряла.
Вот и не вижу солнышка...
Если б вы, ноженьки, ожили!
Куда же ушла ваша силушка,
ноженьки мои, ноженьки?!»
Бабушка Олена,
я плачу – не смотри.
Но слышишь – исступленно
токуют глухари.
И над рекою Вологдой
бежит, бежит под ток
над льдами и над волнами
девчонка с ноготок.
Бежит, как зачумленная,
к незнаемой любви...
У нее,
Олена,
ноги твои1
От восторга рушатся
ложи и галерки.
Балерина русская
·135
танцует в Нью-Йорке.
Сколько в ней полета,
буйства в крови!..
У нее,Оле на,
ноги твои! г
Не привык л горбиться —
гордость уберег.
И меня горести
не собьют с ног.
Сдюжу несклоиенно
в любые бои...
У меня, Олена,
ноги твои!
1963
СТРЕЛА
На свои родимый русский берег
под сень серебряных берез
наш вологодский аист в перьях
стрелу из Африки принес.
Стрелы обломок деревянный
и с наконечником стальным
извлек из крыльев конюх пьяный,
затылок почесав над ним.
А я не аист и не лебедь,—
обыкновенный журавель,
но остаюсь я русским в небе,
летя за тридевять земель<
И как бы ветры не носили
меня в тсплынные края,
в моих крылах – стрела России;
мо"я любовь и боль моя...
1974
136
ТЯГА
ВАЛЬДШНЕПОВ
Приготовь двустволку И ВЗГЛЯНИ!
вытянув тебе навстречу клюв,
вылетает вальдшнеп из луны,
крыльями ее перечеркнув.
Вот летит он, хоркая, хрипя...
Но скажи, – ты знаешь, отчего
тянет его, тянет на тебя,
а твою двустволку – на него?
Он летит, и счастлив его крик.
Ты, дрожа, к двустволке приник.
Он – твой безоружный двойник.
Ты – его бескрылый двойник.
Р а з в е ты бескрылость^ возместишь
выстрелом в крылатость? Дробь хлестнет,
но ведь это сам ты летишь,
это сам себя стреляешь влет...
1964
ДОЛГИЕ
КРИКИ
Ю.
Казакову
Дремлет избушка на том берегу.
Л о ш а д ь белеет на темном лугу.
Криком кричу и стреляю, стреляю,
а разбудить никого не могу.
Хоть бы им выстрелы ветер донес,
хоть бы услышал какой-нибудь пес1
Спят как убитые... «Долгие крики» —
так называется перевоз.
Голос мой в залах гремел, как набат,
плошади тряс его мощный раскат,
а дотянуться до этой избушки
и пробудить ее – он слабоват.
137
И для крестьян, что, устало дыша,
спят, словно пашут, спят не спеша,
так же неслышен мой голос, как будто
шелесты сосен и шум камыша.
Что ж ты, оратор, что ж ты, пророк?
Ты растерялся, промок и продрог.
Кончились пули. Сорван твой голос.
Д о ж д ь заливает твой костерок..
11о не тужи, что обидно до слез.
Можно о стольком подумать всерьез.
Времени много... «Долгие крики» —
так называется перевоз.
1903
ИНОСТРАНЕЦ
...и Меркурий плыл
над нами – иност
ранная звезда...
М.
Свстлоз
Па архангельском причале
иностранные суда,
иностранные печали,
иностранная судьба.
И чернявый,
как грачонок,
белой ночью
до утра
плачешь ты,
матрос-гречонок,
возле статуи
Петра.
И совсем не иностранно
в пыльном сквере городском
ты размазываешь странно
слезы грязным кулаком.
138
Может быть, обидел шкипер?
Может,
помер кто в семье?
Может,
водки лишку выпил?
Может,
просто не в себе?
Что с тобою приключилось?
Что с тобой случилось, грек?
А с тобою то случилось,
что ты тоже человек.
И еще тошнее, если,
ис поняв твоей тоски,
кто-то спрашивает – есть ли
безразмерные носки.
И глядишь ты горько-горько,
пониманья не ища,
на сующего пятерку
прыщеватого хлыща.
По идет, хвативший малость,








