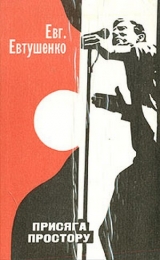
Текст книги "Присяга простору "
Автор книги: Евгений Евтушенко
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
«Вставай ты, дедушка, ну что ты?» -
рыдал молоденький шофер.
Не умирай, Иван Степаныч,
не умирай, не умирай...
Нехорошо ты поступаешь,
бросая свой родимый край.
Когда к Берлину шли солдаты,
то, набираясь к битвам сил,
они варили концентраты,
а эту гречку ты растил.
Врачи, прошу вас, помогите,
его смогите пробудить...
Ну что ж, Берлина победитель,
ты смерть не можешь победить?
Летят по воздуху ракеты,
и космонавты в них сидят.
На спичках даже их портреты...
А хлеб-то твой они едят.
Вот пьют геологи сгущенку,
вторгаясь в дальние края,
а это рыжую Буренку
доила старая твоя.
И пусть у пихт широколапых
пойдет за гробом весь народ,
и пусть, в молчанье снявши шляпы,
за ним правительство идет.
И пусть красивыми стихами
напишут люди, ставя крест,
что здесь лежит Иван Степаныч -
создатель спутников и ГЭС.
ТЕНИ НАШИХ ЛЮБИМЫХ
Есть обычай строителей,
древней Элладой завещанный:
если строишь ты дом,
то в особенно солнечный день
должен ты против солнца
поставить любимую женщину
и потом начинать,
первый камень кладя в ее тень.
И тогда этот дом не рассохнется
и не развалится:
станут рушиться горы,
хрипя,
а ему ничего,
и не будет в нем злобы,
нечестности,
жадности,
зависти -
тень любимой твоей
охранит этот дом от всего!
Я не знаю, в чью тень
первый камень положен был
в Братске когда-то,
но я вижу, строители,
только всмотрюсь,
как в ревущей плотине
скрываются тихо и свято
тени ваших Наташ,
ваших Зой,
ваших Зин
и Марусь.
И вы знайте, строители, -
вел я нелегкую стройку
и в несолнечный день
моего бытия
положил этой сложной поэмы
неловкую первую строчку
в тень любимой моей,
словно в тень моей совести, я.
Тени наших любимых,
следите, чтоб мы не сдались
криводушию!
К неуюту зовите,
если опыт уютной неправды займем!
Отступать не давайте
в сражении
за революцию!
Проступайте,
светясь,
в глубине красноволных знамен!
И когда мы построим,
хотя это трудно, -
Коммуну, -
нам не надо оркестров,
не надо речей и наград -
пусть, как добрые ангелы,
строго,
тревожно
и юно
тени наших любимых
ее
охранят!
ТРЕЩИНА
«В плотине трещина!»
Ребята
вздрагивают.
В машины встречные
ребята
вскакивают.
Слова набатные
гудят
по стройке.
Гитары
с бантами
летят
на койки.
Какие танцы,
кинокартина?!
Все,
как повстанцы,
к тебе,
плотина!
«В плотине трещина!»
Забыв о тосте,
мгновенно трезвые, -
со свадьбы
гости.
Жених
при бабочке,
злобясь на моду,
бежит,
прибавивши,
как можно,
ходу.
И, «шпильки» снявшая,
за ним на берег
невеста-сварщица -
босая,
в белом.
Недавно сонные,
все -
воедино,
чтобы спасенною
была
плотина!
Живу -
не ною,
но мне порою
тревожно
так же,
как ночью тою.
Вот лжец растленно
с трибуны треплется.
Реви,
сирена!
Тревога -
трещина!
Пусть эта трещина
такая крохотная
и не зловещая,
а даже кроткая,
но не сворачивать
и не опаздывать!
Опасность вкрадчива.
Хитра опасность.
От грязи пошлой
рыдает женщина...
Скорей на помощь!
Тревога -
трещина!
Поруган кто-то...
Проснитесь,
дремлющие!
В машины -
с лёта.
Тревога -
трещина!
МАЯКОВСКИЙ
...И, вставши у подножья Братской ГЭС,
подумал я о Маяковском сразу,
как будто он костисто,
крупноглазо
в ее могучем облике воскрес.
Громадный,
угловатый,
как плотина,
стоит он поперек любых неправд,
затруженно,
клокочуще,
партийно
попискиванья
грохотом поправ.
Я представляю,
как бы он дубасил
всех прохиндеев
тяжестью строки
и как бы здесь,
тайгу шатая басом,
читал бы он
строителям стихи.
К нему не подступиться
с меркой собственной,
но, ощущая боль и немоту,
могу представить все,
но Маяковского
в тридцать седьмом
представить не могу.
Что было б с ним,
когда б тот револьвер
не выстрелил?
Когда б он жив остался?
Быть может, поразумнел!
Поправел?
Тому, что ненавидел,
все же сдался?
А может,
он ушел бы мрачно в сторону,
молчал,
зубами скрежеща,
вдали,
когда ночами где-то
в «черных воронах»
большевиков расстреливать везли?
Не верю!
Несгибаемо,
тараняще
он встал бы и обрушил
вещий гром,
и, в мертвых ставший
«лучшим и талантливейшим»,
в живых -
он был объявлен бы врагом.
Пусть до конца тот выстрел не разгадан,
в себя ли он стрелять нам дал пример?
Стреляет снова,
рокоча раскатом,
над веком
вознесенный
револьвер -
тот револьвер,
испытанный на прочность,
из прошлого,
как будто с двух шагов,
стреляет в тупость,
в лицемерье,
в пошлость:
в невыдуманных -
подлинных врагов.
Он учит против лжи,
все так же косной,
за дело революции стоять.
В нем нам оставил пули Маяковский,
чтобы стрелять,
стрелять,
стрелять,
стрелять.
БАЛ ВЫПУСКНИКОВ
Бал,
бал,
бал,
бал на Красной площади!
Бал в двенадцать баллов -
бал выпускников!
Бабушка, вы мечетесь,
бабушка, вы плачете, -
ваша внучка,
бабушка,
уже без каблуков.
Платье где-то лопнуло,
бусы -
в грязь,
и на место Лобное
внучка взобралась.
Где стоял ты,
Стенька,
возле палача, -
абитуриентка
пляшет
ча-ча-ча.
Бутылки из-под сидра,
гитары и транзисторы,
притопы и прихлопы
составили оркестр,
и пляшет площадь Красная,
трясется и присвистывает -
не то сошел антихрист,
не то Христос воскрес.
Бедные дружинники
глядят,
дрожа,
как синенькие джинсики
дают
дрозда.
Лысый с телехроники,
с ног чуть не валясь,
умоляет:
«Родненькие,
родненькие,
вальс!»
Но на просьбы робкие -
свист,
свист,
и танцуют
родненькие
твист,
твист...
Бродит среди праздника,
словно нелюдим,
инженер из Братска
с ежиком седым.
Парни раззуденные
пляшут и поют,
Петьку в разбуденовке
в нем не узнают.
«Что,
вам твист не нравится?»
«Нет,
совсем не то, -
просто вспоминается
кое-что...»
Ни к чему агитки,
только видит он
и парней Магнитки,
и ее бетон.
...Пляшут парни на бетоне,
пляшут пять чубов хмельных.
Пляшут парни,
наподобье
виноделов чумовых.
Пляшут звездные, лихие
разбуденовки парней
пляску детства индустрии,
пляску юности своей.
...Бал,
бал,
бал на Красной площади!
Бывший Петька смотрит из-под седины:
«Хоть и странно пляшете -
здоровы вы пляшете,
только не забудьте,
как плясали мы...»
Ты смеешься звонко,
девчушка под Брижитт,
ну, а где-то Сонька
неподвижная лежит.
...Что ты, Сонька, странно смолкла?
Что ты, Сонька, не встаешь?
Книжку тоненькую МОПРа
просадил бандитский нож...
Тот бетон, ребята,
мы для вас месили,
и за это самое
мстили нам враги.
Не забудьте, «гвоздики»
или «мокасины»,
Сонькины разбитые сапоги...
Смена караула,
затихает смех.
Словно ветром сдуло
к Мавзолею всех.
Парни и девчата
глядят вперед,
как, шаги печатая,
караул идет.
Чистым будь, высоким,
молодое племя!..
Не простит вам Сонька,
не простит вам Ленин!
В бой зовет Коммуна!
Станьте из детей
сменой караула
у ленинских дверей!
В МИНУТУ СЛАБОСТИ
Когда
в тупом благоденствии
мозолит глаза
прохиндейство,
мне хочется
в заросли девственные,
куда-нибудь,
хоть к индейцам.
Но нету
девственных зарослей.
Индейцы
давно повымерли.
И сердце
тоской терзается,
словно телок -
по вымени.
Но стыдно, ей богу,
плакаться,
что столько подонков,
дескать.
Стыдно
от времени
прятаться -
надо
его
делать!
Разные водятся пряточки:
прячутся в гогот,
в скулеж,
прячутся в мелкие правдочки,
прячутся в крупную ложь.
Прячутся в лжезаботы,
в танцы,
футбол,
вино,
в рыбалки
и анекдоты,
в карты
и домино.
Прячутся,
словно маленькие,
в машину
и дачу свою,
в магнитофоны,
в марки,
в службу,
друзей,
семью.
Но стыдно -
кричу я криком -
прятаться даже в природу,
даже в бессмертные книги,
даже в любовь
и работу!
Я знаю,
сложна эпоха
и трудно в ней разобраться,
но если в ней что-то плохо,
то надо не прятаться -
драться!
Не в одиночку драться,
а вместе со всем народом,
вместе с рабочими Братска,
с физиком
и хлеборобом!
И я,
если мучат сомнения,
ища
от них
исцеления,
иду
ходоком
к Ленину,
иду
ходоком
к Ленину...
Многие страны я видел.
Твердо
в одном
разобрался:
ждет нас
всеобщая гибель
или
всеобщее братство.
В минуты
самые страшные
верую,
как в искупленье:
все человечество страждущее
объединит
Ленин.
Сквозь войны,
сквозь преступления,
но все-таки без отступления,
идет человечество
к Ленину,
идет человечество
к Ленину...
НОЧЬ ПОЭЗИИ
Скрипело солнце на крюке у крана,
спускаясь в глубь ангарской быстрины.
Стояла ГЭС, уже темнея справа
и вся в закате – с левой стороны.
Она играла с Ангарой взметенной
и сотворяла волшебство с водой,
ее впуская справа – темной-темной,
а выпуская слева – золотой.
И мы, в ошеломлении счастливом,
зубами ветер цапая взаглот,
на катерке храпливом и скакливом
летели к морю Братскому вперед.
Алело все... Над алыми волнами
подпрыгивали алые сиги,
и вот явилось море перед нами
в зеленой люльке матери-тайги!
Шалило море с блестками рыбешек,
с буйками и прибрежным ивняком
и баловалось – вправду, как ребенок,
что погремушкой – нашим катерком.
И к поручням, притихшие, припали,
глазами по-отцовски заблестя,
строители, монтажники, прорабы, -
ведь это море было их дитя.
И худенькая женщина шептала,
забыв при всех приличья соблюдать,
припав щекой к тельняшке капитана:
«Ах, Паша, Паша, что за благодать!»
И он ее рукой в наколках обнял,
свободною другой держа штурвал...
«Муж и жена... Они поэты оба...» -
матросик рыжий мне растолковал.
Я наблюдал за странною семьею
поэтов.
Был уже немолод Павел,
но буйно, по-мальчишьи, чуб седой
на синие есенинские падал.
Да и она была немолода...
Виднелись из-под гребня на затылке,
сквозь краску проступая иногда,
сединки в шестимесячной завивке.
И кожа ее красных, тяжких рук,
как и у всех стиравших много женщин,
потрескалась...
Но пробивалось вдруг
девчоночье, живое в их движеньях.
И с радостной смущенностью в глазах,
как если бы ей взять да нарядиться,
на месяц бледный мужу показав,
она вздохнула тихо: «Народился...»
Причалил катер к берегу, и Павел
нам объявил начальственно:
«Привал!»
Кто хворост нес, а кто палатку ставил,
а кто уже бутылки открывал.
Стемнело.
За сплетеньем звезд и веток
невидимо шумела Ангара.
Кулеш в котле клохтал.
Под мокрым ветром
кренились крылья красные костра.
Ну, а матросик шустрый тот -
Серенька -
аккордеон трофейный развернул,
ремень плечом напряг, взглянул серьезно,
а после подмигнул и – резанул!
Он то мотал кудрявой головою,
то прыгал чертом на одной ноге,
как будто рыжик, приподнявший хвою
в угрюмо настороженной тайге.
В траву за поллитровкой поллитровку
швыряли мы, смыкаясь все тесней,
а то, что иглы падали в «зубровку»,
так с ними было даже и вкусней.
И я себя почувствовал собою,
и я дышал отчаянно, легко,
и было мне так чисто, так свободно,
и все иное было далеко.
Тут попросили почитать, и снова
почувствовал я где-то в глубине:
нет у меня чего-то основного,
что нужно этим людям, да и мне.
Стихи свои расставив на смотру,
я, мучась, выбирал.
Не выбиралось,
а поточней сказать – не вымерялось
по этим лицам, соснам и костру.
Ну а Серенька – под сосновый шелест
с грустцой кладя на инструмент висок
и пальцами на клавиши нацелясь,
спросил меня привычно:
«Под вальсок?»
Не понял я, а он в ответ на это
вздохнул, беря обиженно пассаж:
«Я думал, что умеют все поэты
под музыку читать, как Пашка наш...»
Прочел я что-то...
После вышел Павел.
Взглянул высокомерно и темно,
ремень матросский с якорем оправил,
чуб разлохматил и кивнул: «Танго!»
И стал читать нахмуренно...
Сквозь всех
глядел, шатаясь, как при шторме, тяжко.
Рука терзала драную тельняшку
так, что русалки лезли из прорех.
«Забудьте меня, родственники, дети!
Забудь меня, ворчащая жена!
Я молодой! Уйду я на рассвете
туда, где ждет лучистая ОНА.
И я ее лобзать на травах буду
и ей сплетать из орхидей венки,
и станут о любви трубить повсюду
герольды наши – майские жуки.
Не будет облаков над нами хмурых,
ни змей, ни скорпионов на пути,
и будут астры в белых куафюрах
за нами, словно фрейлины, идти!»
И мы молчали добро, осененно,
и улыбались кротко и светло.
«Ну что – сильну?» – торжествовал Серенька,
и я ответил искренне: «Сильну!»
А между тем «ворчащая жена»
на выпады нисколько не ворчала.
Она кулеш мешала и молчала,
в свой отрешенный мир погружена.
Чему-то там неслышному внимая,
глядела на трещавшее смолье.
А Павел сделал жест широкий: «Майя,
ну что ты там сидишь? Прочти свое...»
И Майя, почему-то сняв сережки,
с ним рядом так хрупка и так мала,
в круг вышла, робко стала посередке,
потом кивнула ждущему Сереньке:
«Страдания».
И тихо начала:
«Уж вы, очи мои, мои очи,
я не знаю, в чем ваша вина.
Слез моих добивались то отчим,
то бескормица, то война.
И как будто ему станет легче,
если буду я плакать от мук,
добивался их, душу калеча,
мой любимый неверный супруг.
Мои очи тоской тяжелеют,
да не очи, а просто глаза,
и никто меня не пожалеет,
хоть катись золотая слеза...»
Но, творческую зависть, видно, спрятав,
муж проворчал с цигаркою во рту:
«Безвыходно... Насчет меня – неправда...»
А Майя: «Ладно, с выходом прочту. .»
И на обрыве самом встала Майя
перед костром, светясь в его огне,
глаза куда-то к звездам поднимая,
рукою обращаясь к Ангаре:
«Ангара моя, Ангарушка,
ты куда бежишь? Постой!
Я стою, бледней огарочка,
над твоею синетой.
Помнишь парня – звали Пашкою?
Он далеко заплывал.
В косу мне, тобою пахнущую,
он саранки заплетал.
Сколько желтого песку
в туфельки насыпалось!
Сколько раз мы целовались,
а я не насытилась!
Где теперь вы, туфли-модницы?
Где ты, зорюшка-коса?
Убежала моя молодость,
словно с колышком коза.
Ангара моя, Ангарушка,
сколько жалуешь ты нам!
Над тобой белее гаруса -
залюбуешься! – туман.
Над тобою ели-сосенки,
мишек умные глаза.
Словно маленькие солнышки,
в тебе ходят хайрюза.
И летают утки-уточки,
и пичуги гомонят,
ну, а губы шутки-шуточки
давно не говорят.
Я как белочка бедовая, -
только зубки выщерблены!
Я как шишечка кедровая, -
да орешки выщелканы!
Ангара моя, Ангарушка,
ты мне счастье нагадай.
Не забуду я отдарочка,
только молодость мне дай!
Поперек тебя плотина,
а над нею – красный флаг.
Подплыву к плотине тихо
и скажу плотине так:
«Ты впусти меня, плотина,
вместе с буйною водой,
ну, а выпусти, плотина,
молодою-молодой.
Ты свети, свети, плотина,
через горы и леса!
Ты сведи, сведи, плотина,
все морщиночки с лица...»
Ты «с выходом» прочесть хотела, Майя!
Я понял тебя, Майя... Выход в том,
чтоб озарял нас, души просветляя,
тот свет, который сами создаем.
И думал я еще о нашей тяге
к поэзии... О, сколько чистых душ
к ней тянется, а вовсе не стиляги,
не «толпы истерических кликуш»!
И стыдны строчки ложные, пустые,
когда везде – и у костров таких -
стихи читает чуть не вся Россия
и чуть не пол-России пишет их.
Я вспомнил, как в такси московском ночью,
вбирая мир в усталые глаза,
немолодой шофер, дымивший молча,
мне прочитал свой стих, не тормозя:
«Жизнь прошла... Закрылись карусели...
Ну, а я не знаю, как мне быть.
Я б сумел тебя, Сергей Есенин,
не в стихах – так в петле заменить!»
И пишут, пишут – пусть корявым слогом, -
но морщиться надменно, право, грех,
и если нам дано хоть малость богом,
то мы должны писать за всех, для всех!
Ведь в том, что называют графоманством,
Россия рвется, мучась и любя,
тайком, тихонько или громогласно,
но выразить, но выразить себя!
Так думал я, и, завершая праздник,
мы пели песни дальней старины
и много прочих песен – самых разных,
да и – «Хотят ли русские войны?...».
И, черное таежное мерцанье
глазами Робеспьера просверлив,
бледнея и горя, болгарин Цанев
читал нам свой неистовый верлибр:
«Живу ли я?
«Конечно...» – успокаивает Дарвин.
Живу ли я?
«Не знаю...» – улыбается Сократ.
Живу ли я?
«Надо жить!» – кричит Маяковский
и предлагает мне свое оружие,
чтобы проверить, живу ли я».
Кругом гудели сосны в исступленье,
и дождь шипел, на угли морося,
а мы, смыкаясь, будто в наступленье,
запели под гитару Марчука:
«Но если вдруг когда-нибудь
мне уберечься не удастся,
какое б новое сраженье
ни покачнуло шар земной,
я все равно паду на той,
на той, далекой,
на гражданской,
и комиссары в пыльных шлемах
склонятся молча надо мной...»4
И, появившись к нам на песню сами,
передо мной – уже в который раз! -
в тех пыльных шлемах встали комиссары,
неотвратимо вглядываясь в нас.
Они глядели строго, непреложно,
и было слышно мне, как ГЭС гремит
в осмысленном величии – над ложным,
бессмысленным величьем пирамид.
И, как самой России повеленье
не променять идею на слова,
глядели Пушкин, и Толстой, и Ленин,
и Стенькина шальная голова.
Я счастлив, что в России я родился
со Стенькиной шальною головой.
Мне в Братской ГЭС мерцающе раскрылся,
Россия, материнский образ твой.
4 Б.Окуджава
Сгибаясь под кнутами столько лет,
голодная, разута и раздета,
ты сквозь страданья шла во имя света,
и, как любовь, ты выстрадала свет.
Еще немало на земле рабов,
еще не все надсмотрщики исчезли,
но ненависть всегда бессильна, если
не созерцает – борется любовь.
Нет чище и возвышенней судьбы -
всю жизнь отдать, не думая о славе,
чтоб на земле все люди были вправе
себе самим сказать: «Мы не рабы».
Братск – Усть-Илим – Суханово – Сенеж – Братск – Москва
1964

Евгений Евтушенко
Северная надбавка
ПОЭМА
1976–1977.
Журнал «Юность» № 6 1977 г.
За что эта северная надбавка!
За —
вдавливаемые
вьюгой
внутрь
глаза,
за —
мороза такие,
что кожа на лицах,
как будто кирза,
за —
ломающиеся,
залубеневшие торбаза,
за —
проваливающиеся
в лед
полоза,
за —
пустой рюкзак,
где лишь смерзшаяся сабза,
за —
сбрасываемые с вертолета груза,
где книг никаких,
за исключением двухсот пятидесяти экземпляров
научной брошюры
«Ядовитое пресмыкающееся наших пустынь —
гюрза…»
2
«А вот пива,
товарищ начальник,
не сбросят, небось, ни раза…»
«Да если вам сбросить его —
разобьется…»
«Ну хоть полизать,
когда разольется.
А правда, товарищ начальник,
в Америке – пиво в железных банках!»
«Это для тех,
у кого есть валюта в банках…»
«А будет у нас «Жигулевское»,
которое не разбивается!»
«Не все, товарищи, сразу…
Промышленность развивается».
И тогда возникает
северная тоска по пиву,
по русскому —
с кружечкой,
с воблочкой
– пиру.
И начинают:
«Когда и где
последний раз
я его…
того…
Да, боже мой, братцы, —
в Караганде!
Лет десять назад всего…»
Теперь у парня в руках
весь барак:
«А как!»
«Иду я с шабашки
и вижу —
цистерна,
такая бокастая,
рыжая стерва,
Я к ней – без порыва.
Ну, думаю, знаю я вас:
написано «Пиво»,
а вряд ли и квас…»
Барак замирает,
как цирк-шапито:
«А дальше-то что!»
«Я стал притворяться,
как будто бы мне все равно.
Беру себе кружечку, братцы,
И – гадом я буду – оно!»
«Холодное?» —
глубокомысленно
вопрос, как сухой наждачок.
«Холеное…»
«А не прокислое?»
«Ни боже мой —
свежачок!»
«А очередь!»
«Никакошенькой!»,
и вдруг пробасил борода,
рассказчика враз укокошивший:
«Какое же пиво тогда?
Без очереди трудящихся
какой же у пива вкус!
А вот постоишь три часика
и столько мотаешь на ус…
Такое общество избранное,
хотя и табачный чад.
Такие мысли, не изданные
в газетах, где воблы торчат.
Свободный обмен информацией,
свободный обмен идей.
Ссорит нас водка, братцы,
пиво сближает людей,.»
Но барак,
притворившийся только, что спит:
«А спирт?»
И засыпает барак на обрыве,
своими снами
от вьюги храним,
и радужное,
как наклейка на пиве,
сиянье северное
над ним.
А когда открывается
навигация,
на первый,
ободранный о льдины пароход,
на лодках
угрожающе
надвигается,
размахивая сотенными,
обеспивевший народ,
и вздрагивает мир
от накопившегося пыла:
«Пива!
Пива!»
3
Я уплывал
на одном из таких пароходов.
Едва успевший в каюту влезть,
сосед, чтобы главного не прохлопать,
Хрипло выдохнул:
«Пиво есть?»
«Есть», – я ответил,
«А сколько ящиков?» —
последовал северный крупный вопрос,
и целых три ящика
настоящего
живого пива
буфетчик внес.
Закуской были консервные мидии.
Под сонное бульканье за кормой
с бульканьем
пил из бутылок невидимых
и ночью
сосед невидимый мой.
А утром,
способный уже для бесед,
такую исповедь
выдал сосед:
«Летать Аэрофлотом?
Мы лучше обождем.
Мы мерзли по мерзлотам
не за его боржом.
Я сяду лучше в поезд
«Владивосток – Москва»,
и я о брюшную полость
себе налью пивка.
Сольцой, чтоб зашипело!
Найду себе дружков,
чтоб теплая капелла
запела бы с боков.
С подобием улыбки
сквозь пенистый фужер
увижу я Подлипки,
как будто бы Танжер.
Аккредитивы в пояс
зашил я глубоко,
но мой финкарь пропорист —
отпарывать легко.
Куплю в комиссионке
костюм– сплошной кремплин.
Заахают девчонки,
но это лишь трамплин.
Я в первом туалете
носки себе сменю.
Двадцатое столетье
раскрою, как меню.
Пять лет я торопился
на этот пир горой.
Попользую я «пильзен»,
попраздную «праздрой».
Потом, конечно, в Сочи
с компашкой закачусь —
там погуляю сочно
от самых полных чувств.
Спроворит, как по нотам,
футбольнейший подкат
официант с блокнотом:
«Вам хванчкару, мускат!»
Но зря шустряк в шалмане
ждет от меня кивка.
«Компании – шампании!
А для меня – пивка!
Смеешься надо мною!
Мол, я не из людей,
животное пивное,
без никаких идей!
Скажи, а ты по ягелю
таскал теодолит,
не пивом, а повальною
усталостью налит?
Скажи, а ты счастливо,
без всяких лососин
пил бархатное пиво
из тундровых трясин?
А о пивную пену
крутящейся пурги
ты бился, как о стену,
когда вокруг ни зги?
Мы теплыми телами
боролись, кореш, с той,
как ледяное пламя
дышавшей, мерзлотой.
А тех, кто приустали,
внутрь приняла земля,
и там, в гробу хрустальном,
тепа из хрусталя.
Я, кореш, малость выжат,
прости мою вину.
Но ты скажи: кто движет
на Север всю страну!
На этот отпусочек —
кусочек жития,
на пиво и на Сочи
имею право я!
Я северной надбавкой
не то чтоб слишком горд.
Я мамку, деда с бабкой
зарыл в голодный год.
Срединная Россия
послевоенных лет глядит —
теперь я в силе,
за пивом шлю в буфет!
Сеструха есть – Валюха.
Живет она в Клину,
и к ней еще до юга,
конечно, заверну…
Пей… Разве в пиве горечь,
что ерзаешь лицом!
По пиву вдарим, кореш,
пивцо зальем пивцом…»
4
Эх, надбавка северная,
вправду сумасшедшая,
на снегу посеянная,
на снегу взошедшая!
Впрочем, здесь все рублики,
как шагрень, сжимаются.
От мороза хрупкие
сотни здесь ломаются.
И, до боли яркие,
в самолетах ерзая,
прилетают яблоки,
все насквозь промерзлые.
Тело еще вынесло,
ночью изъелозилось,
а душа не вымерзла —
только подморозилась.
5
В столице были слипшиеся дни…
Он легче стал
на три аккредитива
и тяжелей
бутылок на сто пива,
и захотелось чаю и родни.
Особенно он как-то испугался,
когда, проснувшись,
вдруг нащупал галстук
на шее у себя, а на ноге
почувствовал чужую чью-то ногу,
а чью – понять не мог,
придя к итогу:
«Эге,
пора в дорогу…»
Сестру свою не видел он пять лет.
Пропахший запланированным «пильзеном»,
как блудный брат,
в кремплине грешном вылез он
в Клину чуть свет
с коробкою конфет.
В России было воскресенье,
но
очередей оно не отменяло,
а в двориках тишайших
домино
гремело наподобье аммонала.
Не знали покупатели трески
и козлозабиватели ретивые,
что в поясе приезжего с Москвы
на десять тыщ лежат аккредитивы.
Московскою «гаваною» дымя,
он шел,
сбивая новенькие «корочки».
Окончились красивые дома
и даже некрасивые окончились.
Он постукал в окраинный барак,
который столь похожим был на северный.
«Чего стучишь!
Открыта дверь и так…» —
угрюмо пробурчал старик рассерженный.
Вошел приезжий в длинный коридор,
смущаясь:
«Мне бы Щепочкину Валю…»
«Такой здесь нет…
Все ходют,
носют сор,
и, кстати, нас вчерась обворовали…»
«Как нет!
Я брат ей…
Я писал сюда.
Ну, правда, года три последним разом.
Дед, вспомни —
медицинская сестра.
С рыжцой!
Косит немного левым глазом!»
«Ах, эта Валька —
Юркина жена!
Я хоть старик,
а человек здесь новый
и путаюсь в фамилиях.
Она
не Щепочкина вовсе,
а Чернова».
«А где они живут!»
«Вон там живут.
Был Юрка на бульдозере,
а нынче
Валюха его тянет в институт,
и мужа
и двоих детишек нянча.
Валюха,
доложу тебе,
душа…
А как насчет уколов хороша!
И даже ездит
к самому завскладом,
и всаживает шприц легко-легко…
Как видишь, оценили высоко
своим —
научно выражаясь —
задом».
Рванул приезжий дверь сестры слегка,
и ручка вмиг с шурупами осталась
в его руке,
и вздрогнула рука,
как будто бы нечаянно состарясь.
Он в мокрое внезапно ткнулся лбом
и о прищепку щеку оцарапал.
Пеленки в блеске бело-голубом
роняли, как минуты, капли на пол.
И он увидел,
сжавшийся в углу,
раздвинув тихо занавес пеленок:
один ребенок ерзал на полу,
и грудь сестры сосал другой ребенок.
А над электроплиткой,
юн и тощ,
половником помешивая борщ,
сестренкин муж читал,
как будто требник,
по дизельной механике учебник.
С глазами наподобие маслин
в жабо воздушном
у электроплитки
здесь, правда, третий лишний был —
Муслим,
но это не считалось —
на открытке.
Приезжий от пеленок сделал шаг,
и сдавленно он выговорил:
«Валя…» —
как будто призрак тех болот и шахт,
где есть концерты шумные едва ли.
Сестра с подмокшей ношею своей
привстала,
грудь прикрыла на мгновенье,
Все женщины роняют от волненья,
но не роняют никогда детей.
«Я думала, что ты уже…»
«Погиб?
Как бы не так!
Держи, сестра, конфеты!»
«А что ж ты не писал!»
«Я странный тип…
К тому ж у нас нехватка на конверты…»
«Мой муж…»
«Усек…»
«Племянники твои…»
«И это я усек…
Я, значит, дядя!
А где твой шприц!
Шампанского вколи!
Да, завязав глаза, вколи,
не глядя!»
«Шампанского, Петюша!
Я сейчас…»
Сестра засуетилась виновато,
в момент из-под певца-лауреата
достав десятку —
тайный свой запас.
«Петр Щепочкин,
ты, братец, сукин сын!» —
в сердцах подумал о себе приезжий.
Муж приоделся
и в сорочке свежей
направился в соседний магазин.
Петр Щепочкин за ним тогда вдогон,
ему у кассы сотенную сунул,
но даже не рукой,
а просто сумкой
небрежно отстранил дензнаки он.
Петр Щепочкин его зауважал —
нет,
этот парень явно не нахлебник,
не зря, как видно, дизельный учебник,
страницы в борщ макая,
он держал.
А в комнатку тащил, что мог, барак —
гость северный,
особенный,
еще бы!
Был холодец,
и даже был форшмак!
Был даже красный одинокий рак —
с изысканною щедростью трущобы!
Не может жить Россия без пиров,
а если пир,
то это пир всемирный!
Приперся дед.
боявшийся воров,
с полупустой бутылочкой имбирной.
Принес монтер,
как битлы, долгогрив,
с вишневкой, простоявшей зиму, четверть,
и, марлю осторожно приоткрыв,
стал вишенки
из чашки
ложкой черпать.
Зубровку —
неизвестное лицо
внесло,
уже в подпитии отчасти,
прибавив к ней вареное яйцо,
и притащила няня —
тетя Настя —
больничных нянь любимое винцо —
кагор,
напоминающий причастье.
Был самогон,
взлелеянный в селе,
с чуть лиловатым
свекольным отливом…
Лишь пива не случилось на столе.
В Клину в то время
плохо было с пивом.
И даже не мешало ребятне,
и так сияла Щепочкина Валя,
как будто в эту комнатку ее
все населенье Родины созвали.
Но отгонявший тосты, словно мух,
напоминая, что она – Чернова,
шампанское прихлебывая,
муж украдкою листал учебник снова.
Глаз Валин, словно в детстве, чуть косил,
но больше на него,
им озабочен.
«Ты счастлива!» —
Петр Щепочкин спросил.
«Ой, Петенька, – вздохнула, —
очень…
Чего,
а счастья нам не брать взаймы.
Да только комнатушка тесновата.
Три года,
как на очереди мы.
А в кооператив —
не та зарплата…»
Петр Щепочкин как шваркнулся об лед:
«Ты сколько получаешь!»
«Сто пятнадцать.
Там Юрина стипендия пойдет,
и малость легче будет нам подняться…»
Петр Щепочкин
плеснул себе кагор,
запил вишневкой,
а потом зубровкой,
и старику сказал он с расстановкой:
«Воров боишься!
Я, старик, не вор…»
Он думал —
что такое героизм!
Чего геройство показное стоит,
когда оно вздымает гири ввысь,
наполненные только пустотою!
А настоящий героизм —
он есть.
Ему неважно —
признан ли,
не признан.
Но всем в глаза
он не желает лезть,
себя не называя
героизмом.
Мы бьемся с тундрой.
Нрав ее крутой.
Но женщины ведут не меньше битву
с бесчеловечной вечной мерзлотой
не склонного к оттаиванью быта.
Не меньше, чем солдат поднять в бою,
когда своим геройством убеждают,
геройство есть —
поднять свою семью,
и в этом гибнут
или побеждают…
Все гости постепенно разошлись.
Заснула Валя.
Было мирно в мире.
Сопели дети.
Продолжалась жизнь.
Петр Щепочкин и муж тарелки мыли.
Певец вздыхал с открытки,
но слабо
солисту было,
выпрыгнув оттуда,
пожертвовать воздушное жабо
на протиранье вилок и посуды…
Хотя чуть-чуть кружилась голова,
что делать, стало Щепочкину ясно,
но если не подысканы слова,
мысль превращать в слова всегда опасно.
И, расставляя стулья на места,
нащупывая правильное слово,
Петр Щепочкин боялся неспроста
загадочного Юрия Чернова.
Петр начал так:
«Когда-то, огольцом,
одну старушку я дразнил ягою,
кривую,
с рябоватеньким лицом,
с какой-то скособоченной ногою.
Тогда сестренке было года три,
но мне она тайком, на сеновале
шепнула,
что старушка та внутри
красавица.
Ее заколдовали,
Мне с той поры мерещилось, нет-нет,
мерцание в той сгорбленной старушке,
как будто голубой, нездешний свет
внутри болотной, кривенькой гнилушки.
Когда осиротели мы детьми,
то, притащив заветную заначку,
старушка протянула мне:
«Возьми…» —
бечевкой перетянутую пачку.
Как видно, пачку прятала в стреху —
пометом птичьим, паклей пахли деньги.
«Копила для надгробья старику,
но камень подождет.
Берите, дети»,
Старухин глаз единственный с тоской
слезой закрыло —
медленной,
большою,
но твердо бабка стукнула клюкой,
нам приказав:
«Берите не чужое…»
Сестра шепнула на ухо:
«Бери…»
И с детства,
словно тайный свет в подспудьи,
мне чудятся
красивые внутри и лишь нерасколдованные люди…»
Петр Щепочкин стряхнул с тарелки шпрот:
«Сестренка с детства
в людях разумеет…»
Чернов,
лапшинку направляя в рот,
с достоинством кивнул:
«Она умеет…»
Был заметен весь праздничный погром,
а Щепочкин чесал затылок снова,
пока исчезла с мусорным ведром
фигура монолитная Чернова.
Он гостю раскладушку распластал.
Почистил зубы,
щетку вымыл строго
и преспокойно на голову встал.
Гость вздрогнул,
впрочем, после понял —
«йога».
И Щепочкин решил:
«Ну – так не так!
Быть может, легче,
чтоб не быть врагами,
душевный устанавливать контакт,
когда все люди встанут вверх ногами…»
И начал он,
решительно уже,
чуть вилкой не задев,
как будто в схватке,
качавшиеся чуть настороже
черновские мозолистые пятки:
«Я для тебя, надеюсь, не яга,
хотя меня ты все же дразнишь малость,
но для меня Валюха дорога —
из Щепочкиных двое нас осталось.
И пусть продлится щепочкинский род,
хотя и прозывается черновским,
пусть он во внуках ваших не умрет,
ну хоть в глазенках —
проблеском чертовским.
Ты парень дельный.
Правда, с холодком.
Но ничего.
Я даже приморожен,
а что-то хлобыстнуло кипятком,
и я оттаял.
Ты оттаешь тоже.
С Валюхой все делили вместе мы,
но разговор мой с нею отпадает.
Так вот:
я дать хочу тебе взаймы.
Тебе.
Не ей.
Взаймы.
А не в подарок.
На кооператив.
На десять лет.
И – десять тыщ,
Прими.
Не будь ханжою.
Той бабке заколдованной вослед
я говорю:
«Берите – не чужое…»
Но, целеустремленно холодна,
чуть дергаясь,
как будто от нападок,
черновская возникла голова
на уровне его пропавших пяток.
«Легко заметить нашу бедность вам,
но вы помимо этого заметьте:
всего на свете я добился сам,
и только сам всего добьюсь на свете.
Отец мой пил.
В долгу был, как в шелку.








