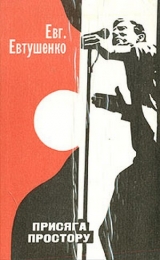
Текст книги "Присяга простору "
Автор книги: Евгений Евтушенко
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Шуршащая медленность мига
тревожным звонком прервалась.
Как в мире нет мира второго,
счастливым побегам – не быть.
Несчастия мира – тот провод,
который нельзя отрубить.
И что-то вставало у горла,
такое, о чем не с к а з а т ь, —
ведь слово « р е б е н о к» – т а к горько
со словом «могила» связать.
Я думал о всех погребенных,
о всем, погребенном во всех.
69
Любовь – это тоже ребенок.
Его закопать – это грех.
Но д в а ж д ы был заступ мой
всажен
пол поздние слезы мои,
и кто не выкапывал сам же
могилу своей же любви?
И д а ж е без слез неутешных —
привычка уже, черт возьми! —
мы ставим кресты на надеждах,
как будто кресты над детьми.
Так старит проклятая гонка,
тщеславия суетный пыл,
и каждый – могила ребенка,
которым когда-то он был.
Мы плыли вдоль этого мыса,
вдоль мрачных скалистых громад,
как вдоль обнаженного смысла
своих невозвратных утрат.
И каждый был горько наказан
за все, что схоронено им,
и крошечный колокол в каждом
звонил по нему и другим...
1970
ВАХТА
НА ЗАКАТЕ
Вахту я нес на рассвете вчера.
Сколько мной было загадано!
Ну а сегодня иная пора.
Вахта моя – з а к а т н а я.
Чем-то похож и закат на рассвет,
но, свою силу утрачивая,
свет потихонечку сходит на нет.
Ночь подбирается вкрадчивая.
70
Солнце уходит на передых,
солнце разбито, рассеяно.
Красного мертвенный переход
в серое, серое, серое.
В ичигах бродит, как будто тать,
сумрак шагами несытыми...
Время, когда еще можно читать,—
свободно, хотя относительно.
Сейчас бы мне чистого спирта глоток,
а закусить – хоть галошею.
Сейчас бы мне книгу любую, браток,
Любую, но только хорошую.
1967
ЗА
МОЛОЧКОМ
Н а ш к а р б а с мягонько —
в ивняк бочком,
а мы в деревню – за молочком.
Ведром побрякиваем,
идем,покрякиваем —
вот-вот ленчаночка качнет бочком
при коромыслице,
и губы в кислице,
и то, 'гто следует, у ней торчком.
'А на берегу коромысло лежит,
а по коромыслу повилика бежит,
а по коромыслу гуляют муравьи,
видно, в его трещинах своим-свои.
А на суглинке лодка сохлая,
д а в н о без неводов и верш,
лежит, как будто нельма дохлая,
обглоданная, брюхом вверх.
И, словно чья-нибудь сединка,
а чья – п о д и теперь узнай,
71
одна последняя сетинка
еще цепляется за край...
А сани удалые
в бурьяне под горой,
как будто удавили
их сорною травой.
И колокольчик ржавый,
забывший о езде,
к лишайнику прижало
скелетом С Т З.
Молочка?
Может, птичьего? Эх, мама-мамочка...
Кок понурился,
и боцман потух.
Никакой нас не приветствует петух.
Никаких – с губами в кислице – девчат,
и буренки никакие не мычат.
Мы не просим о несбыточном эпоху —
нам бы вляпаться в коровью лепеху!
Мы не просим неземных раев-садов —
лишь бы пес какой нас тяпнул за сапог!
Ах, как грохает проклятое ведро!
Наступить бы нам на теплое перо,
нам бы с кем поговорить —
хоть с дурачком!
...Мы на кладбище пришли за молочком.
Крест-накрест окна горбылем,
как будто избы крестятся,
прощаясь с тем, что там – в былом,
а в будущем не встретится.
Л и ш ь тучи ходят вверх и вниз,
летают и не тают,
как будто души мертвых изб
над крышами витают...
А за быльем-крапивой дымочек над избой—»
взъерошенный, драчливый комочек голубой,
72
Смоленой дратвы шорох, и шилом да иглой
там одноногий шорник
с тоскою держит бой.
На пришлых взгляд бросает:
«Ну что ж, заходь в избу!»,
а сам хомут спасает,
работает узду.
Покуда есть работа,
тоске людей не сжиты
Работа хочет что-то распавшееся сшить.
По шорницкой привычке пьет, сидя на полу:
«Я здесь был сшит, парнишки,
и здесь я и помру.
Не бойтесь – я не пьяный. Пускай пропал колхоз —
ногою деревянной я в землю эту врос.
Сбежать? В тепле пристроиться к чужому калачу?
Достоинства, достоинства терять я не хочу!»
На лбу – булыги пота.
Хрипит: «Покамест здесь
в деревне есть хоть кто-то,
еше деревня есть!»
Па гимнастерке латаной
медали всех сортов —
за оборону, взятие
различных городов.
Л и ш ь нет одной медали —он заслужил, герой,
медаль за оборону деревни мертвой той.
Ну что ж, пошли, матросики!
Нас обступает мгла.
А там в избе работает, работает игла,
и снова к нам доносится,
гудя по кедрачу:
«Достоинства, достоинства
терять я не хочу!»
73
выручай, работа! Покамест, словно здесь,
в
России есть хоть кто-то,
еще Россия есть!
" Д
е
р о, как оробелое, не грохает во мгле.
и
видим —что-то белое плескается в ведре.
^·°к поясняет глухо
у темных изб-могил:
«Есть у него пегуха.
Сам доит.Нацедил».
ь ° Я с ь хоть каплю выплеснуть нечаянным качком,
К °К улыбнуться пробует: «Мы, значит, с молочком».
1967
МОЙ
ПОЧЕРК
Мой почерк не каллиграфичен.
За красотою не следя,
как будто бы от зуботычин,
кренясь, шатаются слова.
Но ты, потомок, мой текстолог,
идя за предком по пятам,
учти условия тех штормов,
в какие предок попадал.
Он шел на карбасе драчливом,
кичливом несколько, но ты
увидь за почерком качливым
не только автора черты.
Ведь предок твой писал при качке,
не слишком шквалами согрет,
привычно, будто бы при пачке
его обычных сигарет.
71
Конечно, вдаль мы перли бодро,
но трудно выписать строку 4
когда тебе о переборку
с размаху бухает башку.
Когда моторы заверть душит
и целит в лоб накат волны,
то кляксы лучше завитушек.
Они черны – зато верны.
Пойми всей шкурой и костями,
как это сложно – воспевать,
когда от виденного тянет
не воспевать, а лишь блевать.
Тут – пальцы попросту немели-
Тут – зыбь замучила хитро.
Тут от какой-то подлой мели
неверно дернулось перо.
Но если мысль сквозь всю корявость,
сквозь неуклюжести тиски
пробилась, как по Лене карбас
пробился все же до Тикси,—
потомок, стиль ругать помедли,
жестоко предка не суди,
и д а ж е в почерке поэта
разгадку времени найди.
1967
Дорога в дождь – она не сладость.
Дорога в д о ж д ь – о н а беда.
И надо же, к а к а я слякоть,
к а к а я долгая вода!
Все затемненно: поле, струи,
и мост, и силуэт креста,
и мокрое мерцанье сбруи,
и всплески белые хвоста.
75
Еще недавно в чьем-то доме,
куда под праздник занесло,
я мандариновые дольки
глотал непризнанно и зло.
Все оставляло злым, голодным:
хозяйка пышная в песце,
и споры о романе модном,
и о проехавшем певце.
А нынче поле с мокрой рожью,
дорога, дед в дождевике,
и т я ж е л ы сырые вожжи
в его медлительной руке.
Ему б в тепло, и дела мало.
Ему бы водки да пивца!
Не знает этого романа,
не слышал этого певца.
Промокла кляча, одурела...
Тоскливо хлюпают следы.
Зевает возчик... Надоело
дождь вытряхать из бороды...
1960
Россия, ты меня учила,
чтобы не знал потом стыда,
дрова колоть, щепать лучину
и ставить правильно стога,
ценить любой сухарь щербатый,
коней впрягать и распрягать
и клубни надвое
лопатой,
с а ж а я в землю, разрубать..,
Россия, ты меня учила —·
и в юных и в иных летах
упрямым быть, искать причины
того, что плохо, что не так,
76
и свято поклоняться праху,
и свято верить в молодежь,
и защищать по-русски правду,
и бить по-русски в морду ложь...
Но ты меня еще учила
всем скромным подвигом своим,
что званье «русский» мне вручила
не для того, чтоб хвастал им.
А чтобы был мне друг-товарищ,
будь то поляк или узбек,
будь то еврей или аварец,
коль он хороший человек.
Б л а г о д а р ю тебя, Россия,
за то, что строю и пашу,
за буквы первые косые,
за книги те, что напишу,*'
Наградой сладостной и грустной—
я верю – будет мне навек,
что жил и умер я, как русский,
рабочий русский человек.
1955
КРАСОТА
Роса в привередах не ходит
по части запросов проста.
Роса себе место находит
везде, ибо это роса.
Роса лепестков не канючит -
росе не хватает садов,
и с проволочных колючек
свисает, как будто с цветов.
Горят ее капли сквозные
на клепке и в щелях креста
и, словно роса, по России
рассыпана ты, красота.
77
Олекмою полные ведра
к земле пригибают девчат,
но вольно качаются бедра
и груди крамольно торчат.
Копчушка
в Сангарах киркою
по вечной
стучит мерзлоте,
но челка
льняною рекою
о вечной
журчит красоте.
В толкучке устькутского орса
тебя обзовут: «Паразит!»,
но греческой выточкой торса,
смеясь, продавщица пронзит.
Шикарно взвалив под Слюдянкой
цементный мешок на плечо,
с какой величавой осанкой
чалдоночка кинет: «Ничо!»
А взгляд электродово-синий
вдруг сварщица в Ленске прольет,
и тайная грация линий
спецовку мятежно пробьет.
Ах как недостойны все робы
того, как звеняще тонки,
волною подкожною робко
по спинам бегут позвонки!
Ах сколькое в нас недостойно
того, как победно чиста,
пройдя революции, войны,
поводит плечом красота.
Все то, что у нас не выходит
и сходит на ход холостой,
пробел восполняя, восходит
на русской земле красотой.
И не на грейпфрутовых соках
и прочих изящных харчах —
восходит на кашах жестоких,
на ржавых консервных борщах.
73
Уродствами разного рода
и лаской оков и кнута
не выбита эта порода,
не вытравлена красота.
Покуда, как всеисцеленье,
как нации гордость и честь,
есть женщины в русских селеньях
Россия и будет и есть.
И верю я в чаянья наши,
когда вагонетки ползут,
а зубы Ростовой Наташи
слепяще блеснут сквозь мазут...
1967
Б А Л Л А Д А О ЛЕНСКОМ
ПОДАРКЕ
Подарками я не обижен, пожалуй.
Д а р и л и мне все —аж до каски пожарной.
Но в жизни не только мне глЪдили волосы,
и шли вперемежку —
пинки,гладиолусы,
и чертовы зубы, и медные трубы
и д а ж е (как смутно мне помнится)
губы.
Тот в рот, как подарок,мне проповедь вталкивал
Тот – дал мне патронище противотанковый.
А вождь сенегальский
жену чуть не отдал —
чего не отдашь ради дружбы народов!
Но все это – лишние перечисленья...
Я лучше о том, как мы плыли по Лене,
79
вабыв о просушках, с мошкой на макушках,
на карбасе, названном гордо: «Микешкин».
Вокруг было только величье откосов —
ни признака д а ж е колхозов-совхозов,
и только олени по тундре алмазной
бродили еще неохваченной массой.
И вдруг из-за мыса возникла моторка,
чадя за версту,
как у черта махорка.
Грустя в одиночестве,
видно, глубоком,
моторка п р и ж а л а с ь к «Микешкину» боком.
И на б о р т – в и з и т н о ю карточкой скромной —
к нам рухнул таймень,
как акула, огромный.
Потом появился тайменедаритель—
нельзя себе д а ж е представить иебритей!
Его борода в первозданности дикой
набита была чешуей и брусникой.
К тому же внутри бородищи, конечно,
дробинка болталась на рыжем колечке.
Прошелся но карбасу гость и сначала
без слова нас всех изучал одичало.
И выпрямясь твердо,
почти что военно,
представился хрипло:
«Топограф... Валера...»
А малость обвыкнув, неловко помешкав,
спросил он:
. «Кто был этот самый Микешкин?»
И мы рассказали, что был это лоцман,
который считал разособенным лоском
вести карбаса по дороге старинной,
для шика глаза з а в я з а в мешковиной.
Купцы, как ельцы,
суетясь, увивались:
«Уважь, Петр Иваныч...Уж мы, Петр Иваныч...»
А он презирал их пузатое племя,
и бросил однажды три сотенных в Лену,
и крикнул купцу;
«Ежли прыгнешь и выловишь
60
но только з у б а м и – «*
твои они, Нилович!»
И плюхнулся в воду купчина, как студень,
и в нижнем белье всенародно был стыден.
Мильонщик,за эту позорную цену
он чавкал, глотая холодную Лену,
а нищий Микешкиннад жадиной в нижнем
смеялся, как будто мильонщик нал нищим.
И где-то в избеночке краснофонарной
штаны пропивал он, судьбе благодарный,
что жизнь свою шалую пьяницей прожил,
но Лену не пропил,
но совесть не продал.
'Жандармы ему обещали полтыщи,
но он отвечал:
«Не вожу политицких...*
«Да кто ты такой?» —
угрожали кутузкой,
'А он отвечал:
«Да я вроде бы русский...»
^Топограф Валера рассказом увлекся.
Понравился явно Валере тот лоцман.
Понравилось то, к а к он пил артистически.
Понравилось, что не возил «политицких».
И карту достав,
как решенное, просто у
Валера сказал нам:
«Дарю я вам остров».
И четко нанес без запинки малейшей
название острова:
«Карбас «Микешкин».
Молчали мы все и смущенно курили —
ведь нам островов ;
никогда не дарили,
3 Евг. Евтушенко
"8[
А ты, Петр Иваныч Микешкин,
подавно
такого вовек не предвидел подарка!
Хотел я Валеру спросить поподробней —
о ч е м? —ну хотя бы откуда он родом.
Но вспомнив рассказ и веселый и грустный,
он лишь усмехнулся: «Да вроде я русский...»
И вот от борта отпихнулась моторка,
чадя за версту,
как у черта махорка,
и где-то за мысом в туманах промозглы*
исчез человек, подаривший нам остров...
1967
АРИЯ ИНДИЙСКОГО ГОСТЯ
Называют Индией в Сибири
индивидуальные постройки.
Если колья вбили,
стены сбили —
супротив пурги хибары стойки.
Словно в валенке
сибирский помидор,
в людях – инливидуалинки з а д о р.
Прокален морозом в стенах каждый гвоздь.
Спой нам арию свою, индийский гость!
«Я из Индии, где минус пятьдесят,
где рубахи, словно айсберги, висят
у построенных из ящиков халуп...
Эту Индию ты, что ль, искал, Колумб?
А увидев,
испугался, з а д р о ж а л
82
и в Америку с испугу убежал.
Ну а мы с моим алмазником-дружком
вслед Колумбу-летуну тугим снежком.
Ты куда, пижон ботфористый,исчез?
Ведь а л м а з о в здесь, действительно, не счесть.
Мы немножечко чумазы,
но и сами мы алмазы,
лишь в оправу не по нраву что-то лезть.
Был вначале город Мирный
недостаточно квартирный,
а народ пошел настырный —
строил сам из горбылей
да из смерзшихся соплей.
Н а с начальники ругали,
но не ждали мы зимы.
Крышу длинными рублями,
словно толем,
крыли мы.
Под прикрытьем темной ночки
нас попробуй-ка Слови!—
волочили мы досочки,
как индийские слоны.
И под треск углей горящих,
под «буржуечный» мотив
з а ж и л и,
как магараджи,
дым тюрбаном накрутив.
Не беда, что д а ж е летом
холод вечной мерзлоты
жег в скворешнях-туалетах
наши голые зады.
В этой Индии мы жили
ну не то чтобы в раю,
но зато в нее вложили
душу русскую свою.
И, мозгами подраскинув,
здесь,
на дьявольской земле,
ты построила, Россия,
д а ж е Индию себе!
83
.Мне немножко грустновато
у обрыва на краю
Там, где скоро экскаватор
сроет Индию мою.
Я поеду в отпуск, в Гагры,
закачелюсь в синь-дыму.
Метрдотеля я за жабры
уважительно возьму.
Я скажу:
«Пс мне пугаться
роковой таблички: «Для
иностранных делегаций».
Д а л е к а моя земля.
Ты чего глаза таращишь?
Ставь коньяк и шоколад.
Я из Индии, товарищ.
Тоже вроде делегат».
Я скажу, что не ревную
к этим южным городам,
и в салфетке четвертную
музыкантам передам.
Под грузинские закуски,
прошампа пенный насквозь,
свою арию по-русски
я спою,
индийский ГОСТЬ.
И шарахнувшая люто
в зелень пальмовых ветвей
подпоет якутка-выога
мнеиз Индии моей...
1974
СОЛЕНЫП
ГАМАК
Е. Рейну
Как времени хитрый песок,
шуршит табачишко в кисете...
Ветшает вельбот из досок,
ветшают и люди и сети.
84
И слушают гомон детей,
по-старчески этому ралы,
ограды из ветхих сетей,
прозрачные эти ограды.
Они отловили свое,
но ловят еще по привычке
то дождичек, то лоскутье,
то выброшенные спички.
То
в них попадает звезда,
то лепет любви изначальный,
то чей-нибудь мат иногда,
то чей-нибудь вздох нсвзначайный.
Все ловят – и ветра порыв,
и песенку чью-то, и фразу —
и, пуговицу зацепив,
ее отдают, но не сразу.
И делает старый рыбак
(из крепеньких, смерть отложивших)
себе на утеху г а м а к
из старых сетей отслуживших.
И, пряча внутри свою боль,
обрывками сирыми узнан,
зубами он чувствует соль
на серых узлах заскорузлых.
Качайся, соленый гамак,
в размеренном шуме еловом.
Любой отловивший рыбак
становится тоже уловом.
Мы в старости, как
в полосе,
где мы за былое в
ответе,
где мы попадаемся
все
в свои же забытые
сети.
Ты был из горланов, гуляк.
Теперь не до драчки. Болячки.
Качайся, соленый гамак,
создай хоть подобие качки!
Но море не бьет о борта,
и небо предательски ясно.
88
Н а р о ш н а я качка не та —
уж слишком она безопасна.
И хочется шквалов и бурь —
на черта вся эта уютность!
Вернуть бы всю юную дурь!
Отдать бы всю лишнюю мудрость!
Но то, что несчастлив ты, – ложь.
Кто качек не знал – неудачник,
И как на тебя не похож
какой-нибудь дачник-! амачник.
Ты знал всех штормов тумаки,
ты шел, не сдаваясь циклонам.
Пусть пресные все гамаки
завидуют этим – соленым.
Есть в качках особенный смяк —
пусть д а ж е приносят несчастья.
Качайся, соленый гамак,
качайся, качайся, качайся...
1971
РОДИНЕ
Как было просто все, что ты,
в зеленом детстве давнем;
тайга,
с избушками плоты,
костры на склоне дальнем,
над полом легкий пар в избе,
в коре и щепках речка.
Любил тебя,
но о тебе
я думал очень редко.
Я доверял своей любви,
не углубляясь в это,
и различать умел твои
лишь внешние приметы.
86
Была ты —
сказка о Садко,
и о цветочке аленьком,
и дом, осевший глубоко,
с травою по завалинкам,
и после схлынувшей грозы
дорога зоревая,
где сеном грузные возы
за ветви задевают.
По и другою ты была.
Ловила ты до слова
у рупоров, что от Орла
отходят наши снова.
Была ты —
дымный
небосклон,
«Становись!»
команда,
и все в слезах солдатских жен
крылыю военкомата...
Ни в чем, мужая и скорбя,
тебе я не был чуждым
но, школьник,
взрослую тебя
умел понять лишь чувством.
Я, полюбив твои черты,
не мог осмыслить все же,
что и лицо, конечно, ты,
но и характер тоже.
И полюбил еще сильней
тебя
за чувств огромность,
за правду твердости твоей,
за подлинность и скромность,
за всю натуру с добротой
и речью откровенной
и с незлопамятностью той,
что силы признак верный.
Раскрывшись в чьей-нибудь
судьбе
,ты становилась ближе.
87
Когда пишу я о тебе,
невольно многих вижу.
Я вижу тех, с кем рядом креп,
с кем вместе горе мыкал,
ел прилипавший к пальцам хлеб
и грыз обломки ж м ы х а.
Вагоны вижу, что на фронт
шли, черные от гари,
солдат, что в майках на перрон
напиться выбегали,
тех женщин, что месили грязь
в очередях предлинных
и, бабьей слабости стыдясь,
украдкой шли на рынок,
где перед гомоном людским
у старого точила
морская свинка судьбы им
в пакетиках т а щ и л а.
Я вижу взмахи колуна,
с каким братишке тяжко,
и предколхоза Бокуна
на грубых деревяшках,
и дни без отдыхов и снов
шоферши тети Клаши,
и восьмилетних пацанов,
стога ночами клавших.
Моя семья,
моя родня –
вся жизнь моя им отдана.
Они навеки д л я меня
и есть все вместе – Родина.
1952
88
Заснул поселок Д ж е л а м б е т,
в степи темнеющей затерянный,
и раздается лай затейливый,
не ясно, на какой предмет.
А мне исполнилось четырнадцать.
Передо мной стоит чернильница,
и я строчу, строчу приподнято...
Перо, которым я пишу,
суровой ниткою примотано
к граненому карандашу.
Огни далекие дрожат...
Под закопченными овчинами
в обнимку с дюжими дивчинами
чернорабочие л е ж а т.
Застыли тени рябоватые,
и, прислоненные к стене,
лопаты, чуть голубоватые,
устало дремлют в тишине.
О лампу бабочка колотится.
В окно глядит ж у р а в л ь колодезный,
и петухов я слышу пение
и выбегаю на крыльцо,
и, прыгая,
собака пегая
мне носом тычется в лицо.
И голоса, и ночи таянье
и звоны ведер, и з а р я,
и вера сладкая и тайная,
что это все со мной не з р я.
1957
КОЛ УМ Б И ХА
Вдоль верфи возле Киренска
идут, задумав скинуться,
и плотники, и сварщики – их что-то ж а ж д а жжет,
89
в на огромной лужище, поварчивая любяще,
на лодочке голубенькой
их лодочника ждет.
У океана местного,
прокисшего, но пресного,
возможно, что известного
еще и при каре,
привыкли к этой лодочке,
где женщина в середочке,
хоть не годна в молодочки,
а все-таки в пене.
Она т а к а я пышная,она т а к а я слышная,
и вовсе не одышная – искрят ее глаза.
Груза у ней мужчинные,
немножко матерщинные,
но вовсе не машинные,
а свойские груза.
Зовут ее Колумбихой...
На лодочке голубенькой
всегдашним объявлением рабочих веселя,
лишь только станет меленько,—
как будто здесь Америка,
веслом достав до берега,
она басит: «Земля!»
Л и ш ь метров тридкать – плаванье, но все ведется планово.
Уключинь . приученыпоскрипывать" легко,
н сколько тысяч верст она
уже вспахала веслами,
что вправду до Америки
не так уж д а л е к о.
Л и ш ь руки разжимаются,
по веслам снова маются.
А счастлива Колумбиха?
Попробуй расспроси.
Р а с с к а ж е т все без робости,
лишь опустив подробности,
90
как ей живется весело,
вольготно на Руси.
«Пропойцу мужа выгнала,
но в Лену я не прыгнула
В науках дочь достигпула,
но город наш – ей плох.
Была я раньше нервная —
теперь я, как ф а н е р н а я:
отскакивает скверное,
как будто бы горох.
Здесь лодочка приличная,
подружка з а к а д ы ч н а я.
Своя, не заграничная —
сибирская вода.
Спокойно быть мне служащей
на этой нашей лужище:
отсюдо в а -доту до в а, оттудова-сюда...»
Все знают и о панике
на гибнущем «Титанике»,
о плаваньи Чичестера,
о паруснике «Ра»,
а мы про эту лодочку
припомним-ка под водочку,
и выпьем за погодочку – за солнышко с утра.
С рабочими Колумбиха
пьет вместе, обколупывая
столовское, крутейшее,
помятое яйцо.
Здесь шуточка отмочится—
ей весело хохочется,
а мне з а п л а к а т ь хочется, и прячу я лицо.
Что нами отмечается?
Что в жизни не скучается!
И вот поет Колумбиха,
как прежде молода,
а если кто отчается,
пусть с нею покачается
отсюдова-дотудова,
оттудова-сюда...
1976
91
ГДЕ-ТО НАД ВИТИМОМ
Э.
Зоммсру
Где-то над Витимом,
тонко золотимым
месяцем, качаемым собой,
шли мы рядом с другом
то тайгой, то лугом
и застыли вдруг перед избой.
Та изба лучилась,
будто бы случилась
не из бревен – просто из лучей
Со смолой на коже,
без людей и кошек,
та изба была еще ничьей.
Мы вошли в бездверье,
полное доверья.
Ветер сквозь избу свободно бил.
Пол был гол, как сокол.
В окна вместо стекол
Млечный Путь кусками вставлен был.
В кудрях свежей стружки
две подружки-кружки
спали обнимаясь на иолу.
Плотницкий инструмент,
сдержан и разумен,
пришлецов разглядывал в углу.
Не было иконы,
но свои законы
создавала кровля, не текла.
Пел сверчок в соломе,
И Россия в ,доме
д а ж е без хозяев, но была.
Посланные свыше,
будущие мыши
слышались, а может, камыши.
92
Р а с к а ч а в ^печали,
медленно стучали
будушие ходики в тиши.
Было так затишно.
Было д а ж е слышно,
как растут украдкою грибы.
В засыпанье что-то
было от полета
в одиноком космосе избы.
Мы, не сняв тельняшек,
на манер двойняшек ,
на полу л е ж а л и, з а д ы м я.
Л о в к о получалось, что изба венчалась,
но уже брюхатая двумя.
А на утро в мире
стало нас четыре,
потому что плотники пришли.
С братством вольным, кратким
выпили мы, крякнув,
молока во здравие земли.
Снова над Витимом,
солнцем золотимым,
захмелев слегка от молока,
шли мы сквозь саранки.
Плотников рубанки
провожали нас издалека.
Молоды мы были
Молоко любили.
Так и трепетала на свету
тоненькая стружка —
русая сеструшка —
на моем открытом вороту...
1974
93
МНОГООБЕЩАЮЩАЯ
КОСА
В пене, как в гарусе,
но не при парусе,
вниз по Витиму скользя,
мчимся на карбасе,
смотрим на карту все:
«Многообещающая коса».
После промывочки
около ивочки,
около лапотка
желтая рожища —
царь-самородише
вывалился из лотка.
Охнули, ахнули
бывшие пахари,
водки себе поднеся.
Спьяну старатели
так нацарапали:
«Многообещающая коса».
После – в холстиночке
ни золотииочки,
и раздались голоса:
«Многообеща юша я,
но малр д а в а ю щ а я
коса».
Вот она – галечная,
чем-то пугающая,
в странной кровавой росе
Хрен или редечка —
что еще встретиться
может на этой косе!
Чтоб не печалиться,
лучше не чалиться
около этой косы.
Где обещаловка,
там обнищалОвка —
носят зарубку носы.
1969
91
КРИВОЙ МОТОР
Г.
Балакшину
Дурака валяя,
не горюя,
мы плывем, виляя,
по Вилюю,
и себя по доброй воле мучим —
обормоты на двойном горючем.
Шесть нас,
шатунов сорокалетни*
Лодок две, но ни салаги нет в них.
Начинен тоской по вам,
девчонки,
. пирожок дюралевой лодчонки.
Наши поотбитые печенки
в расстегае надувной лодчонки.
Если кто целует нас в дороге,
это перекаты и пороги.
Камешком нас так поцеловало —
чуть мотор к чертям не оторвало.
Кривы блесны,
стукаясь по глыбам.
Как «воруй-нога», весло с загибом.
Кривы скал морщинистые выи.
, Сигареты скуксились —
кривые.
Но, как шпонки нервы нам срывая,
все-таки вывозит нас кривая
в роковом, но все-таки просторе, .
на кривом, но все-таки моторе.
Если крив мотор,
но прет однако,
тот, кто верит в путь п р я м о й, —
кривляка.
Как дорога может быть прямая,
если даже техника кривая!
Едемна неправильном бензине,
л
95
в лодке на сомнительной резине,
и бензин воняет крематорно,
и в душе у нас кривомоторно.
Плохо будет, если мы балуем
с жизнью и со смертью, как с Вилюем,
...Прямо жить хотел,
да не случилось.
Как-то по-кривому жизнь сложилась.
Не кривил перед тобою,
Сцилла",
ну а ты меня перекосила.
Не кривил перед тобой,
Харибда,
но подводным камнем —
харя бита.
И не то что стал я жить пугливо,
но все чаще усмехаюсь криво,
и любовь моя полуживая,
как в болоте деревце, – кривая.
Где ни плавай,
выхода нам нету,
к а ж д а я река впадает в Лету,
С м е р т ь – Вилюй,где люди – рыбам закусь.
Ж и з н ь моя лодчонкой сикось-накось
мчит не по асфальтовым дорогам,
а по перекатам и порогам.
Те, кто не продрогли,
не промокли,
смотрят в театральные бинокли,
как я на моей дырявой лодке
из своей же шкуры
ставлю л а т к и.
Если разбиваюсь,—
кривотолки,
что я трус
поскольку не в осколки.
Но плевать!
Крути веревку, Гоша!
Наш мотор кривой.
Дорога – тоже.
Но кривые наших жизней вбиты
90
в небо, как грядущего орбиты.
Пропадаем,
к спирту припадаем,
давим комарье,
но прем по далям,
н кривые дьявольские реки,
может быть,
нас выпрямят навеки.
Я порой плыву
кривей кривого,
но зато живу
живей живого.
Что мне созерцателей попреки!
Я из тех,
кто проходил пороги
в роковом,
но все-таки просторе,
на кривом,
но все-таки моторе...
1973
ПРОЩАНИЕ С
КРИВЫМ МОТОРОМ
В.
Щукину
Прощай, кривой мотор!
Невечио все, что криво.
Был моторист хитер,
но жизнь перехитрила.
1
Последний перекат
расслабил моториста.
Мотор не виноват,
и глупо материться.
Упал на дно челом
мотор многострадальный
помятый, как шелом
эпохи феодальной.
шенко
97
И о него, поздна,
1
лет может через триста
запенится блесна
нью-йоркскою туриста.
Нам было вевлогад,
что мы в бахвальстве слепнем.
Последний перекат
был вовсе не последним.
Чуть вбок ушли хребты,
и снова – перекаты.
Старуха-карта, ты
нам спутала все карты.
О, тупоумья плод,
на карте гриф «секретно»,
когда вся карта врет,
а все-таки запретна.
И все мы вшестером
чуть не рыдали вскоре
о нашем о кривом
товарище-моторе...
Прощай, кривой мотор,
себя не обогнавший.
Самодовольство – вор,
Россию обокравший.
Все дно в болтах, гвозлях,
там провода и клещи.
Что было на соплях,
соплями вновь не склеишь.
Ведь знает и дурак,
что если пропадаешь,
тс шапками никак
врагов не закидаешь.
Но что нас всех спасет,
как т;вод законодательств,
от новой блажи – о т
моторозакидательств?
/
98
П а ш поворот в рассвет
еще не предугадан,
но ж и з н ь – р е к а, где нет
последних перекатов.
А мы людей, как сор,
на дно бросаем щедро...
Прощай, кривой мотор,
спаситель наш и жертва.
1973
БАЛЛАДА О СТЕРВЕ
Она была первой,
первой, первой
кралей в архангельских кабаках.
Она была втервой,
стервой, стервой
с лаком серебряным на коготках.
Что она думала,
дура, дура,
кто был действительно ею любим?
...Туфли из Гавра,
бюстгальтер из Дувра
и комбинация с Филиппин.
Когда она павой
павой, павой
с рыжим норвежцем шла в ресторан,
муж ее падал,
падал, падал
на вертолете своем в океан.
Что же молчишь ты?
Танцуй, улыбайся...
Чудится ночью тебе,
как плывет
мраморный айсберг,
айсберг,
айсберг,
99
ну а внутри его – т о т вертолет.
Что ж ты не ищешь
разгула,
разгула,
что же обводишь ты взглядом слепым
туфли из Гавра,
бюстгальтер из Дувра
и комбинацию с Филиппин!
Вот ты от сраму,
от сраму,. от сраму
прячешься в комнатке мертвой своей.
Вот вспоминаешь
про маму,
про маму,
вот вспоминаешь вообще про людей.
Бабою плачешь, плачешь, плачешь,
что-то кому-то бежишь покупать.
Тихая, нянчишь,нянчишь,нянчишь
чьих-то детишек и плачешь опять.
Что же себя укоряешь нещадно!
Может, действительно бог для людей
создал несчастья, несчастья, несчастья,
чтобы мы делались чище,
добрей?!
...Она была первой,
первой,первой
кралей в архангельских кабаках.
Она была стервой,
стервой,
стервой
с лаком серебряным на коготках.
1966
100
В ТЫЛУ
На Лене, Омеге,
кула ни взгляни,
тяжелые снеги,
тяжелые дни.
Шла к девкам, шла к бабам
дурная тоска,
звала за шлагбаум
туда, где Москва.
Сквозь грохот металла
в далекой дали
мужья и матани
с винтовками шли.
:
Мужья и матани
шли на врага,
а бабы метали
сено в стога.
Подушки кусали
от женской тоски
но бревна тесали
совсем по-мужски.
Как страшная сила,
толкало вперед
страдание тыла
грохочущий фронт.
1959
ХОЗЯЙКА ОЗЕРА
Когда на ветхой лодке,
выпив крепко
мы плыли,
то, сложив свои крыла,
хозяйка озера —
,^ пленительная утка -
на расстоянье выстрела плыла,
п, поднимая мир сигналом крика,
|01
она игру опасную вела,
и в этом, хоть и выглядела кротко,
действительно хозяйкою была.
И, проплывая среди синих улиц,
проток озерных,
где кувшинки спят,
она предупреждала взрослых утиц
и глупышей пушистеньких —
утят.
И, крякая сквозь лягушачьи трели,
она плыла, сребряно-сиза,
и из двустволки издали смотрели
невидимые грустные глаза.
Полна добра к пушистому приплоду,
она предупреждала всю природу
о скрытом продвижении врагов.
Благословен, кто создан от рожденья
для упрежденья,
для предупрежденья
в час роковой
родимых берегов.
Мы возвращались в мир людей,
грызущих
порой друг друга не поймешь за что,
где криком об опасностях грозящих
не сможет нас предупредить никто...
1974
ПЛАЧ ПО БРАТУ
В.
Щукину
С кровью из клюва,
тепел и липок,
шеей мотая по краю ведра,
в лодке качается гусь,
. , будто слиток
102
чуть черноватого серебра.
Д в о е летели они вдоль Вилюя,
Первый уложен был влет,
а другой,
низко летя, головою рискуя,
кружит нзд лодкой, кричит над тайгой:
«Сизый мой брат,
появились мы в мире,
громко свою скорлупу проломи,
но по утрам
тебя первым кормили
мать и отец,
а могли бы – меня.
Сизый мой брат,
ты был чуточку синий,
небо похожестью дерзкой дразня.
Я был темней,
и любили гусыни
больше – тебя,
а могли бы – меня.
Сизый мой брат,
возвращаться не труся,
мы улетали с тобой за моря,
но обступали заморские гуси
первым – тебя,
а могли бы – меня.
Сизый мой брат,
мы и бигы и гнуты,
вместе нас ливни хлестали хлестьмя,
только сходила вода почему-то
легче с тебя,
а могла бы – с меня.
Сизый мой браг,
истрепали мы перья^
Люди съедят нас двоих у 01 ни,
не потому ль, что стремленье быгь первым
ело тебя, пожирало меня?
Сизый мой брат,
мы клевались полжизни
братства, и крыльев, и душ не ценя.
ЮЗ
Р а з в е нельзя было нам положиться:
мне– на тебя,
а тебе – на меня?
Сизый мой брат,
я прошу хоть дробины,
зависть мою запоздало кляня,
но в наказанье мне люди убили
первым – тебя, а могли бы —
меня...»
1974
О т ц о в с к и й слух
·
М. и Ю. Колокольцевым
Портянки над костром уже подсохли,
и слушали Вилюй два рыбака,
а первому, пожалуй, за полсотни,
ну а второй —
беспаспортный пока.
Отец в ладонь стряхал с щетины крошки,
их запивал ухой,
как мед густой.
О почерневший алюминий ложки
зуб стукался —
случайно золотой.
Отец был от усталости свпнцов.
На лбу его пластами отложились
война,
работа, вечная служивость
и страх за сына —
тайный крест отцов.








