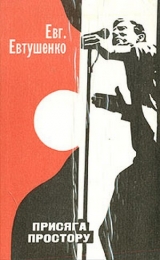
Текст книги "Присяга простору "
Автор книги: Евгений Евтушенко
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
я б о ю с ь о т р ы в а т ь с я от м а с с.
Ни г р а н и т а, и ни Л а б р а д о р а,
ни в о з в ы ш е н н ы х с л е з, ни р е ч е й,
а п о б о л ь ш е бы милого вздора
332
I
н а д веселой могилой моей.
Нецитированья у д о с т о й т е.
П о з а б у д ь т е как автора книг.
П о м я н и т е как д р у г а! У с т р о й т е
к а н н и б а л ь с к и– д е т с а д о в с к и й крик.
О б о мне привирайте и врите,
но чтоб все-таки это в р а н ь е
про М а л а х о в к у или Таити
п о х о д и л о чуть-чуть на м о е.
Ведь в бахвальской судьбе своенравной
м е ж д у стольких зубов и зубил ·
к о е– ч т о б ы л о истинной п р а в д о й —
это т о, что я истинно б ы л.
Небылицы окажутся былью
и л е г е н д а м и боль о б о в ь ю т,
но и сплетни меня не у б и л и,
и легенды меня не у б ь ю т.
Я о с т а н у с ь не т о л ь к о с т и х а м и.
Золотая загадка моя
в т о м, что з е м л ю л ю б и л п о т р о х а м и,
и з е м л я п о л ю б и л а м е н я.
И з е м л я меня т а к з а х о т е л а,
ч т о б ы л ю д и понять не с м о г л и,
где мое о т г у л я в ш е е т е л о,
где г у л я щ е е тело з е м л и.
И мне с л а д к о до знобкости острой
п о н и м а т ь, что в конце-то концов
проступлю я в ненастную оскользь
м е ж д у п а л ь ц е в босых о г о л ь ц о в.
М н е с о в с е м у м е р е т ь – не под с и л у.
Н е к р о л о г и и т р а у р – б р е х н я.
П р и х о д и т е ко мне на м о г и л у,
на м о г и л у, где нету м е н я.
Н е т,
мы не цвет Р о с с и и —·
л и ш ь п р е д ц в е т ь е,
и я —
п р е д ц в е т ь я Р о д и н ы поэт,
а цвет ее г р я д у щ и й —
н а ш и д е т и,
и н а ш и внуки —
главный ее цвет.
... С т р о и т е л ь н а д е в а е т а к в а л а н г.
333
С к в о з ь маску у л ы б а я с ь верхним
в о л н а м,
плывет он в море Б р а т с к о м р у к о т в о р н о м
в воде с р а с с в е т о м а л ы м п о п о л а м.
П л ы в е т с т р о и т е л ь... П е с т р ы х рыб игра
его не тянет к р а с о т о й к а р т и н н о й,
а тянет р ж а в ы й о б у х т о п о р а,
ремень р ю к з а ч н ы й, весь о б р о с ш и й т и н о й,
И, м о ж е т быть, н а с а м о й г л у б и н е
наткнется он в з ы б у ч е м б е с п о р я д к е
к у с т а р н и к а, ш у м я щ е г о н а д н е,
н а т а к з н а к о м ы й к о л ы ш е к п а л а т к и.
И в с п о м н и т – з д е с ь к о г д а– т о н о ч е в а л
и с т р о и л, т о п о р о м с т а й г о ю с п о р я,
н о б р ы з г и, б р ы з г и б у д у щ е г о м о р я,
к а к с л е з ы, цепенели н а щ е к а х...
Братск – Москва
1970—1971
ПРОСЕКА
Поэма
ПРОЛОГ
Я не то чтобы п р о с т о х у д о ж н и к —
я с о в с е м не из п р и з н а н н ы х р о з.
Я с и б и р с к и х д о р о г п о д о р о ж н и к,
р а с п р я м л я в ш и й с я п о с л е к о л е с.
И телеги по м н е к о л е с и л и,
и м а ш и н ы, и т а н к и п о л з л и.
Я, х р у с т я, п р о р а с т а л из Р о с с и и —»
и з г о р ч а й ш е– с л а д ч а й ш е й з е м л и.
В р о д е буйного чертополоха
я от пыли с е б я не с п а с а л .
Т в о ю кровь,– твои с л е з ы, э п о х а,
Я в д в у ж и л ь н ы е с т е б л и в с о с а л.
334
ПРОСЕКА
Поэма
4
ПРОЛОГ
Я не то чтобы просто художник —
я совсем не из признанных роз.
Я сибирских дорог подорожник,
распрямлявшийся после колес.
И телеги по мне колесили,
и машины, и танки ползли.
Я, хрустя, прорастал из России —
из горчайше-сладчайшей земли.
Вроде буйного чертополоха
я от пыли себя не спасал.
Твою кровь, твои слезы, эпоха,
Я в двужильные стебли всосал.
334
Я асфальт рассекал и не каюсь,
что своей прямоте вопреки
изворачивался, натыкаясь
на асфальтовые катки.
Как за веру, кривыми ростками
я держался за землю свою.
Пробивал я лежачие камни,
и еще попадутся – пробью.
Мои стебли – они жестковаты,
и к букетам они не идут.
Подорожник кладут не в салаты —
подорожник на раны кладут.
1
Я – на пароме,
как на пороге
другого берега реки,
и тихо, пленно
глядят на Лену
с парома грязные грузовики.
Шофер читает,
что там в Китае.
Щебечут бамовки в семнадцать лет —
то о лебедках,
то о колготках,
которых д а ж е на БАМе нет.
И экскаватор,
н е в и н о в а т ы й,
что, кем-то брошенный, по грудь з а в я з,
в реке ржавеет
и так жалеет
японцев, делавших его для нас.
Лесоповальщик,
присев на ящик,
с усмешкой цедит из-под усищ:
«Народ – с размахом!
Всех побивахом!
Что стоит в реку швырнуть сто тыщ!
Сто – в инвалюте!
335
Какие люди
в стране, в Советской, товарищ, есть!
Машина канет
лежачим камнем...
К а к эти камни в стране учесть?!»
Грозя растяпам,
он мокрым трапом
идет, нагнулся – его рука
у сапожища
чего-то ищет:
достал трепещущего малька.
«Ишь, заполошный,
юнец оплошный...»
И бросил в Лену:
«Живи! Плыви!»
И спрыгнул с трапа,
увидев трактор:
«А ну-ка, парень, останови!»
В кабине парень
глазищи пялит:
«Ты что, начальник?»—
«Всех тракторов!
Пока не поздно,
спасем японца.
Зацепим тросом – и будь здоров!»
Кляня погоду,
он лезет в воду,
у ж е три трактора мобилизнув,
и, полуголый, орет, веселый,
в трусах, в ушанке, зол, белозуб.
Троса – на месте.
Он – в рыжем тесте.
К а к будто ястребы, матюги
над ним летают, и дождь глотают
его оставленные сапоги.
И экскаватор чуть косовато,
но проволакивается сквозь грязь.
Грязищей сытый,
кричит спаситель:
«А ну, утопленничек, вылазь!»
Лесоповальщик, слегка бахвальщик,
так победительно глядит на всех
336
и ошаленно ныряет в Лену:
«Теперь и выкупаться не грех!»
Н а д пенной Леной, над всей Вселенной
он улыбается чертям назло,
и трактористы
смеются: «Ишь ты!
С таким начальником нам повезло!»
В такой породе, в таком народе
и я начальника себе нашел.
В нем нету спеси.
Он любит песни —
он весь из песен произошел.
Они раздольны.
Они разбойны,
как свист во муромском во лесу,
и мой начальник,
шутник-печальник,
порой роняет в стакан слезу.
Полслова скажет,
но как прикажет,
прикажет звездами, землей, листвод!.
Народ-начальник, —
ты не молчальник.
Я – твое горло, а голос – твой.
Н а р о д обманешь —
себя обмажешь
неотдираемым навек дерьмом.
За правду-матку,
а не за взятку
народ помянет тебя добром.
Он щедр на ласку,
на стол, на пляску,
на смех, на сказку, на ремесло.
Народ-начальник,—
он из отчаянных.
С таким начальником мне повезло.
2
Его фамилия – Кондрашин,
как это я узнал потом.
В тринадцать, что-то там укравший,
он отдан был отцом в детдом.
337
Евтушенко
Потом был флот.
Была подлодка.
Шофер. Авария. Спасли.
И привыкал он долго, кротко
к самой поверхности земли.
Когда на койке-невеличке,
как запеленатый, л е ж а л,
из коробков рассыпав спички,
дороги он сооружал.
Воспоминаньями терзаясь,
по рельсам ездила рука.
Он убегал из детства зайцем
на поезде из коробка.
И убежал...
Затем в итоге,
болезнь осилив, словно вол,
он от игрушечной дороги
на настоящую пошел.
Он странной, дикой силой влекся
туда, где дикая земля.
Читал и занимался боксом,
Дор"огу строил и себя.
Как говорят в газетах: вырос.
В грязи и радости труда
ему Россия так явилась,
как не являлась никогда.
В размахе Братска и Тайшета,
в мерцанье снега и росы
ему открылось, как душевна
бывает дружба на Руси.
Мхом не оброс в тайге. Не запил.
Учился. Книжки собирал.
И не влекло его «на запад» —
«на запад», то есть за Урал.
Он вел дневник, грыз авторучки
под рев машин, под шум ветвей
и размышлял не о получке —
о прошлом Родины своей.
Все, что забыто, ни забвенья,
ни полузнанья не простит.
Веков разорванные звенья
соединял его инстинкт.
Он был глотатель книжек честный —
338
не про шпионов и воров.
В нем свои рельсы клал Ключевский
с таежным отсветом костров.
Порой, смертельно уставая,
он полубредил у костра,
как будто сам вбивает сваи
в туманном городе Петра.
Умел он в рельсах Братска видеть
красногвардейские штыки,
и в Ангаре помог он выплыть
Ч а п а ю из Урал-реки.
Пройдя трясину опасенья,
что правда выродится в ложь,
он в социальных потрясеньях
увидел праведную мощь.
И потому так полноправно
его толкал на мятежи
подмен движенья, то есть правды,
сырыми пролежнями лжи.
Он – в бой с лежачими камнями.
Он их долбил, как долото,
не отвергал пустое з н а м я:
«Движенье – все, а цель – ничто».
И в нем рождалось чувство цели.
Оно вело его вперед,
почти железное, как цепи,
что на колесах в гололед.
Любовь? В любви он счастлив не был..
Все годы лучшие свои
Он знал, кто друг,
он знал, кто недруг
и было все не до любви.
Но, возвратясь из-за границы
к родным вареньям и грибам,
звезда прельстительной столицы
своим лучом задела БАМ.
Благословляя первый поезд,
рабочим пела та звезда
и по-английски, и по-польски,
и по-испански иногда.
Она, признаться, пела скверно,
а он забылся под мотив,
от одиночества, наверно,
ж а р неизвестный ощутив,
339
И йа банкете он влюбленно
смотрел до той поры,
когда
«А как у вас насчет дубленок?» —
по-русски в ы ж а л а звезда. ·
И подарило ей начальство
без всяких там презренных «р»
дубленку, что предназначалась
по очереди медсестре...
...Кондрашин чай хлебал Внакладку,
не веря славе завозной,
когда я в драную палатку
ввалился с книжкой записной
«Вопросы? А не про Египет?
Про БАМ?
Везет же мне, везет...
Отвечу... Только надо выпить
на пару – чайничков пятьсот...»
Шагнул я было из палатки,
пожал плечами, уходя,
но вдруг боксерские перчатки
в скулу ударили с гвоздя.
Ну и народ – ну и начальник!
Я сел за стол: «Откроем счет
чаям...
А что ж неполный чайник?
Начнем... Дойдем до пятисот!»
Его фамилия – Кондрашин.
Он смотрит в душу мне в упор.
Он знает, правильно, что зряшен
односторонний разговор.
В нем древний клич:
«Сарынь на кичку!»
и стон есенинских берез.
«Историк» – дали ему кличку
и в пол у шутку и всерьез.
Всерьез он клички этой стоит.
В нем – глубина земных корней.
Тот, кто история, – историк,
а не кормящийся при ней.
Он спорит яростно, красиво,
ладонью воздух раскроя...
Его фамилия – Россия,
310
т а к а я точно, как моя.
В какой бы ни был я трясине,
я верой тайною храним;
моя фамилия – Россия,
а Евтушенко – псевдоним.
Вся моя сила т– только в этом.
Она – земля, не пьедестал.
Народ становится поэтом,
когда поэт народом стал.
3
Когда я говорю: «Россия»,
то не позволит мне душа
задеть хоть чем-нибудь грузина,
еврея или л а т ы ш а.
Я видел Грузию на БАМе!
Там, как в тбилисской серной бане,
от пота ярого мокры,
грузины строили посёлок
без причитании невеселых
в кусачих тучах мошкары.
Ш а г а я д а ж е по трясинам,
грузин останется грузином!
Как и всегда, был на большой
гостеприимный дух грузинства,
а из семян всходила киндза
в обнимку с нашей черемшой.
О, витязи в медвежьих шкурах,
изящные, на перекурах!
Когда их с треском грозовым
пожары пламенем прижали —
бежали робкие пожары
от наших доблестных грузин.
Я был сознательным ребенком.
«СССР» – я октябренком
нес на детсадовском ф л а ж к е.
Я рос в содружестве великом,
но я пишу не на безликом —
пишу на русском языке.
Мне псевдорусского зазнайства
дороже сдержанность нанайца,
но я горжусь, России сын,
341
с наследным правом невозбранным
Кремлем, как Матенадараном
гордится каждый армянин.
Встают за мной Донской Димитрии,
и Аввакум в опальной митре,
и Ферапонтов монастырь.
За мной – Кижн, скитов избушки.
за м н о ю – П е т р Великий, Пушкин,
за мной – Ермак, за мной – Сибирь,
Мы будем, словно Петр в Гааге,
у ч и т ь с я – т о л ь к о не отваге,
не щедрости, не широте,
и мы в духовные холопы
Америки или Европы
не попадем по простоте.
И русский русским остается,
когда в нем дух землепроходства.
Д а й твою шапку, Мономах,—
у нас в ушанках недостача!
Мы сбросим груз камней лежачих,
обломовщину обломав!
Благословляю все народы,
все языки, все земли, воды,
все бессловесное зверье.
Все в мире страны мне родные,
но прежде всех моя Россия —
ты, человечество мое!
4
Мое человечество
входит бочком в магазин,
сначала идет
к вяловатой поросшей картошке,
потом выбирает
большой-пребольшой апельсин
но так, чтобы кожа
была бы как можно потоньше.
Мое человечество
крутит баранку такси
с возвышенным видом
всезнающего снисхожденья,
и, булькнув свистулькой,
как долго его ни проси,
342
само у себя
отнимает права на вожденье.
Мое человечество —
это прохожий любой.
Мое человечество строит, слесарит,
рыбачит,
и в темном углу
с оттопыренной нижней губой
мое человечество,
кем-то обижено, плачет.
И я человек,и ты человек, и он человек,
а мы обижаем друг друга,
· как самонаказываемся,
стараемся взять
друг над другом отчаянно верх,
но если берем,
то внизу незаметно оказываемся.
Мое человечество,
что мы так часто грубим?
Нам нет извиненья, когда мы грубим,
лишь отругиваясь,
ведь грубость потом,
как болезнь, переходит к другим,
и снова от них возвращается к нам
наша грубость.
Грубит продавщица и официантка грубит.
Кассирша на жалобной книге
седалищем расположилась,
но эта их грубость —
лишь голос их тайных обид
на грубость чужую,
которая в них отложилась.
Мое человечество,
будем друг к другу нежней.
Давайте-ка вдруг удивимся
по-детски в тол чище,
как сыплется солнце
с поющих о жизни ножей,
когда на педаль
нажимает, как Рихтер, точильщик.
Мое человечество, ·
нет не виновных ни в чем.
343
Мы все виноваты,
когда мы резки, торопливы,
и если в толпе
мы кого-то толкаем плечом,
то все человечество
можем столкнуть, как с обрыва.
Мое человечество – это любое окно.
Мое человечество —
это собака любая,
и пусть я живу,
сколько будет мне
жизнью дано,
но пусть я живу,
за него каждый день погибая.
Мое человечество
спит у "меня на руке.
Его голова у меня на груди улегается,
и я, прижимаясь
к его беззащитной щеке,
щекой ощущаю —
оно в темноте улыбается,,,
5
В тайге над Кунермой —
лежачие р ж а в ы е камни,
На камни срываются
пота рабочего капли,
и вмиг исчезают они,
зашипев кипятком,
угрюмо засасываемые мхом.
В глазах рябит от грохота, просверка,
Груздями раздавленными
землю вымостив,
в стонах деревьев
рождается просека —
пространство,
вырванное у непроходимости.
Не обижайтесь, березки и сосенки,
и не оплакивайте г^бя,
Преодоленье пространства
собственного
– это России судьба.
344
Есть ярое что-то
от русской старинной артели
л ребятах, которые бамовским потом
насквозь пропотели.
На них – ни лаптей,
ни посконных рубах,
ни креста на гайтане,
Но д а ж е бульдозер японский
рокочет «Дубинушку» втайне.
Во что же вы верите,
если не верите в бога?
Работа любаябез веры во что-то убога.
Опасней безверья – подложная л о ж н а я вера.
Но в чем заключается
л ж и или истины мера?
Мне бывший солдат
отвечает с наигранным видом
пужливым:
«Я с детства застенчив,
а вы – слишком быстрый —
все сразу скажи вам...»
Насмешливо щурится
бывший инспектор ГАИ:
«В права...
Но когда не чужие права, а мои...»
«В чо верю? —
зимипский чалдон размышляет,
вздыхая,
– В людей...
Р а з в е это, по-вашему, вера плохая?»
Д в а брата из Вологды
в голос один пробасили:
«В Россию».
И буркнул верзила из Шуи,
ногою сгребая еловые шишки:
«В хорошие книжки,
да только они не в излишке...»
И так повариха с к а з а л а,
мешая половником гречку:
«В нечто...»
А самый старший в бригаде —
тридцатилетний Кондрашин
345
вопросом по поводу веры
нисколечко не ошарашен,
Он и кайлил, и лопатил,
он и таскал треногу:
«Не верю ни в бога, ни в черта:
верю – в дорогу!»
Кругом – Куликовское поле
поваленных сосен и лиственниц.
Медведь из малинника
пятится задом, облизываясь.
Одна ягодиночка
в шерсти дремучей запуталась,
как будто забылась,
как будто о чем-то задумалась.
И, может, ей хочется спрыгнуть
с дразнинкой таежной дикой
в рабочую рыжую каску,
наполненную голубикой.
Встает с перекура Кондрашин,
в каску ладонью ныряет
и полную горсть голубики
в улыбку свою швыряет,
Кондрашин ведет бульдозер,
смеясь голубыми зубами.
Улыбку лежачие камни
встречают гранитными лбами.
И цедит сквозь зубы Кондрашин
при каждом таком натыканьи:
«Нам бурелом не страшен.
Загвоздка – лежачие камни.
Не надо излишней тревоги,
а надо в обход, не озлобясь.
Всегда против новой дороги —
замшелая твердолобость.
Об эти лежачие камни
глупо с размаху сломаться.
Умней идти не рывками —
бочком обойти, как по маслу.
И надо вернуться после,
раз поперек попались,
и вывернуть их из псчвы,
в которой они окопались.
346
Недопустимы вздохи,
непозволительны охи.
Всегда против духа эпохи —
лежачие камни эпохи».
И с бамовских грозно скрежещущих просек,
с этих камней и пней
я вижу эпоху, которая д а ж е не просит —·
требует слова о ней.
6
Когда распадается
чувство действительности,
к а к будто действительности – никакой,
то страшно хочется лечь и вытянуться,
не шевеля ни ногой, ни рукой.
«Ногой шевелить?
Еще можно во что-нибудь вляпаться...
Рукой шевелить? Не оттяпали бы руки...»
Таков шепоток человеческой
внутренней слабости
и подлые внешние шепотки.
И так лежит человек, не шевелится,
хотя он при этом весьма шевелится:
на службу ходит и в тирах целится,
на выпивончиках веселится.
Но это его движение ложно:
все это л е ж а, л е ж а, л е ж а.
Просторна планета, но тесно на ней
от бодро ходячих лежачих камней.
Пыхтит история, их раскачивая,
а потом огибает – они не в счет,
Под лежачих людей, под идеи лежачие
история не течет.
От Родины так далеки, как пришельцы,
собственные замшельцы.
Они, залежавшиеся, истертые,
торчат, застряв посреди быстрины,
но когда исчезает чувство истории,
исчезает чувство страны.
А страна существует, ж и в а я, а не л е ж а ч а я,
хотя и с грузом лежачих камней,
своим движением нас лишающая
347
права быть неподвижными в ней.
А страна существует, особенная, великая,
со свистом ракетным и «Цоб-цобе!».
И пусть ей подсказывают, шипя и мурлыкая,
она разберется сама в себе.
Страна без подсказки когда-то попрала
лежачий валун крепостного права,
сама отшвырнула без просьб и поклона
лежачий камень царского трона.
И с шара земного,
покрытого черной золою дымящей,
столкнула фашизм, будто камень давящий,
и вырвала собственными руками
стольких трагедий лежачий камень.
Стоят за спиной Кондрашина
призраки над скреперами:
«Мы начали БАМ в тридцатых.
Мы строили здесь, умирали.
Но здесь начинал, на БАМе, '
ночами, когда ни зги,
молоденький Вася Ажаев
роман «Далеко от Москвы»,
Верили мы упрямо в Родину и народ
и, вывернув рельсы БАМа,
их отправляли на фронт.
Кожу с ладоней кровью
приклеивал к рельсам мороз,
как будто бы письма фронту
о том, что мы с фронтом не врозь.
Имя Родины свято. Да не забудется вам,
что воевал когда-то
под Сталинградом БАМ».
И надо держаться, чего бы нам это ни стоило,
а не идти, обезверясь, ко дну.
Л и ш ь тот, в ком нету чувства истории,
теряет веру в такую страну.
И я ненавижу всю жизнь бюрократов,
воюю, хотя мне не все по плечу,
но ненависть к этим замшельцам не спрятав,
прятать любви к стране не хочу.
В ней мало родиться
и голос утробный
выдать за голос глубинных корней.
Пусть называет Редину – Родиной
лишь тот, кто духовно родился в ней,
Я видел немало трусливого, злого,
но верю не злу, а людскому добру,
Я этой стране отдаю мое слово,
за эту страну я без слова умру.
7
...Я в Лондон попал из сибирской распутицы.
Внушаю издателю так и сяк:
«Рекомендую книгу Распутина.
Такой талантище. Наш, сибиряк...»
Спросил издатель, кончиком пальца
в коктейле помешивая лед:
«Распутин – он что – не родственник старца?
Жаль... Без паблисити – не пойдет».
Глаза у издателя сонными были.
Очки лишь на миг любопытство з а ж г л о:
«Вы упомянули, что он – в Сибири,
Простите нескромный вопрос —
а за что?» —·
«Да он там родился...»—·
усмешки не пряча,
я стиснул коктейль недопитый в руке.
Передо мной был камень лежачий
в замшелом замшевом пиджаке.
Вы в нашем споре давно проспорили,
стараясь не видеть со стороны,
как выворачивает бульдозер истории
лежачий камень «холодной войны».
Вы за Россию «переживаете остро»,
а в то же время, как ни крути,
лежачим камнем трагедия Ольстера
сейчас у Британии на груди.
Вы нас учили свободе, учили,
но вот вам урок, неопровержим:
на горле моих товарищей в Чили —
лежачим камнем
фашистский режим.
Об этом заботьтесь,
и, кстати, о вечности
343
и о невечном шаре земном.
А наши лежачие камни отечественные—·
наша забота.Мы их сковырнем.
8
...В тайге над Кунермой —
лежачие ржавые камни,
и скулы Кондрашина ходят,
бугрясь ж е л в а к а м и.
Он дюжину бревен
з а ц а п а л удавкою троса,
и трос надрывается,
трос угрожающе трется,
и знает Кондрашин,
что нет запасного, к несчастью:
в лежачие камни уперлись —
ни с места! – запчасти,
машины, продукты,
ушанки, горючее, спички, стихи...
На стольких столах не сукно, а болотные мхи,
Все надо опять выбивать
и стучать кулаками.
У стольких еще не мозги —
а лежачие камни.
Но крепче камней лежачих
рабочая крупная кость,
Сильнее болот стоячих
веселая русская злость.
Пусть в грохоте, скрежете, дыме
рабочие все повторят
свое могучее имя —
слово «Пролетариат».
И эхом этого слова
все камни лежачие враз
из нашего шара земного
ты вырвешь, рабочий класс.
...Кондрашин в ботфортах резиновых
ливень с ладони пьет,
неостановим, как Россия,
как прадед – великий Петр.
350
'
II трос трещит от движения,
Россию таща напролом,
как будто бы жила двужильная,
одолженная Петром.
Бульдозер хрипит, ободранный,
проходит за яром яр,
в кустарник врубаясь, как в бороды
'I еж а чих камней – бояр,
удавкой валун корявый
выдергивая из мхов,
как гатчинского капрала,
забравшегося в альков.
Кондрашин помнит кишками,
как Разин, зубами скрипя,
швырнул нарумяненный камень
со струга, с друзей и себя.
И помнит, как делался прежде,
ладонью з а ж а т в тиски,
оружием Красной Пресни
лежачий булыжник Москвы.
И помнит он позвонками тот день, когда наконец,
как будто лежачий камень,
затрясся Зимний дворец.
Коидрашинский трос напрягся,
но в нем в одно сплетены
кудели крестьянской пряжи
с прядями седины.
В нем пушкинских терниев лавры
и р ж а в ь декабристских оков,,
матросские ленточки славы —
с лямками бурлаков.
Как вы его ни тяните,
не разрывается трос.
В нем красного знамени нити
и нити крови и слез.
Крепок наш трос неказистый.
Внутри его навсегда
сжаты зубами связистов
наших фронтов провода.
Парень смоленский курносый,
забыв невеликий свой рост,
по этому самому тросу
впервые взобрался до звезд.
. 351
«Авророй» и Маяковским
на целый мир забасив,
мы тянем планету сквозь косность
на тросе без запасных.
И под любой перегрузкой
выстоит в грозы, в мороз
истории нашей русской
неразрываемый трос.
Камень лежачий сдается,
когда не сдаешься ты сам.
Я а к будущее создается.
Так строят сегодня БАМ,
9
Шпала – это только* шпала,
не растет на ней трава,
но когда слеза упала
на нее – она жива.
Рельса ·– это только рельса,
но когда, «тук-тук» ловя,
ты об рельсу ухом грелся,
то она тогда твоя.
10
Г р а ж д а н е будущие пассажиры,
запивая портвейном таежный пейзаж,
вы вспомните нас, которые проложили
путь прогрохатывающий ваш?
Поймете, как мерзлую землю долбали мы
когда на камнях мы строили БАМ,
не слушая песенное «бам-бам-баманье»,
честно сказать, противное нам.
А когда нам крутили
«Королеву экрана»
из какой-то придуманной
пляжной страны,
на нас не действовала эта к р а л я;
комары нам прокусывали штаны.
В жизни все было грубее, корявее.
352
К нашим потомкам по нашим путям
мы выйдем, проламывая фотографии,
ретушь газетную смазав к чертям.
Порой мы падали, полумертвые,
д а ж е забыв стянуть сапоги,
но лентой чапаевской пулеметного
дорога ложилась на грудь тайги.
Есть лжедороги, есть лжепророки.
Кто лжедорогой идет – пропадет.
Смысл дороги не просто в дороге,
а в том, куда она приведет.
Потомки, запомнить бы вам не мешало:
должны вы довывернуть из земли
лежачие камни земного шара,
которые вывернуть мы не смогли.
Вы не узнаете трудностей наших,
и слава богу.
Вам из болот руками
не выволакивать «МАЗ».
Но не забудьте, потомки, что, строя дорогу,
мы сами стали дорогой для вас.
С нас многое спросится
эпохой и вечностью.
Мы – первая просека
всего человечества.
1975
.
353

Евгений Евтушенко
Северная надбавка
ПОЭМА
1976–1977.
Журнал «Юность» № 6 1977 г.
За что эта северная надбавка!
За —
вдавливаемые
вьюгой
внутрь
глаза,
за —
мороза такие,
что кожа на лицах,
как будто кирза,
за —
ломающиеся,
залубеневшие торбаза,
за —
проваливающиеся
в лед
полоза,
за —
пустой рюкзак,
где лишь смерзшаяся сабза,
за —
сбрасываемые с вертолета груза,
где книг никаких,
за исключением двухсот пятидесяти экземпляров
научной брошюры
«Ядовитое пресмыкающееся наших пустынь —
гюрза…»
2
«А вот пива,
товарищ начальник,
не сбросят, небось, ни раза…»
«Да если вам сбросить его —
разобьется…»
«Ну хоть полизать,
когда разольется.
А правда, товарищ начальник,
в Америке – пиво в железных банках!»
«Это для тех,
у кого есть валюта в банках…»
«А будет у нас «Жигулевское»,
которое не разбивается!»
«Не все, товарищи, сразу…
Промышленность развивается».
И тогда возникает
северная тоска по пиву,
по русскому —
с кружечкой,
с воблочкой
– пиру.
И начинают:
«Когда и где
последний раз
я его…
того…
Да, боже мой, братцы, —
в Караганде!
Лет десять назад всего…»
Теперь у парня в руках
весь барак:
«А как!»
«Иду я с шабашки
и вижу —
цистерна,
такая бокастая,
рыжая стерва,
Я к ней – без порыва.
Ну, думаю, знаю я вас:
написано «Пиво»,
а вряд ли и квас…»
Барак замирает,
как цирк-шапито:
«А дальше-то что!»
«Я стал притворяться,
как будто бы мне все равно.
Беру себе кружечку, братцы,
И – гадом я буду – оно!»
«Холодное?» —
глубокомысленно
вопрос, как сухой наждачок.
«Холеное…»
«А не прокислое?»
«Ни боже мой —
свежачок!»
«А очередь!»
«Никакошенькой!»,
и вдруг пробасил борода,
рассказчика враз укокошивший:
«Какое же пиво тогда?
Без очереди трудящихся
какой же у пива вкус!
А вот постоишь три часика
и столько мотаешь на ус…
Такое общество избранное,
хотя и табачный чад.
Такие мысли, не изданные
в газетах, где воблы торчат.
Свободный обмен информацией,
свободный обмен идей.
Ссорит нас водка, братцы,
пиво сближает людей,.»
Но барак,
притворившийся только, что спит:
«А спирт?»
И засыпает барак на обрыве,
своими снами
от вьюги храним,
и радужное,
как наклейка на пиве,
сиянье северное
над ним.
А когда открывается
навигация,
на первый,
ободранный о льдины пароход,
на лодках
угрожающе
надвигается,
размахивая сотенными,
обеспивевший народ,
и вздрагивает мир
от накопившегося пыла:
«Пива!
Пива!»
3
Я уплывал
на одном из таких пароходов.
Едва успевший в каюту влезть,
сосед, чтобы главного не прохлопать,
Хрипло выдохнул:
«Пиво есть?»
«Есть», – я ответил,
«А сколько ящиков?» —
последовал северный крупный вопрос,
и целых три ящика
настоящего
живого пива
буфетчик внес.
Закуской были консервные мидии.
Под сонное бульканье за кормой
с бульканьем
пил из бутылок невидимых
и ночью
сосед невидимый мой.
А утром,
способный уже для бесед,
такую исповедь
выдал сосед:
«Летать Аэрофлотом?
Мы лучше обождем.
Мы мерзли по мерзлотам
не за его боржом.
Я сяду лучше в поезд
«Владивосток – Москва»,
и я о брюшную полость
себе налью пивка.
Сольцой, чтоб зашипело!
Найду себе дружков,
чтоб теплая капелла
запела бы с боков.
С подобием улыбки
сквозь пенистый фужер
увижу я Подлипки,
как будто бы Танжер.
Аккредитивы в пояс
зашил я глубоко,
но мой финкарь пропорист —
отпарывать легко.
Куплю в комиссионке
костюм– сплошной кремплин.
Заахают девчонки,
но это лишь трамплин.
Я в первом туалете
носки себе сменю.
Двадцатое столетье
раскрою, как меню.
Пять лет я торопился
на этот пир горой.
Попользую я «пильзен»,
попраздную «праздрой».
Потом, конечно, в Сочи
с компашкой закачусь —
там погуляю сочно
от самых полных чувств.
Спроворит, как по нотам,
футбольнейший подкат
официант с блокнотом:
«Вам хванчкару, мускат!»
Но зря шустряк в шалмане
ждет от меня кивка.
«Компании – шампании!
А для меня – пивка!
Смеешься надо мною!
Мол, я не из людей,
животное пивное,
без никаких идей!
Скажи, а ты по ягелю
таскал теодолит,
не пивом, а повальною
усталостью налит?
Скажи, а ты счастливо,
без всяких лососин
пил бархатное пиво
из тундровых трясин?
А о пивную пену
крутящейся пурги
ты бился, как о стену,
когда вокруг ни зги?
Мы теплыми телами
боролись, кореш, с той,
как ледяное пламя
дышавшей, мерзлотой.
А тех, кто приустали,
внутрь приняла земля,
и там, в гробу хрустальном,
тепа из хрусталя.
Я, кореш, малость выжат,
прости мою вину.
Но ты скажи: кто движет
на Север всю страну!
На этот отпусочек —
кусочек жития,
на пиво и на Сочи
имею право я!
Я северной надбавкой
не то чтоб слишком горд.
Я мамку, деда с бабкой
зарыл в голодный год.
Срединная Россия
послевоенных лет глядит —
теперь я в силе,
за пивом шлю в буфет!
Сеструха есть – Валюха.
Живет она в Клину,
и к ней еще до юга,
конечно, заверну…
Пей… Разве в пиве горечь,
что ерзаешь лицом!
По пиву вдарим, кореш,
пивцо зальем пивцом…»
4
Эх, надбавка северная,
вправду сумасшедшая,
на снегу посеянная,
на снегу взошедшая!
Впрочем, здесь все рублики,
как шагрень, сжимаются.
От мороза хрупкие
сотни здесь ломаются.
И, до боли яркие,
в самолетах ерзая,
прилетают яблоки,
все насквозь промерзлые.
Тело еще вынесло,
ночью изъелозилось,
а душа не вымерзла —
только подморозилась.
5
В столице были слипшиеся дни…
Он легче стал
на три аккредитива
и тяжелей
бутылок на сто пива,
и захотелось чаю и родни.
Особенно он как-то испугался,
когда, проснувшись,
вдруг нащупал галстук
на шее у себя, а на ноге
почувствовал чужую чью-то ногу,
а чью – понять не мог,
придя к итогу:
«Эге,
пора в дорогу…»
Сестру свою не видел он пять лет.
Пропахший запланированным «пильзеном»,
как блудный брат,
в кремплине грешном вылез он
в Клину чуть свет
с коробкою конфет.
В России было воскресенье,
но
очередей оно не отменяло,
а в двориках тишайших
домино
гремело наподобье аммонала.
Не знали покупатели трески
и козлозабиватели ретивые,
что в поясе приезжего с Москвы
на десять тыщ лежат аккредитивы.
Московскою «гаваною» дымя,
он шел,
сбивая новенькие «корочки».
Окончились красивые дома
и даже некрасивые окончились.
Он постукал в окраинный барак,
который столь похожим был на северный.
«Чего стучишь!
Открыта дверь и так…» —
угрюмо пробурчал старик рассерженный.
Вошел приезжий в длинный коридор,
смущаясь:
«Мне бы Щепочкину Валю…»
«Такой здесь нет…
Все ходют,
носют сор,
и, кстати, нас вчерась обворовали…»
«Как нет!
Я брат ей…
Я писал сюда.
Ну, правда, года три последним разом.
Дед, вспомни —
медицинская сестра.
С рыжцой!
Косит немного левым глазом!»
«Ах, эта Валька —
Юркина жена!
Я хоть старик,
а человек здесь новый
и путаюсь в фамилиях.
Она
не Щепочкина вовсе,
а Чернова».
«А где они живут!»
«Вон там живут.
Был Юрка на бульдозере,
а нынче
Валюха его тянет в институт,
и мужа
и двоих детишек нянча.
Валюха,
доложу тебе,
душа…
А как насчет уколов хороша!
И даже ездит
к самому завскладом,
и всаживает шприц легко-легко…
Как видишь, оценили высоко
своим —
научно выражаясь —
задом».
Рванул приезжий дверь сестры слегка,
и ручка вмиг с шурупами осталась
в его руке,
и вздрогнула рука,
как будто бы нечаянно состарясь.
Он в мокрое внезапно ткнулся лбом








