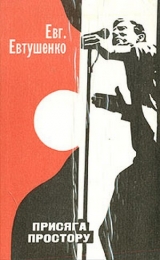
Текст книги "Присяга простору "
Автор книги: Евгений Евтушенко
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)

Евгений Евтушенко
Присяга простору
СКАЗКА
О
РУССКОЙ
ИГРУШКЕ
В. А. Косолапову
По разграбленным селам
шла Орда на рысях,
приторочивши к седлам
русокосый ясак.
Как под темной водою
молодая ветла,
Русь была под Ордою,
Русь почти не была.
Но однажды, – как будто
все колчаны без с т р е л, —
удалившийся в юрту
хан Батый захмурел.
От бараньего сала,
от лоснящихся жен
что-то в нем угасало —
это чувствовал он,
И со взглядом потухшим
хан сидел, одинок,
на сафьянных подушках,
сжавшись, будто хорек.
Хан сопел, исступленной
скукотою томясь,
и бродяжку с торбенкон ·
ввел угодник толмач.
3
В горсть набравши урюка,
колыхнув животом,
«Кто такой?» – хан угрюмо
ткнул бродяжку перстом.
Тот вздохнул («Божья м а т е р ь, —
то Батый, то князья...»):
«Дел игрушечных мастер
Ванька Сидоров я».
Из холстин дыроватых
в той торбеике своей
стал вынать деревянных
медведей и курей.
И в руках баловался
потешатель сердец —
с шебутной балалайкой
скоморох-дергунец.
Но, в игрушки вникая,
умудренный, как змий,
на матрешек вниманье
обратил хан Батый.
И с тоской первобытной
хан подумал в тот миг,
скольких здесь перебил он,
а постичь – не постиг.
В мужичках скоморошных,
простоватых на вид,
как матрешка в матрешке,
тайна в тайне сидит..,
Озираясь трусливо,
буркнул хан толмачу:
«Все игрушки тоскливы.
Посмешнее хочу.
Пусть он, рваная нечисть,
этой ночью не спит
и особое нечто
для меня сочинит...»
4
Хан д о б а в и л, икнувши:
«Перстень д а м и коня,
но чтоб эта и г р у ш к а
просветлила меня!»
Д у м а л В а н ь к а про волю,
про судьбу про свою
и кивнул головою:
«Сочиню. П р о с в е т л ю».
Ш м ы г а л носом он грустно,
но явился в свой срок:
«Сочинил я игрушку,
В а н ь к о й– в с т а н ь к о й н а р е к».
На кошме не кичливо
в с т а л простецкий, не з л о й,
но д р а з н я щ е качливый
м у ж и ч о к у д а л о й.
Хан п р и ж а л его п а л ь ц е м
и л а д о н ь ю помог.
В а н ь к а– в с т а н ь к а п о п а л с я.
В а н ь к а– в с т а н ь к а прилег.
Хан свой п а л е ц о т д е р н у л,
но силен, хоть и м а л,
в а н ь к а– в с т а н ь к а задорно
снова на ноги в с т а л.
Хан игрушку с р а з м а х а
вмял в кошму сапогом ·
И, зпобея от с т р а х а,
з а к л и н а л ш е п о т к о м.
Хап сапог отодвинул,
но, д е р ж а с ь за бока,
пи т. к а– в с т а н ь к а вдруг вынырнул
из-под носка!
Хан попятился г р у з н о,
Р у с ь и русских к л я н я;
« Д а, у ж эта игрушка
просветлила меня...» .
5
Хана страхом шатало,
и велел он скорей
от Руси – от шайтана —
повернуть всех коней.
И, теперь уж отмаясь,
положенный вповал,
Ванька Сидоров—мастер
у дороги л е ж а л.
Он л е ж а л, отсыпался —
руки белые врозь.
Василек между пальцев
натрудившихся рос.
А в пылише прогорклой,
так же мал да удал,
с головенкою гордой
ванька-встанька стоял.
Из-под стольких кибиток,
из-под стольких копыт
он вставал неубшый —
только временно сбит.
Опустились туманы
на лугах заливных,
и ушли басурманы,
будто не было их.
Ну, а ваньк^ остался,
как остался народ,
и душа ваньки-встаньки
в каждом русском живет.
Мы – народ ванек-встанек,
Н а с не бог уберег.
Н а с давили, пластали
столько разных сапог!
Они знали: мы – ваньки,
нас хотели покласть,
а о том, что мы встаньки,
вабывали, платясь.
6
$
Мы – народ ванек-встанек.
Мы встаем – так всерьез.
Мы от бед не устанем,
не поляжем от слез...
И смеется не вмятый,
не затоптанный в грязь
мужичок хитроватый,
чуть пока-чи-ва-ясь.
1963
1
ГЛУБИНА
В-
Соколову
Будил захвоенные дали
рев парохода поутру,
а мы на палубе стояли
и наблюдали Ангару,
Она летела озаренно,
и дно просвечивало в ней
сквозь толщу волн светло-зеленых
цветными пятнами камней,
Порою, если верить глазу,/
могло казаться на пути,
что дна легко коснешься сразу,
лишь в воду руку опусти.
Пусть было здесь немало метров
но так вода была ясна,
что оставалась неприметной
ее большая глубина.
Я знаю: есть порой опасность
в незамутненное™ волны,
ведь ручейков журчащих ясность
отнюдь не признак глубины.
Но и другое мне знакомо,
и я не ставлю ни. во грош
бессмысленно глубокий омут,
где ни черта не разберешь.
И я хотел бы стать волною
реки, зарей пробитой вкось,
с неизмеримой глубиною
·и каждым камешком насквозь!
1952
8
Д а л ь п р о ш т о п о р е н а д ы м о м т о р о п л и в ы м.
П ы л у п о е з д а от п ы л и не у п а л.
К а к п р и ш п о р е н н ы й, о н ш п а р и т п о н а п л ы в а м
п а р о в о з а м и о ш п а р е н н ы х ш п а л.
В о к о л е с и ц е к о л е с б е с т о л к о в ы х,
что ни с т ы к, с т у ч а бойчее и б о й ч е й,
он влетает в к о п о ш е н и е т о р г о в о к,
в звон д ы м я щ и х с я на с т о л и к а х б о р щ е й.
И з у з л а к р и ч и т, в ы с о в ы в а я с ь, у т к а,
н а к у в ш и н е виснет пенки б а х р о м а.
Т о р м о з а с к р и п я т, и – д а в е ш н я я ш у т к а:
«Надевай, р е б я т а, в а л е н к и – . З и м а ! »
Н а д с п е ц о в к а м и и с х о д я т з в о н о м б у с ы,
Т а м д е в ч а т а, у л ы б а я с ь м о р я к а м,
под вагонами просматривают буксы
и п о х л о п ы в а ю т поезд по б о к а м .
О б д а в а я все шипением г о р я ч и м,
он опять идет, в з д ы х а я г л у б о к о.
П а с с а ж и р ы з а б ы в а ю т вмиг п р о с д а ч у
и р а с п л е с к и в а ю т в беге м о л о к о.
О н идет, д о м а г у д к а м и б е с п о к о я,
м и м о с т а н ц и и З и м а в д ы м у г у с т о м.
П о мосту гремит н а д пенистой О к о ю
и с к р ы в а е т с я в т а й г е, вильнув х в о с т о м.
Г д е з е л е н ы е в е р ш и н ы, с л о в н о п и к и,
он один с т а й г о й, и б о л ь ш е н и к о ю .
М ы и д е м, п о д н я в ш и с ь с у з е н ь к о й т р о п и н к и,
в д а л ь п о р е л ь с а м, е щ е т е п л ы м о т н е г о.
Н а ш и м ы с л и в с л е д з а п о е з д о м с т р е м я т с я.
В с л е д г л я ж у и н а г л я д е т ь с я н е м о г у.
С о р о к пятый г о д.
Н а м п о т р и н а д ц а т ь.
М ы идем з а синей ягодой в т а й г у.
Ч т о н а м д о м а , г д е и тесно и н е л о в к о,
г д е изучено д о м е л о ч и ж и л ь е?
Г д е прихвачено на д в о р и к а х к веревкам
д е р е в я н н ы м и п р и щ е п к а м и б е л ь е?
Г д е н а у л и ц а х п о л н о с о л о м ы к о л к о й,
где все л е т о, под п р о х о ж и м и б у г р я с ь,
только с в е р х у з а с ы х а я черствой к о р к о й,
9
прогибается, покачиваясь, грязь?
В свежем сене под навесом только душно.
Что с того, что в дряхлой крыше синь видна,
где июльский месяц тонок, словно д у ж к а
у опущенного в озеро ведра!
Мы в жару, фырча, купаемся в протоках,
поезд взглядом провожая у высот,
с нетерпеньем снова думая про то, как
он и нас в большие дали увезет.
Мы потом пройдем по улицам вот этим,
оглядим и каждый двор и каждый дом.
Все, что было незаметным, – мы заметим
и всю цену незаметного поймем.
От дорог больших мы так отяжелеем,
паровозами разбитыми кренясь,
и себя мы горько-горько пожалеем,
потому что не ж а л е л о время нас.
Мы напрасно свои корни обрубили,
мы напрасно от тайги оторвались. ,
Собирались мы по ягоды другие,
4
а на волчьи невзначайно нарвались.
Но пока, сверкая, рельсы вдаль струятся.
Рыжий лось трубит составу вслед в логу.
Сорок пятый год.
Нам по тринадцать.
Мы идем за синей ягодой в тайгу,
1953
А.
И.
Дубинину
Откуда родом я?
Я с некой
сибирской станции Зима,
где запах пороха и снега
и запах кедров и зерна.
Какое здесь бывает лето?
Пусть для других краев ответ
10
з в у ч и т н е очень-то у ж л е с т н о:
н и г д е т а к о г о л е т а н е т!
И д и в т а й г у с б е р д а н к о й у т р о м,
но не б е р и к б е р д а н к е п у л ь.
Л ю б у й с я выводками уток
и л и с л е д и п о л е т к о с у л ь,
Иди п о г л у б ж е. Б у д ь с м е л е е.
К а к птица п е в ч а я, с в и с т и.
А повстречаешься с медведем —
е г о б р у с н и к о й у г о с т и.
Б р у с н и к а с т е л е т с я и м л е е т,
к р а с н о с в е т я с ь п о с о с н я к у.
У к а ж д о й пятнышко белеет
т а м , г д е л е ж а л а , – н а б о к у,
А г о л у б и ч н ы е п о л я н ы!
В них с т о л ь к о синей ч и с т о т ы!
И чуть л и л о в ы и т у м а н н ы
о т я ж е л е н н ы е к у с т ы.
П у с к а й тебе себя подарит
м а л и н ы целый дикий с а д .
П у с к а й в г л а з а тебе у д а р и т
черносмородиновый г р а д.
П у с т ь к о с т я н и к а л ь н е т, м е р ц а я.
П у с т ь вдруг обступит сапоги
к л у б н и к а п ь я н а я, л е с н а я —
ц а р и ц а я г о д всей т а й г и,
И ты у в и д и ш ь, н а к л о н и в ш и с ь,
в л о г у з е л е н о м г д е– н и б у д ь,
к а к в алой мякоти клубничной
желтеют зернышки ч у т ь– ч у т ь.
Н у а к а к о й она б ы в а е т,
зима на станции З и м а ?
З д е с ь и п у р ж и т, з д е с ь и б у р а н и т,
и заметает здесь д о м а .
11
Но стихнет все, и, серебристым
снежком едва опушена,
пройдет надменно с коромыслом,
покачиваясь, тишина.
По местной моде, у лодыжки
на каждом валенке – цветы,
а в ведрах звякают ледышки,
и, как ледышки-холодышки,
глаза жестоки и светлы.
На рынке дымно дышат люди,
Здесь мясо, масло и мука
и, словно маленькие луны,
круги литые молока.
А ночью шорохи и шумы.
Гуляет вьюга в голове.
Белеют зубы,' дышат шубы
на ошалевшей кошеве.
И сосны справа, сосны слева,
и визг девчат, и свист парней,
и кони седы, будто сделал
мороз из инея коней!
Лететь, вожжей не выпуская!
Кричать и петь, сойти с ума,
и – к черту все!.. Она такая —
зима на станции З и м а!
Я958
···
Пахла станция Зима
молоком и кедрами.
Эшелонам пастухи
с лугов махали кепками.
Шли вагоны к фронту
зачехленно, громыхающе.
12
Сколько было грозных молчаливых верениц!
Я был в испанке синенькой,
кисточкой махающей.
С пленкою коричневой
носил я варенец.
Совал я в чью-то руку с бледно-зеленым якорем
у горсада с клумбы сорванный бутон
или же протягивал
полный синей ягоды
из консервных банок спаянный бидон.
Солдаты желтым сахаром меня баловали.
Парень с зубом золотым
играл на б а л а л а й к е.
Пел: «Прощай, Сибирюшка, ладкий чернозем!»
Говорил: «Садись, пацан, к фронту подвезем!»
На фуражках звездочки
милые, алые.
Уходила армия, уходила армия.
Мама подбегала,
уводила за фикусы.
Мама говорила: «Что еще за фокусы!
Куда ты собираешься?
Что ты все волнуешься?»
и предупреждала —
«Еще навоюешься.,.»
За рекой Окою ухали филины.
11|>о войну гражданскую
мы смотрели фильмы»
О, как я фильмы обожал
про Щорса, про Максима,
и был марксистом, видимо,
хотя не знал м а р к с т м с ,
13
Я писал роман тогда, и роман порядочный,
а на станции Зима
голод был тетрадочный.
Все на уроках в дело шло,
когда бывал диктантз
«Врачебная косметика»,
Мордовцев и Д е к а р т.
А я был мал, но был удал, и в этом взявши первенство,
я между строчек исписал
двухтомник Маркса-Энгельса.
Ночью, светом обданные, ставни дребезжали —
это эшелоны мимо проезжали,
и писал я нечто еще неоцененное,
длинное, военное, революционное...
1957
Э. А. Дубининой
Я сибирской породы.
Ел я хлеб с черемшой
и мальчишкой паромы
тянул, как большой.
Раздавалась команда.
Шел паром по О к е . 1
От стального каната
были руки в огне.
Мускулистый, лобастый,
я заклепки клепал
и глубокой лопатой,
Ю к а —река в Восточной Сибири.
14
где велели, копал.
На меня не кричали,
не плели ерунду,
а топор мне вручали,
приучали к труду.
А уж если и били
за плохие дрова —
потому, что любили
и желали добра.
До десятого пота
гнулся я под кулем.
Я косою работал,
колуном и кайлом.
Не боюсь я обиды,
не боюсь я тоски.
Мои руки оббиты
и сильны, как тиски.
Все на свете я смею,
усмехаюсь врагу,
потому что умею,
потому что могу.
1954
СВАДЬБЫ
А.
Межирову
О, свадьбы в дни военные!
Обманчивый уют,
слова неоткровенные
о том, что не убьют...
Дорогой зимней, снежною,
сквозь ветер, бьющий зло,
лечу на свадьбу спешную
в соседнее село.
Походочкой расслабленной,
с челочкой на лбу
вхожу, плясун прославленны
15
в гудящую избу.
Наряженный, взволнованный,
среди друзей, родных,
сидит мобилизованный
, растерянный жених.
Сидит с невестой – Верою,
А через пару дней
шинель наденет серую,
на фронт поедет в ней.
Землей чужой,
не местною,
с винтовкою пойдет,
под пулею немецкою,
быть может, упадет.
8 стакане брага пенная,
но пить ее невмочь.
Быть может, ночь их первая —
последняя их ночь.
Глядит он опечаленно
и – болью всей души
мне через стол отчаянно:
«А ну, давай пляши!»
З а б ы л и все о выпитом,
все смотрят на меня,
и вот иду я с вывертом,
подковками звеня.
То выдам дробь,
то по полу,
носки проволоку.
Свищу, в ладоши хлопаю,
взлетаю к потолку.
Л е т я т по стенам лозунги,
что Гитлеру капут,
9 у невесты слезыньки
горючие текут.
Уже я измочаленный,
у ж е едва дышу. .
«Пляши!..» – кричат отчаянно,
и я опять пляшу...
16
Ступни как деревянные,
когда вернусь домой,
но с новой свадьбы пьяные
являются за мной.
Едва отпущен матерью,
на свадьбы вновь гляжу
и вновь у самой скатерти
вприсядочку хожу.
Невесте горько плачется,
стоят в слезах д р у з ь я.
Мне страшно. Мне не пляшется,
но не плясать —
нельзя.
1955
САПОГИ
Был наш вагон похож на табор.
В нем были возгласы крепки.
Набивши сеном левый тамбур,
как боги, спали моряки.
М а русей кто-то бредил тихо.
Котенок рыжий щи хлебал.
Учила сумрачного типа,
чтоб никогда не мухлевал.
Я был тогда не чужд рисовки
н стал известен тем кругам
благодаря своим высоким
американским сапогам.
То тот,
то этот брал под локоть,
прося продать, но я опять
лишь разрешал по ним похлопать,
по их подошвам постучать.
Но подо мной,
куда-то в Еткуль,
с густой кошюн на голове,
шенко
17,
парнишка, мой риьесник, ехал,
босой, в огромных галифе.
И что с того, что я обутый,
а он босой,—
ну что с того! —
но я старался почему-то
глядеть поменьше на него...
Не помню я, в каком уж месте
стоял наш поезд пять минут.
Был весь в а ю н разбужен вестью:
«Братишки! Что-то выдают!»
Спросонок тупо все ругая,
хотел надеть я сапоги, ·
но кто-то крикнул, пробегая:
«Ты опоздаешь! Так беги!»
Я побежал, но в страшном гаме
у станционною ларька
вдали с моими сапогами
того увидел паренька.
За вором я понесся бурей.
Я был в могучем гневе прав.
Я прыгал с буфера на буфер,
штаны о что-то разодрав.
Я гнался, гнался что есть мочи.
Его к вагону я п р и ж а л.
Он сапоги мне отдал молча,
з а п л а к а л вдруг и побежал.
И я в каком-то потрясенье
глядел, глядел сквозь дождь косой,
как по земле сырой,
осенней
бежал он, плачущий, босой...
Потом внушительный, портфельный
18
вагона главный старожил
новосибирского портвейна
мне полстакана предложил.
Штаны мне девушки л а т а л и,
твердя, что это не беда,
а за окном то вверх взлетали,
то вниз пыряли
провода...
1954
РОЯЛЬ
Пионерские а в р а л ы,
как вас надо величать!
Мы в сельповские подвалы
шли картошку выручать.
Пот блестел на лицах крупный,
и ломило нам виски.
Отрывали мы от клубней
бледноватые ростки.
На картофелинах мокрых
патефон был водружен.
Мы пластинок самых модных
переслушали вагон.
И они крутились шибко,
веселя ребят в сельпо.
Про барона фон дер Пшика
было здорово сильно!
Петр Кузьмич, предсельсовета,
опустившись к нам в подвал,
нас не стал ругать за это —
он сиял и ликовал.
Языком прищелкнул вкусно
в довершение всего
и с к а з а л, что из Иркутска
привезли рояль в село.
Мне велел одеться чисто
и умыться Петр Кузьмич]
«Ты ведь все-таки учился,
19
ты ведь все-таки москвич...»
Как о чем-то очень дальнем,
вспомнил: был я малышом
в пианинном и рояльном,
чинном городе большом.
После скучной каши манной,
взявши нотную тетрадь,
я садился рядом с мамой
что-то манное играть.
Не любил я это дело,
но упрямая родня
сделать доблестно хотела
пианиста из меня.
А теперь – в колхозном клубе —
ни шагов, ни суетни.
У рояля встали люди.
Ж д а л и музыки они.
застыл на табурете,
молча ноты теребил.
Как сказать мне людям этим,
.
что играть я не любил,
что пришла сейчас расплата
в тихом, пристальном кругу?
Я не злился.
Я не плакал.
Понимал, что не могу.
И мечтою невозможной
от меня куда-то вдаль
уплывал большой и сложный,
не простивший мне рояль.
1955
Мне было и сладко и тошно,
у ряда базарного встав,
глядеть, как дымилась картошка
на бледных капустных листах.
20
И пел я в вагонах клопиных,
как графа убила жена,
как Д ж е к а любя, Коломбина
в глухом городишке жила.
Те песни в вагонах любили,
не ставя сюжеты в вину,—
уж раз они грустными были,
то, значит, они про воину.
Махоркою пахло, и водкой,
и мокрым шинельным сукном,
солдаты д а в а л и мне воблы,
меня называли сынком...
Д а, буду я преданным сыном,
какой бы ни выпал удел,
каким бы ни сделался сытым,
какой бы пиджак не надел!
И часто в раздумье бессонном
я вдруг покидаю уют —
и снова иду по вагонам,
и хлеб мне солдаты суют...
1956
ФРОНТОВИК
Глядел я с верным д р у г о м Васькой,
укутан в теплый тетин шарф,
и на фокстроты, и на вальсы,
глазок в окошке продышав.
Глядел я жадно из метели,
из молодого января,
как девки ж а р к и е летели,
цветастым полымем горя.
Открылась дверь с игривой шуткой,
и в серебрящейся пыльце —
счастливый смех, и шепот шумный,
и поцелуи на крыльце.
Взглянул – и вдруг застыло сердце.
Я разглядел сквозь снежный вихрь:
стоял кумир мальчишек сельских —
хрустящий, бравый фронтовик.
·21
Он говорил Седых Д у и я ш е:
«А ночь-то, Д у н с ч к а, – краса!»
И тихо ей: «Какие ваши
совсем особые глаза...»
Увидев нас, в ладоши хлопнул
и нашу с Ваською судьбу
решил: «Чего стоите, хлопцы?!
А ну, давайте к нам в избу!»
Мы долго с валенок огромных,
сопя, состукивалн снег
и вот вошли бочком,
негромко
в махорку, музыку и свет.
Ах, брови – черные чашобы!..
В одно сливались гул, и чад,
и голос: «Водочки еше бы...» —
и туфли-лодочки девчат.
Аккордеон вовсю работал,
все поддавал он ветерка,
а мы смотрели, как на бога,
на нашего фронтовика.
Мы любовались – я не скрою, —
как он в стаканы водку лил,
как перевязанной рукою
красиво он не шевелил.
Но он историями сыпал
и был уж слишком пьян и лих
и слишком звучно,
слишком сыто
вещал о подвигах своих.
И вдруг уже к Петровой Глаше
подсел в углу под образа,
и ей опять:«Какие ваши
совсем особые глаза...»
Острил он приторно и вязко.
Не слушал больше никого.
Сидели молча я и Васька.
22
Нам было стыдно за него.
Паш взгляд, обиженный, колючий,
ему упрямо не забыл,
что должен быть он лучше,
лучше,
за то, что ои на фронте был.
Смеясь, шли девки с посиделок
и говорили про свое,
а на веревках поседелых
скрипело мерзлое белье...
1955
БАБУШКА
Я вспомнил в размышленьях над летами.
как жили ожиданием дома,
как вьюги сорок первого летали
над маленькою станцией Зима.
Меня кормила жизнь не кашей манной.
В очередях я молча мерз в те дни.
Была война. Была на фронте мама.
Мы жили в доме с бабушкой одни.
Она была приметной в жизни местной —
ухватистая, в стареньком платке,
в мужских ботинках,
в стеганке армейском
и с папкою картоиною в руке.
Д е р ж а ответ за все плохое в мире,
мне говорила, гневная, она
о пойманном каком-то дезертире,
о злостных расхитителях зерна.
И, схваченные фразой злой и цепкой,
при встрече с нею ежились не зря
и наш сосед, ходивший тайно в церковь,
и пьяница – главбух Заготсырья.
А иногда
в час отдыха короткий
вдруг вспоминала,
вороша дрова.
23
Садились рядом я и одногодки —
зиминская лохматая братва.
Р а с с к а з ы в а л а с радостью и болью,
с тревожною далекостью в глазах
о стачках, о побегах, о подполье,
о тюрьмах, о расстрелянных друзьях.
Буран стучался в окна то и дело,
но, сняв очки в оправе роговой,
нам, замиравшим,
тихо-тихо пела
она про бой великий, роковой.
Мы подпевали, и светились ярко
глаза куда-то рвущейся братвы.
В Сибири дети пели «Варшавянку»,
и немцы отступали от Москвы.
1955
ПЕЛЬМЕНИ
На кухне делали пельмени.
Стучали миски и ключи.
Разледеневшие поленья,
шипя, ворочались в печи.
Л е т а л цветастый тетин фартук,
и перец девочки толкли,
и струйки розовые фарша
из круглых дырочек текли.
И, обволокиутый туманом,
в дыханьях мяса и муки,
граненым пристальным стаканом
Я резал белые кружки.
Прилипла к мясу строчка текста,
что бой суровый на земле,
но пела печь, и было тесно
кататься тесту на столе!
О год тяжелый, год военный,
24
ты на сегодня нас прости.
Пускай тяжелый дух пельменный
поможет душу отвести.
Пускай назавтра нету денег
и снова горестный паек,
но пусть – мука на лицах девок
л печь веселая поет!
Пускай сейчас никто не тужит
и в луке руки у стряпух...
Кружи нам головы и души,
пельменный дух, тяжелый дух!
1956
АРМИЯ
Е.
И.
Дубининой.
В палате выключили радио,
и кто-то гладил мне вихор...
В зиминском госпитале раненым
д а в а л концерт наш детский хор.,
Уже начать нам знаки д е л а л и.
Двумя рядами у стены
стояли мальчики и девочки
перед героями войны.
Они,родные, к
некрасивые,'
с большими впадинами глаз
и сами ж а л к и е,
несильные,
смотрели с жалостью на н а с /
В тылу измученные битвами,
худы, заморены, бледны,
в своих пальтишках драных
были мы
для них героями войны.
О, взгляды долгие, подробные!
О, сострадание сестер!
Но вот: «Вставай, страна огромная!»
25
запел, запел наш детский хор.
А вот запел хохол из Винницы.
Халат был в пятнах киселя,
и войлок сквозь клеенку выбился
на черном ложе костыля.
Запел бурят на подоконнике,
запел сапер из Костромы.
Солдаты пели, словно школьники,
и, как солдаты, пели мы.
Все пели праведно и доблестно—>
и няня в стареньком платке,
и в сапогах кирзовых докторша,
забывши градусник в руке.
Разрывы слышались нам дальние,
и было свято и светло...
Вот это все и было —Армия,
Все это Родину спасло.
1958
Ошеломив меня, мальчишку
едва одиннадцати лет,
мне дали Хлебникова книжку!
«Учись! Вот это был поэт...»
Я
тихо принял книжку эту,
и был я, помню, поражен
и преднеловьем, и портретом,
и очень малым тиражом.
Мать в середину заглянула,
вздохнула: «Тоже мне добро...» —
ио книжку в «Правду» обернула,
где сводки Совинформбюро.
Я в магазин, собрав силенки,
бежал с кошелкою бегом,
чтоб взять по карточкам селедки,
а если выдадут – бекон.
ф
20
Ворчал знакомый: «Что-то ноне,
сынок, ты поздно подошел...» —
и на руке писал мне номер
химическим карандашом.
Занявши очередь, я вскоре
косой забор перелезал,
и через ямины -и взгорья
я направлялся на вокзал.
А там живой бедой народной,
оборван и на слово лют,
гудел, голодный и холодный,
эвакуированный люд.
Ревел папан, стонали слабо
сыпнотифозные в углах,
и ненричесанные бабы
сидели злые на узлах.
Мне места не было усесться.
Я шел, толкаясь, худ и мал,
и книжку Хлебникова к сердцу
я молчаливо прижимал.
3955
НАСТЯ КАРПОВА
Пимчти Г.
Дубининой
Настя Карпова, паша деповская,
говорила мне, пацану:
«Чем же я им всем не таковская?
Пристают они почему?
Неужели нету понятия —
только Петька мне нужен мой.
Поскорей бы кончалась, проклятая..,
Поскорей бы вернулся домой...»
Настя Карпова,
Настя Карпова!
Млели парни, чумели чины.
21
Было столько в глазах ее карего,
что почти они были черны!
Приставали к ней, приставали,
с комплиментами каждый лез.
Увидав ее, привставали
за обедом смазчики с рельс.
А один интендант военный,
в чай подкладывая сахарин,
с убежденностью откровенной
звал уехать на Сахалин:
«Понимаете,
понимаете —
это вы должны– понимать,
вы всю жизнь мою поломаете,
а зачем ее вам ломать!»
Настя голову запрокидывала,
хохотала и чай пила.
Столько баб ей в Зиме завидовало,
что т а к а я она была!
Настя Карпова,
Настя Карпова,
сколько – помню – со всех сторон
над твоей головою каркало
молодых и старых ворон!
Сплетни, сплетни, ее обличавшие,
становились все злей и злей.
Все, отпор ее получавшие,
мстили сплетнями этими ей.
И когда в конце сорок третьего
прибыл раненый муж домой,
о'л сначала со сплетнями встретился,
а потом у ж е с Настей самой.
Верят сплетням сильней, чем любимым.
Он собой по-солдатски владел.
Не ругал ее и не бил он,
тяжело и темно глядел.
Складка лба поперек
волевая.
Планки орденские на груди.
28
«Все вы тут, пока мы воевали...
Собирай свои шмотки.
Иди».
Настя встала, как будто при смерти,
будто в обмороке была,
и беспомощно слезы брызнули,
и пошла она,
и пошла.
Шла она от дерева к дереву
посреди труда и войны
под ухмылки прыщавого деверя
и его худосочной жены.
Шла потерянно. Ноги не слушались,
и, пробив мою душу навек,
тяжело ее слезы рушились,
до земли пробивая снег...
19С0
КАРТИНКА
ДЕТСТВА
Работая локтями, мы б е ж а л и, —
кого-то люди били на б а з а р е.
Как можно было это просмотреть!
Спеша на гвалт, мы прибавляли ходу,
зачерпывали валенками воду
и сопли забывали утереть. к
И замерли. В сердчишках что-то сжалось,
когда мы увидали, как сужалось
кольцо тулупов, дох и капелюх,
как он стоял у овощного р я д а,
вобравши в плечи голову от града
тычков, пинков, плевков и оплеух.
Вдруг справа кто-то в санки дал с оттяжкой.
Вдруг слева залепили в лоб ледяшкой.
Кровь появилась. И пошло всерьез.
Все вздыбились. Все скопом з а в и з ж а л и,
29
обрушившись дрекольем и в о ж ж а м и,
железными штырями от колес.
Зря он хрипел им: «Братцы, что вы, братцы..
толпа сполна хотела рассчитаться,
толпа глухою стала, разъярясь.
Толпа на тех, кто плохо бил, роптала,
и нечто, с телом схожее, топтала
в снегу весеннем, превращенном в грязь.
Со вкусом били. С выдумкою. Сочно.
Я видел, как сноровисто и точно
лежачему под самый-самый дых,
извожены в грязи, в навозной ж и ж е,
все добавляли чьи-то сапожищи
с засаленными ушками на них.
Их обладатель – парень с честной мордой
и честностью своею страшно гордый —
все бил да приговаривал: «Шалишь!..»
Бил с правотой уверенной, весомой,
и, взмокший, раскрасневшийся, веселый,
он крикнул мне: «Добавь и ты, малыш!»
Не помню, сколько их, галдевших, било.
Быть может, сто, быть может, больше было,
но я, мальчишка, плакал от стыда.
И если сотня, воя оголтело,
кого-то бьет, – пусть д а ж е и за дело! —
сто первым я не буду и и когда 1
1963
РАБОЧАЯ
КОСТЬ
В.
И.
Дубинину
Не в льстивом унижении
под камуфляжем фраз —
я вырос в уважении
к тебе, рабочий класс.
Оставив шутки смачные,
00
меня, воины д ш ё ,
вы принимали, смазчики
зимннского депо.
Иван Фаддеич Прохоров,
известный всем в Зиме,
читал, как в храме проповедь,
в депо науку мне.
Я горд был перед взрослыми,
когда шагал домой,
что пахнет паровозами
солдатский ватник мой.
И Сыркина Виталия
клеймил что было сил
за то, что пролетарий я,
а он – врачихпн сын.
Мы были однолетками,
из класса одного,
но звал интсллигентиком
с презреньем я его...
Иван Фаддеич Прохоров
пыл мой остудил.
Иван Фаддеич Прохоров
всё это осудил.
«Что гонишься за почестью?
Нашелся фон-барон!
Кто хвастает рабочестью,
какой рабочий он!»
И грозно и рокочуше
на все депо он рявкнул:
«Мы что же —
кость рабочая,
а врач – она дворянка?!»
Воспитан я не догмами,
а взглядом этих глаз.
Меня руками добрыми
ты вел, рабочий класс.
О, руки эти жесткие!
Под сенью их я рос.
Кружки мозолей желтые
мне дороги до слез.
31
Вот правая, вот левая —
владыки домен, штолен...
Но, с к а ж е м, руки л е к а р я
не трудовые, что ли?
Интеллигенты сложные
в жару или пургу
хлебали той же ложкою
такую же бурду.
Их смерть была не в роскоши —
в бою от смертных ран
во имя нашей Родины
рабочих и крестьян.
В них дух Толстого, Герцена
не сдался, не погас...
Моя интеллигенция,
ты —
рабочий класс!
Те, кто тома ворочает,
и те, кто грузит кокс, —
все это кость рабочая.
Я славлю эту кость!
1957
ЗИМИНСКАЯ
БАЛЛАДА
Шмон—проверочка карманов
на жаргоне уркаганов.
Что такое слово «шмон» —
помню с давнишних времен,
черемши не слаще.
Был я мал. Была война.
И зиминская шпана
шеманала у кипа
тех, кто младше, с л а б ж е.
Та шпана была юна,
ну а все-таки пьяна,
с буркалами рачьими.
П о д ухмылочки ножей
все карманы малышей
выворачивала.
32
Грустен опыт огольца!
если будешь рыпаться,
схватишь по шеям ты.
Было страстью подлецов
отбирать у огольцов
новый фильм про двух бойцов
с песней про шаланды.
Есть у банд один закон:
кто не в банде, всех в загон.
Что т а м: шито-крыто.
Бьют свинчаткой в зубы, в бок.
Каждый вместе с бандой – бог,
а отдельно —гнида.
Не забуду одного,
ряшку жирную его.
Р я ш к а не усатая,
но зато фиксатая.
Напуск брюк на сапоги,
означающий: беги!
и тельняшка – зверь тайги —
тигра полосатая.
До свиданья, Марк Бернес!
Вор за пазуху полез
и не унимался.
Из карманов греб гроши,
будто обыском души
занимался.
С м а з а в мне навеселе
ручкой финки по скуле,
гоготал, посапывал.
Не избавлюсь от стыда,
ибо я не смог тогда
сдачи д а т ь фиксатому.
Я в ладони рупь з а ж а л .
Вор увидел и з а р ж а л.
:
Зажигалкой чиркнул
И к руке поднес огонь:
« Р а з ж и м а й, сопляк, ладонь!
Слышишь, кошкин чирей?!»
втушенко
33
Я р а з ж а л. Моя вина.
Из кипа брел без кипа.
Козы у Заготзерна
жалостно кивали,
и шаланды за спиной
усмехались надо мной,
полные кефали.
Повторяю – я был мал,
но чего-то понимал,
плачась по шаландам.
Шкурой чую – кто бандит}
до сих пор во мне сидит
отвращенье к бандам.
Как меня ни приголубь,
помню отнятый мой рупь.
Если бьют, не плачу.
Сам ответно в морды бью.
До сих пор я додаю
иесданиую сдачу.
1955
ИДОЛ
Среди сосновых и гол
в завьюженном
логу
стоит эвенкский
идол,
уставившись в
тайгу.
Прикрыв надменно веки,
смотрел он до поры,
как робкие эвенки
несли ему д а р ы.
Несли унты и малицы,
несли и мед и мех,
считая, что он молится
и думает за всех.
31
В уверенности темной,
что он их всех поймет,
оленьей кровью теплой
намазывали рот.
А что он мог, обманный
божишка небольшой,
с жестокой, деревянной,
источенной душой?
Глядит сейчас сквозь ветви
покинуто, мёртво.
Ему никто не верит,
не молится никто.
Но чудится мне: ночью
в своем логу глухом
он зажигает очи,
обсаженные мхом,
И, вслушиваясь в гулы,
пургою заметен,
облизывает губы
и крови хочет он...
1955
Мне припомнилось с детства знакомство:
на форсистом блатном языке
хлипкий парень сказал мне: «Стыкнемся»,
стиснув льдышку в худом кулаке.
Он стоял на зиминском б а з а р е,
лет двенадцати сверхчеловек,
а штаны с него сверхслезали,
ну а нос его сверхкоченел.
Но поклацывали от зуда
доказать, что он злой душегуб,
35
два стальных устрашающих зуба
между детских обветренных губ.
И, сводя непонятные счеты,
он толкать меня начал в плечо.
«Да ты ч о? – я скулил.– Да за чо ты!»
«А ничо,– он сказал,– ни за чо...»
И стыкнулись мы. Били в салазки
и до краски в носы посильней,
аж летели до самой Аляски
сталактиты замерзших соплей.
И вкусно смазанув по сопатке,
как тот парень и заслужил,
уложил я его на лопатки,
но потом он меня уложил,
И растрепанный, взмокший как в бане,
непохож на базарных громил,
он победно представился «Ваня..,
значит, мир?» Я икнул: «Значит, мир...»
После вместе мы выпили квасу,
и заметил я – парень дрожит.
Я спросил: «Чо нам было стыкаться?»
Он ответил: «А чтобы дружить».
1969
БАЛЛАДА
О
КОЛБАСЕ
"
Сорок первый сигнальной ракетой
угасал под ногами в грязи.
Как подмостки великих трагедий,
сотрясались перроны Руси.
И среди оборванцев-подростков,
представлявших российскую голь,
на замызганных этих подмостках
я играл свою первую роль.








