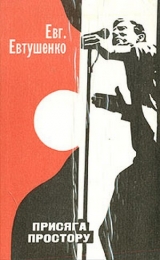
Текст книги "Присяга простору "
Автор книги: Евгений Евтушенко
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
36
Пел
мой жалкий надтреснутый голос
под гитарные струны дождей.
Пел
мой детский отчаянный голод
для
таких же голодных людей.
Был я тощий, одетый в обноски
в миг, когда на мои небеса,
словно месяц, в ячейках авоськи
круторого взошла колбаса.
Оборвав свое хриплое соло,
я увидел в ознобном ж а р у —
. били белые лампочки сала
сквозь лоснящуюся кожуру.
Но, пышней, чем французская булка,
д а м а в шляпке с нелепым пером
на тугих чемоданах, как Будда,
созерцала с опаской перрон.
Д а, война унижает ребенка,
как сказал бы историк Тацит,
и сверкали глаза цыганенка,
словно краденный им антрацит.
Ну а я – цыганенок белявый,
представителем творческих сил
подошел к этой д а м е бывалой
и «Кирпичики» заголосил.
Упрощая задачу искусства
и уверен в его колдовстве,
пел я, полный великого чувства
к удивительной той колбасе.
Но, рукою в авоське порыскав,
как растроганная гора,
протянула мне дама ириску,
словно липкий квадратик добра.
Ну а баба, сидевшая рядом,
не сумела себя побороть
и над листиком чистым тетрадным
пополам разломила ломоть.
37
Тот ломоть был сырой, ноздреватый.
Его корка отлипла совсем,
и вздыхал он, такой виноватый,
что его я не полностью съем.
Баба тоже вздохнула повинно
и, запрятав тот вздох в глубине,
половину своей половины
с облегчением сунула мне.
Ну а после всплакнула немножко
и сказала одно:«Эх, сынки...» —
и слизнула ту горькую крошку,
что застряла в морщинах руки...
...Жизнь проходит. Как в мареве, стран
проплывают – они не про нас,
и качаются меридианы,
как с надкусами связки колбас.
Колбасою я больше не брежу,
· заграничном хожу пиджаке,
да и крошки стряхаю небрежно,
если грустно прилипнут к руке.
В моей кухне присевший на л а п а х
холодильник – как белый медведь,
но от голода хочется плакать,
и тогда начинаю я петь.
И поет не раскатистый голос,
заглушающий гул площадей,
а мой голод, сиротский мой голод,
лютый голод по ласке людей.
Но, ей-богу же, плакать не нужно.
Грех считать, что земля не щедра,
если кто-то протянет натужно
слишком липкий квадратик добра.
По
планете галдят паразиты,
по планете стучат костыли,
но всегда доброта нетранзитна
на трясучем перроне земли.
38
Я люблю мой перрон пуповиной,
и покуда не отлюблю,
половину своей половины
мне отломят, и я отломлю.
1968
СОВЕРШЕНСТВО
Тянет ветром свежо и студено.
Пахнет мокрой сосною крыльцо.
И потягивается освобожденно
утка, вылепившая яйцо.
И глядит непорочною девой,
возложив, как ей бог начертал,
совершенство округлости белой
на соломенный пьедестал.
А над грязной дорогой подталой.
над за цвел ы ми крышами изб
совершенство округлости алой
поднимается медленно ввысь.
И дымится почти бестелесно
все пронизанное зарей
совершенство весеннего леса,
словно выдох земли – над землей.
Не запальчивых форм новомодность
и не формы, что взяты взаймы,—
совершенство есть просто природност
совершенство есть выдох земли.
Не казнись, что вторично искусство,
что ему о т р а ж а т ь суждено
и что так несвободно и скудно
по сравненью с природой оно.
Избегая покорности гриму,
ты в искусстве себе покорись
3')
и спокойно и неповторимо
всей пригодностью в нем повторись.
Повторись – как природы творенье,
над колодцем склонившись лицом '
поднимает свое повторение
нз глубин, окольцованных льдом...
ВЗМАХ РУКИ
Когда вы, из вагона высунувшись,
у моря или просто
У реки,,
в степи или у гор, надменно высящихся,
увидите короткий взмах руки, —
движением стремительным обдутые
и полные своих удач и бед,
о машущем, конечно, вы не думаете —
вы тоже просто машете в ответ.
Да и о вас не думает он,
машущий.
Непроизволен этот
добрый взмах —
солдат ли машет вам
, из роты маршевой
или мальчишка
с бубликом в зубах.
И машут пастухи с лугов некошеных
и рыбаки, таща в сетях кефаль,
и пальчиками, алыми на кончиках,
вас провожают ягодницы
вдаль.
О, взмах руки, —
участья дуновение!
О, взмах руки —
ничем ты нерастлим
40
срель века, так больного недоверием,
доверья изначального инстинкт.
И пальчиками, алыми на кончиках,
все ягодницы
всех на свете стран
средь эдельвейсов, миртов, колокольчиков
нас провожают в звезды и туман.
Девчонок платья трепещутся короткие.
Девчонки машут с радостью такой!
Всегда у рельс найдутся те,
которые
махнут —
пускай ручонкой,
не рукой.
Девчонки в развалившихся сабо!
Девчонки в ореолах из ром-ашек!
Как будто человечество само
себе,
куда-то едущему, машет.
1900
Меужто есть последний час
всемирной вавилонской башни? '
Не страшно, что не станет н а с . '
Что ничего не станет – страшно
Неужто будет, как душа
исчезнувшего человека,
кружиться в космосе, шурша,
одна квитанция из Ж Э К а ?
1976
41
ПРОДУКТЫ
Е.
Винокурову
Мы жили, помнится, в то лето
среди черемух и берез.
Я был посредственный коллектор,
но был талантливый завхоз.
От продовольственной проблемы
я всех других спасал один,
и сочинял я не поэмы,
а рафинад и керосин.
И с пожеланьями благими
субботу каждую меня
будили две геологиии
и водружали на коня.
Тот конь плешивый, худородный
от ветра утреннего мерз.
На нем, голодном, я, голодный,
покорно плыл в Змеиногорск.
Но с видом доблестным и смелым,
во всем таежнику под стать,
въезжал я в город – первым делом
я хлеба должен был достать.
В то время с хлебом было трудно,
и у ларьков уже с утра
галдели бабы многолюдно
и рудничная детвора.
Едва-едва тащилась кляча,
сопя, разбрызгивая грязь,
и я ходил, по-детски клянча,
врывался, взросло матерясь.
Старанья действовали слабо,
но все ж,
с горением внутри,
в столовой Золотопродснаба
я добывал буханки три.
Но хлеба нужно было много,
и я за это отвечал.
Я шел в райком.
Я брал на бога.
Я кнутовищем в стол стучал.
42
'Дивились там такому парню:
«Ну и способное дитя!»
и направление в пекарню
мне секретарь д а в а л, кряхтя.
К а к распустившийся громила,
грозя, что все перетрясу,
я вырывал еще и мыло,
и вермишель, и колбасу.
Потом я шел и шел тропою.
Я сам навьючен был, как вол,
и в поводу я за собою
коня навьюченного вел.
Я кашлял, мокрый и продутый,
Д ы ш а л и звезды над листвой.
С д а в а л я мыло и продукты
и падал в сено сам не свой,
Тонули запахи и звуки
и слышал я
уже во сне,
к а к чьи-то ласковые руки
шнуркиразвязывали мне.
1955
Г.
Мазурину
Я на сырой земле л е ж у
в обнимочку с лопатою.
Во рту травинку я держу,
травинку кисловатую.
Такой проклятый грунт копать —
лопата поломается,
и очень хочется мне с п а т ь;
А спать не полагается.
«Что,
не стоится на ногах?
Взгляните на голубчика!» —
43
хохочет девка в сапогах
и в маечке голубенькой.
Заводит песню, на беду,
певучую-певучую;
«Когда я милого найду,
уж я его помучаю».
Смеются все: «Ну и змея!
Ну, Анька, и сморозила!»
И знаю разве только я
да звезды и смородина,
как, в лес ночной со мной входя,
в смородинники пряные,
траву руками разводя,
идет она, что пьяная.
Как, неумела и слаба,
роняя руки смуглые,
мне говорит она слова
красивые и смутные.
1956
Я у рудничной чанной,
у косого плетня,
молодой и отчаянный, ·
расседлаю коня.
О железную скобку
сапоги оботру,
з а к а ж у себе стопку
и достану махру.
Два степенных казаха
прилагают к устам
с уважением сахар,
будто горный хрусталь,
Брючки географини
все – репей на репье.
Орден «Мать-героиня»
44
у цыганки в тряпье.
И, невзрачный, потешный,
странноватый на вид,
старикашка подсевший
мне бессвязно таердит,
к а к в парах самогонных
в синеватом дыму
золотой самородок
являлся ему,
как, раскрыв свою сумку,
после сотой версты
самородком он стукнул
в кабаке о весы,
к а к шалавых девчонок
за собою водил
и в портянках парчовых
по Иркутску ходил...
В старой рудничной чайной
городским хвастуном,
молодой и отчаянный,
я сижу за столом.
Пью на зависть любому,
и блестят сапоги.
Гармонисту слепому
я кричу: «Сыпани!»
Горячо мне и зыбко
и беда нипочем,
а буфетчица Зинка
все поводит плечом.
Все, что было, истратив,
к а к подстреленный влет,
плачет старый старатель
оттого, что он врет.
Может, тоже заплачу
и на стол упаду,
все, что было, истрачу,
ничего не найду.
Но пока что мне зыбко
и легко на земле,
и буфетчина Зинка
улыбается мне.
1955
45
Бывало, спит у ног собака,
костер занявшийся гудит,
и женщина из полумрака
глазами зыбкими глядит.
Потом под пихтою приляжет
на куртку рыжую мою
и мне, задумчивая, скажет:
«А ну-ка, спой...» – и я пою.
Л е ж и т,отдавшаяся песням,
и подпевает про себя,
рукой с латышским светлым перстнем
цветок алтайский теребя.
Мы были рядом в том походе.
Все говорили, что она
и рассудительная вроде,
а вот в мальчишку влюблена
От шуток едких и топорных
я замыкался и молчал,
когда лысеющий топограф
меня лениво поучал:
«Таких встречаешь, брат, не часто...
В тайге все проще, чем в Москве.
Да ты не думай, что начальство!
Т а к а я ж баба, как и все...»
А я был тихий и серьезный
и в ночи длинные свои
мечтал о пламенной и грозной,
о замечательной любви.
Но как-то вынес одеяло
и лег в саду,
а у плетня
она с подругою стояла
и говорила про меня.
К плетню растерянно приникший,
я услыхал в тени ветвей,
что с нецелованным парнишкой
занятно баловаться ей...
Побрел я берегом туманным,
побрел один в ночную тьму,
и все казалось мне обманным
и я не верил ничему.
Ни песням девичьим в долине,
ни воркованию ручья...
Я лег ничком в густой полыни,
и горько-горько плакал я.
Но как мое,
мое владенье,
в текучих отблесках огня
всходило смутное виденье
и наплывало на меня.
Я видел – спит у ног собака,
костер занявшийся гудит,
и женщина из полумрака
глазами зыбкими глядит.
1955
Итак, я опять в этой комнате.'
Глаза мои опустели;
Л е ж у я,больной,тяжелый, в усталой и бледной постели.
Похожие на ощущения, видны в полумгле слегка
безвольные очертания снятого пиджака*
Насторожились вещи, меня от себя не пуская.
Хочу закурить папиросу —
коробка давно пустая.
Светясь, вращаясьи лопаясь, у ж е из близкого сна
47
восходят воспоминания, как пузырьки со дна...
Добра я немного сделал —
немногим больше, чем з л а.
Я вижу надежды высокие
и среднего роста дела,
нервные чередования маленьких празднеств и бед,
спокойные лица женщин, не говоривших «нет».
Но вижу–'
в рубашке ситцевой
сижу на плоту поутру.
Ноги мои босые опущены в Ангару.
В руке моей чуткая удочка.
Ведерко полно пескарей.
Чего, интересно, мне хочется?
Старше стать поскорей*
Но вот в полумгле растворяются
текучие эти картины,
и снова привычные шорохи
и тихие тени квартиры.
В комнате—т запахи хвойные. Мысли чисты и добры.
Рука, с кровати опущенная, ' касается Ангары...
1954
Сойти на тихой станции З и м а.
Еще в вагоне всматриваться издали,
открыв окно, в знакомые мне исстари
с наличниками древними дома.
И, соскочив с подножки на ходу,
по насыпи хрустеть нагретым шлаком,
Где станционник возится со шлангом,
·48
на все лады ругая духоту,
где утки прячут головы в ручей,
где петухи трубят зарю с насеста,
где выложены звезды
у разъезда
из белых и из красных кирпичей...
Идти по пыльным доскам тротуара,
где над крыльцом райкомовским часы,
где за оградой старого б а з а р а
шуршат овсы и звякают весы,
где туеса из крашеной коры
с брусникой влажной на прилавках низких,
где масла ярко-желтые шары
в наполненных водой цветастых мисках...
Увидеть те же птичьи гнезда в нише
у т а к знакомых выцветших ворот,
и тот ж е дом —
не выше и не н и ж е, —
и досками заплатанный заплот,
и тот же прислоненный к печке веник,
и «гриб» все в той же банке на окне,
и ту же щель в расшатанных ступенях,
где шампиньоны в темной глубине...
Поднять, как встарь, какую-нибудь гайку,
з а ж а т ь ее в счастливом кулаке,
и мчать по склону, осыпая гальку,
к туманами окутанной Оке,
и сарану ища, бродить по рощице
тропой, заросшей гущею хвоща,
и помогать веснушчатой паромщице,
с оттяжкой
трос лоснящийся т а щ а.
Старинный мед оценивать по качеству
на пасеке, стоящей над прудом,
и на телеге
медленно покачиваться,
коня лениво трогая прутом.
И проходить брусничными местами
с мальчишеской ватагой гулевой
и с удочками слушать под мостами,
как поезда гремят над головой.
Евтушенко
49
Смеясь – в траву, стянуть рубашк с тела сх е Л
припасть к воде на горном берегу
и вдруг понять, как мало в жизни сделал,
как много в жизни сделать я могу,
1953
ДЕВЧАТА
ИЗ
ШВЕЙНОЙ
АРТЕЛИ
Девчата из швейной артели
со станции нашей З и м а,
ручьи и сосульки в апреле
вас медленно сводят с ума.
Д р о ж а т, как в ознобе, машинки
и первые около глаз
тихонько л о ж а т с я морщинки
еще незаметно для вас.
Кого-то, кто встретит, проводит
вы ждете потом у ворот,
да что-то никто не приходит,
а может быть, и не придет.
Но д а ж е во тьме полуночной
внушая: «Придет—погоди!»,
у каждой из вас под платочком
с надеждой торчат бигуди.
Девчата из швейной артели,
за тоненькой строчкой шитья
чего бы вы в жизни хотели?
Наверно, того же, что я.
Вы, Усти и Капы, и Люды,
сестер невезучих семья,
хотели бы счастья всем людям
и малость его д л я себя.
Да нету его без работы,
да нету его без любви,
50
и нету его без ребенка —
я чувствую это, как вы.„
'Ложится за лоскутом лоскут.
Привычно склонились без слов
двенадцать чернявых, белесых
и рыжих девчачьих голов.
Ну, прямо до слез огорченье,
что так вот сидят и строчат
под музыку плесков ручейных
двенадцать ничейных девчат.
Ничейный, а может, никчемный,
и я на машинке стучу,
тринадцатой грустной девчонкой
я тоже чего-то строчу.
К а к а я же это ошибка,
что парни, такие слепцы,
в костюмчиках, вами пошитых,
не с вами идут, стервецы.
Какой я обидою маюсь,
что девушки темью ночной,
под песни мои обнимаясь,—
вот дуры! – идут не со мной!..
1963
ПАРТИЗАНСКИЕ
МОГИЛЫ
Б.
Моргунову
Итак, живу на станции З и м а.
Встаю до света —
нравится мне это
В грузовиках на россыпях зерна
куда-то еду, вылезаю где-то.
Вхожу в тайгу, разглядываю лето
и удивляюсь: как земля земна!
Брусничники в траве тревожно тлеют,
31
и ягоды шиповника алеют
с мохнатинками рыжими внутри.
Все говорит как будто:
«Будь мудрее
и в то же время слишком не мудри!»
Отпущенный бессмысленной тщетой,
я отдаюсь покою и порядку,
торжественности вольной и святой
и выхожу на тихую полянку,
где обелиск белеет со звездой.
Среди берез и зарослей малины
вы спите, партизанские могилы.
Читаю имена! «Клевцова Настя,
Петр Беломестных, Кузьмичов Максим»,
а надо всем – торжественная надпись:
«Погибли смертью храбрых за марксизм»
Задумываюсь я чад этой надписью:
ее в году далеком девятнадцатом
наивный грамотей с пыхтеньем вывел
и в этом правду жизненную видел.
Они, конечно,
Маркса не читали
и то, что бог на свете есть,
считали,
но шли сражаться и буржуев били,
и получилось, что марксисты были..
За мир погибнув новый, мололой,
л е ж а т они,сибирские крестьяне,
с крестами на груди —
не под крестами-
под пролетарской красною звездой.
И я стою с ботинками в росе,
за этот час намного старше ставший
и все зачеты по марксизму сдавший,
и все-таки, наверное, не все!
Есть магия могил.
У их подножий,
52
пусть и пришел ты, сгорбленный под ношей,
вдруг делается грустно илегко
и смотришь глубоко идалеко.
Прощайте, партизанские могилы!
Вы помогли мне всем, чем лишь могли вы!
Прощайте!Мне еще искать и мучиться.
Мир ждет меня, моей борьбы и мужества.
Мир с пеньем птиц, с качаньем веток мокрых,
с торжественным бессмертием своим,
мир, где живые думают о мертвых
и помогают мертвые живым.
1955
ЭКСКАВАТОРЩИК
А.
Марчуку
Ах, как работал экскаваторщик!
Зеваки вздрагивали робко.
От зубьев, землю искорябавших,
им было празднично и знобко.
Вселяя трепет, онемение,
в ковше, из грозного металла
земля с корнями и каменьями
над головами их взлетала.
И экскаваторщик, таранивший
отвал у самого обрыва,
не замечал, что д л я товарищей
настало время перерыва.
С тяжелыми от пыли веками
он был неистов, как в атаке,
и что творилось в нем, не ведали
все эти праздные зеваки.
Случилось горе неминучее,
но только это ли «лучилось?
53
Все то, что раньше порознь мучил$
сегодня вместе вдруг сложилось. '
В нем воскресились все страдания.
В нем – великане этом крохотном^
была невысказанность давняя,
и он высказывался грохотом!
С глазами странными, незрячими
он, бормоча, летел в кабине
над ивами, еще прозрачными,
над льдами бледно-голубыми,
над голубями,
кем-то выпущенным^
над пестротою
крыш без счета,
и над собой,
с глазами выпученц,
застывшим на
доске Почета.
Как будто бы гармошке в клапанц
когда околица томила,
он в рычаги и кнопки вкладывал
свою тоску, летя над миром.
Летел он... П р я д ь упрямо выбилась
Летел он... Зубы с ж а л до боли.
Ну, а зевакам это виделось
красивым зрелищем – не боле.
1963
ДЕКАБРИСТСКИЕ
Л И С Т В Е Н Н И Ц^
В Киренский остр^
декабрист Веденяпин. ^ был сослан
ретъ с голоду, он ^ т о б ы не уме-
служить писарем в ^пужден был
участке. В городе сл полицейском
'-.
венницы, посаженные^Тались лист-
Нм.
Во дворе мастерской индпошивц
без табличек и без оград,
словно три изумрудные взрыва,
эти лиственницы стоят.
И летят в синеву самовольно
так, что д а ж е со славой своей
реактивные самолеты
лишь на уровне средних ветвей.
Грязь на улицах киснет и киснет,
а деревья летят и летят.
Прижимается крошечный Киренск
к их корням, будто стайка опят.
Воздух лиственниц—воздух свободы,
и с опущенных в Лену корней
сходят люди и пароходы,
будто с тайных своих стапелей.
И идет наш задира «Микешкин»
проторить к океану тропу,
словно маленький гордый мятежник,
заломив, будто кивер, трубу.
Н а с мотает в туманах проклятых.
Океан еще где-то вдали,
но у бакенов па перекатах
декабристские свечи внутри.
Что он думал,
прапрадед наш ссыльным,
посадив у избы
деревца
и рукою почти
что бессильной
отгоняя мошку
от лица?
«Что ж – я загнан в острог для острастки.
Вы хотите, чтоб смирно я жил?
Чтоб у вас в полицейском участке
я по писарской части служил?
Но тем больше крыла матереют,
чем кольцуют прочней лебедят.
Кто с а ж а е т людей, кто – деревья,
но деревья – они победят...»
Во дворе мастерской индпоишва
без табличек и без оград,
словно три изумрудные взрыва,
эти лиственницы стоят.
55
Говорят, с ними разное было.
Гнул их ветер, сдаваясь затем,
и ломались зубастые пилы
всех известных в Сибири систем.
Без какой-либо мелочной злости
и обил никаких не т а я,
все прощали они – д а ж е гвозди
для развешиванья белья.
С ними грубо невежи чудили.
Говорили – мешают окну.
Три осталось. А было четыре.
Ухитрились. Спилили одну.
И в окно мастерской индпошива
смотрит, сделанный мало ли кем,
как обрубленнорукий Шива
бывший лиственницей манекен.
Обтесали рубанком усердно —
ни сучка, ни задоринки пусть.
Но стучит декабристское сердце
в безголово напыщенный бюст.
И когда прорываются с верфи
по ночам пароходов гулки,
прорастают мятежные ветви
сквозь распяленные пиджаки...
1962
ЗОЛОТЫЕ
ВОРОТА
.9.
Зоммеру
Шла самосплавом тишина.
За нашим карбасом волна
обозначалась, как вина
вторженья в область полусна
природы на з а к а т е,
и лишь светилась допоздна
56
крутых откосов желтизна,
и рудо-желтая луна
качалась, в небо взметена,
как бы кусок откоса на
невидимой лопате.
Крутился винт, ельцов кроша
Однообразно, как л а п ш а,
мелькали сосны, мельтеша.
А как хотела бы душа
не упустить ни мураша,
ни стебля во вселенной,
и как хотела бы душа,
едва дыша, едва шурша,
плыть самосплавом не спеша,
как тишина вдоль камыша,
по Л е н е вместе с Леной!
Кричали гуси в тальниках,
и было небо в облаках,
как бы в бессонных синяках
под впавшими очами
творца, державшего в руках
мир, сотворенный впопыхах,
погрязший в крови и грехах,
но здесь, на ленских берегах,
прекрасный, как вначале.
З а к а т засасывало дно,
а облака слились в одно,
как темно-серое рядно,
и небо заслонили,
но от заката все равно
остались, вбитые в темно
горя чеканкою красно,
ворота золотые.
Был краток их сиянья *?&с
Сгущались тучи, волочась,
но, зыбким золотом лучась,
мерцали те ворота
над чернотой прозрачных чащ
как свежевытертая часть
старинного киота.
57
И тихо верили сердца,
что если с детскостью лица,
а не с нахальством пришлеца
чуть-чуть коснуться багреца
мизинцем удивленным,
то наподобие л а р ц а
в руках дарующих творца
ворота эти до конца
откроются со звоном.
Но был упрям, как д'Артаньяя,
бархатноглазый капитан.
Н а д ним висел железный план –
идти вперед, на океан,
где айсберги литые.
Он все предвидел, капитан:
ремонт, заливку и туман,
но в плане был большой изъян!
недоучел железный план
ворота золотые.
И капитан сказал нам «Шаи1»,
нас, подраскнсших тормоша, и
карбас, заданно спеша,
по волнам делал антраша,
а мы молчали, кореша,
нам было грустно-грустно;
жизнь лишь тогда и хороша,
когда отклонится душа,
перед природой не греша,
от заданного курса.
Я вахту нес. Я сплутовал.
Я втихоря крутнул штурвал,
но было поздно – прозевал! —
всё тучи залепили,
лишь край небес, алея, звал
туда, где канули в провал
ворота золотые...
1967
58
БАЛЛАДА
О
ЛАСТОЧКЕ
Вставал рассвет над Леной, Пахло елями.
Простор алел, синел и верещал,
а крановщик Сысоев был с похмелий
и свои чувства матом в ы р а ж а л.
Он поднимал, тросами окольцованные,
на б а р ж у под названьем «Диоген»
контейнеры с лиловыми кальсонами
и черными трусами до колен.
И вспоминал, как было мокро в рощице
(На пне бутылки, шпроты. Мошкара.)
и рыжую заразу-маркировщнцу,
которая л о м а л а с ь до утра.
Она упрямо съежилась под ситчиком.
Когда Сысоев, хлопнувши сполна,
прибегнул было к методам физическим,
к физическим прибегиула она.
Д е в а х а из деревни – кровь бунтарская! —
она (быть может, с болью потайной)
маркировала щеку пролетарскую
своей крестьянской тяжкой пятерней...
Сысоеву паршиво было, муторно.
Он Гамлету себя уподоблял,
в зубах фиксатых мучил «беломорину»
и выраженья вновь употреблял.
Но, поднимая ввысь охапку шифера,
который мок недели две в порту,
Сысоев вздрогнул, замолчав ушибленно
и ощутил, что лоб его в поту.
Н а д кранами, над баржами, над слипами,
ну, а т о ч н е е – п р я м о над крюком,
крича, металась ласточка со всхлипами:
т а к лишь о детях – больше ни о ком.
И увидал Сысоев, как пошатывал
в смертельной для бескрылых высоте
59
гнездо живое, теплое, пищавшее
на самом верхнем шиферном листе.
Казалось, все Сысоеву до лампочки.
Он сантименты слал всегда к чертям,
но стало что-то ж а л к о этой ласточки,
да и птенцов: детдомовский он сам.
И, не употребляя выражения,
он, будто бы фарфор или тротил,
по правилам всей нежности скольжения
гнездо на крышу склада опустил.
Л там, внизу, глазами замороженными,
а может, завороженными вдруг
глядела та зараза-маркировщица,
как бережно р а з ж а л с я страшный крюк.
Сысоев сделал это чисто, вежливо,
и краном, грохотавшим в небесах,
он поднял и себя и человечество
в ее зеленых мнительных глазах.
Она у ж е не ежилась под ситчиком,
когда они пошли вдвоем опять,
и было, право, к методам физическим
Сысоеву не нужно прибегать.
Она шептала: «Родненький мой...» – ласково.
Что с ней стряслось, не понял он, дурак,
Не знал Сысоев – дело было в ласточке.
Но ласточке помог он просто так.
1967
В.
Ьокооу
Пахнет засолами,
пахнет молоком.
Ягоды з а с о х л ы е,
в сене молодом.'
60
Я лежу, чего-то жду
каждою кровинкой,
в темном небе звезду
шевелю травинкой.
Все забыл, все з а б ы л,
будто напахался, —
с кем дружил, кого любил,
над кем насмехался.
В небе звездно и черно
Ночь хорошая.
Я не знаю ничего,
ничегошеньки.
Баловали меня,
а я —
как небалованный,
целовали меня,
а я – как нецелованный.
1956
ТРАМВАЙ
ПОЭЗИИ
В трамвай поэзии, словно в собес,
набитый людьми и буквами,
я не с передней площадки влез —
я повисел и на буфере.
Потом на подножке держался хитро
с рукой, " ""-
прихлопнутой дверью,
а как наконец прорвался в нутро,
и сам себе я не верю.
Место всегда старикам уступал.
От контролеров не прятался.
На ноги людям не наступал.
Мне наступали – не плакался.
Люди газеты читали в углах.
Люди сидели на грозных узлах.
Люди в трамвай продирались, как в рай
полный врагов узлейших,
61
логику бунта не влезших в трамваи
меняя на логику влезших.
Мрачно ворчали, вникая в печать,
квочками на продуктах:
«Трамвай не резиновый...
Бросьте стучать!
Не открывайте,
кондуктор'»
Я с теми, кто вышел и строить и месть, —
не с теми, кто вход запрещает.
Я с теми,кто хочет в трамвай влезть,
когда их туда не пущают.
Жесток этот мир, как зимой Москва,
когда она вьюгой продута.
Трамваи – резииовы.
Есть места!
Откройте двери, кондуктор!
ПОВАРА
СВИСТЯТ
Т.
Коржановскочи
Повара свистят,
когда режут лук,
когда лук слезу
вышибает, лют.
Повора свистят, чтобы свистом сдуть
лука едкий яд хоть бы как-нибудь.
Повара свистят,
а ножи блестят,
и хрустят, хрустят,
будто луку мстят.
Повара свистят
и частят-частят,
и поди пойми,
когда
впрямь грустят.
02
Ну а я свишу, когда я грушу,
когда сам себя на земле ищу.
Ну а я свищу, чтобы свистом сдуть
мою грусть-тоску хоть бы как-нибудь.
А ветра свистят,
тут и т а м гостят.
Не пойму, чего
те ветра хотят?
Не пойму, с чего,
аж насквозь дождист,
над вселенной всей
раздается свист?
...Повара свистят,
когда режут лук,
когда лук слезу
вышибает, лют...
1967
МОНОЛОГ
БЫВШЕГО
ПОПА,
СТАВШЕГО
БОЦМАНОМ
НА
ЛЕНЕ...
*
Я был наивный инок. Целью
мнил одиоверность на Руси
и обличал пороки церкви,
но церковь – боже упаси!
От всех попов, что так убого
людей морочили простых,
старался выручить я бога,
но – богохульником прослыл.
«Не
так ты веришь!» – загалдели,
мне отлучением грозя,
как будто тайною владели —
как можно верить, как нельзя.
Но я сквозь внешнюю железность
у них внутри узрел червей.
6*
Всегда в чужую душу лезут
за неимением своей.
И выбивали изощренно
попы, попята день за днем
наивность веры, как из чрева
ребенка, грязным сапогом.
И я учуял запах скверны,
проникший в самый идеал.
Всегда в предписанности веры
безверье тех, кто предписал,
И понял я: л о ж ь исходила
не от ошибок испокон,
а от хоругвей, из кадила,
из глубины самих икон.
Служите службою исправной,
а я не с вами – я убег.
Был раньше бог моею правдой,
но только правда – это бог!
Я ухожу в тебя, Россия;
жизнь за судьбу благодаря,
счастливый вольный поп-расстрига
из лживого монастыря.
И я теперь на Лене боцман,
и хорошо мне здесь до слез,
и в отношенья мои с богом
здесь никакой не лезет пес.
Я верю в звезды, женщин, травы,
в штурвал и кореша плечо.
Я верю в Родину и правду...
На кой – во что-нибудь еще?!
Ж и в ы е люди – мне иконы.
Я с работягами в ладу,
но я коленопреклоненно
им не молюсь. Я их л ю б л ю.
01
И с верой истинной, без выгод,
что есть, была и будет Русь,
когда никто меня не видит,
я потихонечку крещусь...
1967
КАССИРША
На кляче, нехотя трусившей
сквозь мелкий д о ж д ь по большаку,
сидела девочка-кассирша
с наганом черным на боку.
В большой мешок портфель запрятав,
чтобы никто не угадал,
она везла в тайгу зарплату,
и я ее сопровождал.
Мы рассуждали о бандитах,
о разных случаях смешных,
и об артистах знаменитых,
и о большой зарплате их.
И было тихо, приглушенно
ее лицо удивлено,
и челка из-под капюшона
торчала мокро и смешно.
О неувиденном тоскуя,
тихонько трогая копя,
«А как у вас в Москве танцуют?»—
она спросила у меня.
...В избушке,
дождь стряхая с челки,
суровой строгости полна,
достав облупленные счеты,
раскрыла ведомость она.
Ее работа долго длилась —
от денег руки затекли,
и, чтоб она развеселилась,
мы патефон ей завели.
Р е б я т а карты тасовали,
на нас глядели без острот,
а мы с кассиршей танцевали
> Евг. Евтушенко
05
то вальс томящий,то фокстрот.
И по полу она ходила,
как ходят девочки по льду,
и что-то тихое твердила,
и спотыкалась на ходу.
При каждом шаге изменялась —
то вдруг впадала в забытье,
то всей собою извинялась
за неумение свое.
А после —
празднично и чисто,
у колченогого стола,
в избушке, под тулупом чьим-то
она, усталая,
спала.
А грудь вздымалась,
колебалась
и тихо падала опять.
Она спала и улыбалась,
и продолжала танцевать.
ПРИСЯГА
ПРОСТОРУ
Л. Шинка рев у
Могила де Лонга с вершины глядит на гранитную
серую Леи
Простора – навалом, свободы, как тундры, – немерено.
и надвое ветер ломает в зубах сигарету,
и сбитая шапка по воздуху скачет в Америку.
Здесь ветер гудит наподобие гордого строгого гимн
На кончике месяца, как на якутском ноже, розовато
66
л.ж.чт облака, будто нельмовая строганина,
с янтарными желтыми жилами жира з а к а т а.
Здесь выбьет слезу,
и она через час, не опомнившись,
целехонькой с неба скользнет
на подставленным
пальчик
японочки.
Здесь только вздохнешь,
и расправится парус залатанный,
наполнившись вздохом твоим,—
аж у Новой Зеландии!
Здесь плюнешь – залепит глаза хоть на время
в Испании цензору,
а может, другому —
как братец, похожему – церберу.
Здесь, дым выдувая, в двустволку тихонько подышишь,
и юбки, как бомбы, мятежно взорвутся в П а р и ж е!
Л руку поднимешь – она над вселенной простерта...
Простор-то, простор-то!
Торчит над землею, от кухонных дрязг обезумевшей,
над гамом всемирной толкучки,всемирного лживого торга
бревно корабельное, будто Гы перст, указующий,
что смысл человеческой жизни в прорыве к простору —
и только!
Д е ж н е в и Хабаров,Амундсен и Нансен, вы пробовали
уйти от всего,
что оскоминно, тинно,пристойно.
Не знали правительства ваши,
что были вы все верноподданные
§*
67
особого толка – вы верными были простору.
С простором, как с равным,
вы спорили крупным возвышенным спором,
оставив уютные норы бельмастым кротам-червеедам.
Л и ш ь тот, кто себя ощущает соперником равным с простором,
себя ощущает на этой земле человеком.
Мельчает душа от врагов «правоверных» – до ужаса мелких.
О, господи, их побеждать – это д а ж е противно!
Д л я «неправоверных» простор – это вечная Мекка.
С ним драться не стыдно.Он сильный и честный противник.
Обижены богом скопцы, что д р о ж а т за престолы,
за кресла, портфели...
Ну как им не тошно от скуки.
Д л я них никогда не бывало
и нету простора.
' О н и бы его у других отобрали,—
да коротки руки!
Диктатор в огромном дворце,
словно в клетке, затюканно мечется,
а узник сидит в одиночке,
и мир у него на ладони.
Под робой тюремной в груди его – все человечество
под стрижкой-нулевкой – простор, утаенный при шмоне."
Убить человека, конечно, возможно...
Делов-то!
Простор не убьешь. Д л я тюремщиков это прискорбно.
Простор, присягаю тебе! Н а д могилой де Лонга,
припав на колено, целую гудящее знамя простора.
1967
68
-
.
МОГИЛА
РЕБЕНКА
Мы плыли по Л е н е вечерней.
Л а с к а л а с ь, покоя полна,
с тишайшей любовью дочерней
о берег угрюмый она.
И всплески то справа, то слева
пленяли своей чистотой,
к а к мягкая сила припева
в какой-нибудь песне простой.
И с привкусом свежего снега,
к а к жизни сокрытая суть,
знобящая прелесть побега
ломила нам зубы чуть-чуть.
Но карта в руках капитана
ш у р ш а л а, протерта насквозь,
и что-то ему прошептала,
что тягостно в нем отдалось.
И нам суховато, негромко
сказал капитан, омрачась:
«У мыса Могила Ребенка
мы с вами проходим сейчас».
Есть вне телефонного ига
со всем человечеством связь.








