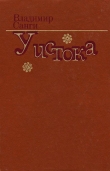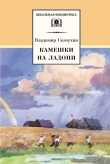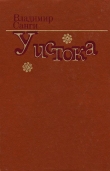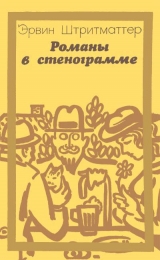
Текст книги "Романы в стенограмме (сборник)"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Из книги «СИНИЙ СОЛОВЕЙ, ИЛИ ТАК ЭТО НАЧИНАЕТСЯ»
Перевод Э. Львовой
Как я познакомился с моим дедушкой
Я родился в среду, в десять часов утра, если кого интересует точное время. Хотя месяц август дружит с грозами, гром не гремел и солнце не стояло в созвездии Девы, и рождение мое происходило отнюдь не по-гётевски.
Матушка моя утверждала, что, едва появившись на свет, я огляделся вокруг так, словно мир наш был мне давно знаком. Впрочем, рассказала она об этом только после того, как напечатали мою первую книгу. Всезнающий взгляд, которым я обвел все вокруг, едва появившись на свет, был с моей стороны уловкой, и мне еще много раз в жизни приходилось прибегать к этой уловке: ведь стоит тебе только показать, что ты удивляешься, как прослывешь наивным и сразу окажешься во власти своих современников-хитрецов.
Правда, мы с матушкой по-разному смотрим на мое появление на свет – ведь для нее я был «здесь» уже в то время, когда сам я предполагал – ошибочно, – что нахожусь еще на «ничейной земле». Это доказывает, что я не чудо-дитя, ибо только чудо-дети помнят первые минуты своей жизни и способны описать фартук повивальной бабки; они торжественно возвещают, что фартук этот был «белее снега», и все чудоверцы приходят в изумление.
Пока что мы можем выбраться в этот мир только через материнское лоно, другой двери нет, однако я читал, что уже идут поиски иных возможностей; но если инкубатор, производящий человеческое потомство, над которым работают ученые, первыми придумают изобретатели в стране с антигуманистической системой правления, то предприниматели откупят и отнимут у профессоров проект такого инкубатора и наладят серийный выпуск homunculi – дешевых рабов и солдат. В ответ другие страны тоже начнут выпускать подобных homunculi, и едва я подумаю о последствиях, как мне хочется воскликнуть вместе со Швейком Гашека: «Как раз этого я и боялся больше всего на свете!»
Но я отклонился в сторону. Я не вполне уверен, что такое можно себе разрешить в самом начале рассказа: не так уж много читателей склонно пробиваться сквозь дебри повествования, большинство предпочитает, чтоб их заманивали в эту чащу сладостной, как звуки флейты, фабулой.
Итак, меня родила женщина. Мать моя была прилежна в любви и через три месяца после моего рождения уже приступила к созданию второго человека; она наделила мою сестру ногами и руками, осязанием и обонянием – всеми тонкостями человеческого естества, ибо человеку необходимо множество всякой всячины, чтобы здесь, в нашей видимой жизни, говорить и действовать. Моя бедная матушка ослабила себя двумя этими столь близкими по времени трудовыми достижениями. Жизненные соки ее устремились теперь вовнутрь, для меня их живительный источник иссяк. Я стал чахнуть, и, когда мне исполнилось полгода, пребывание на этом свете опротивело мне; без помощи сигарет я начал задыхаться от судорожного кашля, получил воспаление легких и приготовился взять у жизни окончательный расчет.
И когда моя дряблая кожа повисла на костях, как парусина на проволочном остове огородного пугала, вмешался мой дед. Он начал прикармливать меня – без него я бы умер; об этом он напоминал мне всю жизнь, даже на своем смертном одре он не забыл об этом.
Итак, я был рожден дважды. И хотя это название модного политического шлягера, такая штука, как второе рождение, существует на самом деле: второе рождение телесное и второе рождение духовное. Мое – было телесным, и рождал меня второй раз дедушка; это отчасти объясняет, почему мы были близки с ним все мое детство и долгое время потом.
В земной жизни человека бывают стечения обстоятельств, которые мы называем несчастьем. Несчастьем может быть, если человек не знает тех двух людей, которые дали ему жизнь. У меня получилось так, что с создателем своим я познакомился позже, чем с остальными сотрудниками, принимавшими участие в работе над моим «я», потому что я родился в Германии, а в Германии мужчины до последнего времени предпочитали быть на годы откомандированными за границу и сеять в мире зло.
В один прекрасный день я обнаружил, что больше не принадлежу пустоте, освобождающей меня от любых обязанностей, не растворен в нирване, а нахожусь в мире самообязательств, что я актер в фильме жизни и что у меня есть партнеры, к которым я должен приноравливаться. Когда я воспринял дедушку как своего партнера, мы жили в одиноко стоящем домике без усадьбы в деревне при дороге, и та дорога вела в Силезию.
Мой отец был на войне. Для меня война была местностью неподалеку от Берлина, деревней, находящейся под непосредственным присмотром императора Вильгельма и его супруги Августы-Виктории.
Моя матушка открыла в доме при дороге швейную мастерскую и захудалую мелочную лавочку, ибо унаследовала от дедушки стремление к приумножению богатств; но при передаче этого стремления по наследству где-то потерялась холодная расчетливость, соответствующая генам накопления.
Жилая комната в доме при дороге в Силезию была декорацией, фоном, на котором я пробудился к моей нынешней жизни. Пробудившись, я увидел, что теперь уж ничего не поделаешь – придется оставаться там, где я есть. При настоящем положении дел в нашей стране мне было бы куда лучше родиться месяца на два раньше, потому что тогда мой отец работал еще подсобным рабочим на суконной фабрике. Но когда я пробился на этот свет, мой отец был солдатом, а профессия подсобного рабочего на суконной фабрике не была его постоянной профессией, поэтому мне пришлось в ста двадцати трех анкетах, без которых моя жизнь превратилась бы в ничто, в графе социальное положение писать – сын пекаря. Но ведь у пекаря обычно бывает единственный подданный, его подмастерье, эксплуатируемый из эксплуатируемых; и тем не менее в пролетарской иерархии он подпадает под категорию мелких кустарей и относится к числу политически несознательных. И в самом деле, среди людей этой касты встречаются иногда политически несознательные, но мне и по сегодняшний день трудно поверить, что у нас, как когда-то в Библии, «грехи отцов падут до третьего и четвертого колена». Некая Фрида Симсон,[8]8
Одно из действующих лиц романа Э. Штритматтера «Оле Бинкоп».
[Закрыть] хорошо подкованная в кадровых вопросах особа, сказала, поглядев, что я тут понаписал, что именно в этом и проявляется влияние моего мелкобуржуазного происхождения от подмастерья пекаря. Мне остается только утешаться мыслями о Марксе, Энгельсе и Ленине, которым с отцами повезло еще меньше, чем мне; настолько не повезло, что Фрида, вероятно, вообще не приняла бы их в нашу партию.
Общая комната в домике при дороге в Силезию служила одновременно швейной мастерской, мелочной лавочкой и местом детских игр. Оба круга деятельности моей матушки разделялись тонкой занавеской. Жилая часть комнаты от деловой ничем особенно не отличалась, и площадкой наших игр служили обе половины комнаты и маленькая кухня, ибо мы, дети, подобно курам, не признавали границ земельных участков. Мы копались то здесь, то там, постукивая клювами и в жилой половине, и в мастерской или лавке, поклевывая зернышки впечатлений вместо семян травы или камушков.
Мелочная лавочка матери была наполовину государственным предприятием, но дохода не приносила в отличие от многих теперешних полугосударственных предприятий; империя кайзера влияла на торговлю матушки весьма отрицательно, и от тощих штук сукна позволялось отрезать куски, только когда покупатель предъявлял официально выданный «талон на получение нормированных товаров».
Матушка вела швейную мастерскую и мелочную торговлю с душой и вкусом. Все эти кайзеровские талоны она понимала не слишком буквально. «Барышня, вас еще не выдают по талонам?» – начиналась уличная песенка тех времен, и моя жизнерадостная матушка напевала ее. По своей доброте она то и дело отмеривала лишние полметра ткани, помогая покупателям выкроить кусочек на детскую рубашонку или курточку, зато при новых закупках полученных талонов не хватало, чтобы приобрести соответствующее проданному количество нового товара.
Штуки сукна на полках представлялись мне коровами. Эти коровы кормились бумажками. И если бумажного корму было мало, они худели. Так как суконных коров кормили бумажками, в них от месяца к месяцу содержалось все больше бумаги.
Наши детские фартучки ткались из тонюсеньких бумажных ниточек. Эту ткань пропитывали крахмалом, и мой новый передничек стоял торчком не хуже кожаного фартука соседа-кузнеца. Но под дождем мой передничек растворялся, как растворяются другие ткани в соляной кислоте.
И нитки с каждым годом рвались все легче, их качество становилось все хуже, а мы заблуждались, думая, что это возрастают наши силы, но в году тысяча девятьсот семнадцатом нитки наконец стали рваться так легко, что ими нельзя было привязать даже майского жука; пряжа обратилась в спряденный дым.
Кроме пронизанных бумагой материй и фартуков из грубой бязи в матушкиной лавке продавались ленты и тесьма для отделки дамских блузок. Ленты явно приходились сродни жестянкам, так холодно они шуршали. Зато в картонных коробках, словно в белых гробах, лежали мужские галстуки из довоенного времени; мягкие и шелковистые, они стали теперь не нужны – все мужское население носило застегнутое доверху серое полевое обмундирование, и в жизни и в смерти.
В середине войны наша лавка перестала получать иголки и булавки. Было официально объявлено, что весь металл используется, чтобы стрелять по врагу, и я бы охотно поглядел, как сколотый булавками пушечный ствол выдерживает стрельбу по врагу.
В деревне осталось мало мужчин. Деревенские женщины не знали, ради чего им теперь ходить, вытянувшись в струнку, с высоко поднятой грудью, как подобает немецкой женщине, – не для девушек же и не ради конфирмантов? Ну уж нет, такому сраму не бывать! Поэтому косточки для корсетов скучали в ящике мелочной лавки. Мы доставали их оттуда и строили из них заборы на полу в швейной мастерской. Если же в лавке все-таки появлялась женщина и спрашивала косточки для корсета, мы знали, что она приводит в порядок свое «боевое снаряжение» и ждет своего «отпускника».
Предстоящее появление отпускника из Франции или России было заметно и по другим признакам: матушке поручалось изготовить из юбки покойной бабушки для жены героя блузку в стиле королевы Августы-Виктории, с погончиками, металлическими украшениями и красными кантами, вырезанными из нижней байковой юбки старой сорбки. Матушка шила всю ночь напролет, заказчица с благодарностью принимала новый наряд и переходила в ковчеге любви из стада тощих в стадо тучных.
Увы, часто не проходило и недели после наполненного любовью отпуска, как прибывало извещение о героической кончине героя: «Пал смертью храбрых на поле чести». Вдова перекрашивала отделанную красным кантом блузку в черный цвет, и вдовьи стенания возносились к небесам.
Плата, которую получала матушка за переделку бабушкиных юбок в «блузки для встречи героев», не находилась ни в каком соотношении с затраченным ею временем, если, конечно, не выражалась в виде творога из снятого молока или нескольких яиц; а так как из мелочной лавки в несгораемую кассу деньги поступали исключительно каплями – пфеннигами, матушке нелегко было прокормить нас в годы войны и уберечь от болезней, тем более что в войну у нас появились еще два брата, так называемые отпускные.
И снова за тем, чтобы мы не зачахли, следил дедушка. Я познакомился с ним, когда он наносил нам «визиты ради вспомоществования», и его бытие распространялось на мое бытие.
Дедушка, в прошлом сорбский конюх, подвизался в качестве барышника, барского кучера, возчика пива, шахтера, управляющего имением, фабричного рабочего, а когда мы с ним познакомились, он обозначал свою профессию словами мелкий торговец; люди на Лужицкой равнине называют таких бродячими купцами.
В течение всего своего земного пути дедушка искал соответствующую его природе деятельность, но так и не нашел ее, мне по крайней мере кажется, что он ее не нашел. Он обладал многим из того, что свойственно обличью поэта, и трудно установить, какой малости ему недоставало, чтобы сделаться поэтом. Сегодня мне думается, что виной тому был не недостаток книг, ведь существовали же поэты милостью одной только природы, например Сулейман Стальский, которые жили без книг, а стали великими. Недоставало дедушке ума? Или веры в себя? Видел ли он смысл жизни в том, чтобы обладать осязаемыми ценностями и приумножать их?
И в те времена, когда дедушка бродил по округе в качестве бродячего купца, жизнь его была вполне подходящей для поэта, но дедушкины поэмы состояли только из разговоров. Дедушка вовлекал людей в разговоры, чтобы заставить их покупать; он торговал главным образом сукном военного производства.
Свои сукна дед покупал у фирмы «Шветаш и Зайдель. Ткани и сукна en gros»,[9]9
Оптом (франц.).
[Закрыть] в Хаммерлахе. Здесь, за городом, русло Шпрее расширялось наподобие пруда. Мамины родители жили в старинном доме, улица У мельницы, номер один. Бабушка открыла в этом доме торговлю пивом в бутылках и овощами. Поэтому дедушка арендовал осенью яблони, растущие вдоль дороги между деревнями Грауштейн и Шёнхейде, и скупал у крестьян овощи. Тем самым он освобождал их от необходимости ездить в город. Это было важно для крестьян, так как лошадей забрали на войну, а полевые жандармы «патриотизировали» все надувные шины с велосипедов. Взамен владельцам велосипедов позволили приобрести эрзацшины в виде скрученной пружинящей проволоки. Спирали укреплялись на ободе колеса, и езда на велосипеде превращалась в муки мученические, треск и шум стоял, как от теперешнего мотоцикла с отпиленной выхлопной трубой.
Итак, дедушка выступал в качестве передвижной меновой и торговой лавки. Каждый день он проходил по песчаным дорогам равнины от двадцати до тридцати километров, таща за собой тележку. Тележка была нагружена фруктами или овощами, а сверху лежали дедушкины чемоданы с товаром – труд для него непосильный, но, разумеется, выгодный.
С долгим скрежетом останавливалась дедушкина тележка на нашем дворе, и дедушка целовал нас. Он покручивал светлые пепельные усы и подмигивал нам, он извлекал из ящика на тележке кусок сала или кружок колбасы, комок масла, горшочек тощего творога или кувшинчик пахты, украдкой тащил эти редкости к матушке на кухню – шкафы для хранения припасов на этой кухне были, как правило, пусты настолько, что даже мухе не нашлось бы там крошки для пропитания.
Затем дедушка показывал нам свои музыкальные карманные часы и давал поиграть компасом. Когда нам надоедали «технические чудеса» и пробуждалась жадность к новому, дедушка хватал нас, переворачивал вниз головой, и мы бегали ногами по потолку низкой чердачной каморки. Мы видели под собой стол и комод с фаянсовым тазом и кувшином для умывания, привычный мир переворачивался и был по-новому привлекателен, и тогда во мне росло стремление переменить точку зрения на мир, привитую мне воспитанием, на поэтическую.
Когда созревали яблоки на яблонях, дедушка являлся из города в старом овчинном тулупе со взятым взаймы биноклем. Он поселялся у нас на несколько недель. И если скипетр и корона на картинке в нашей книжке сказок превращали бородатого человека в короля, то овчинный тулуп и бинокль превращали нашего дедушку в яблочного сторожа, и нас восхищала в отце нашей матери его способность быть сегодня одним, а завтра другим.
По скрипучему щебню дороги двигались крестьянские телеги, военные машины, пешеходы и колонны военнопленных. В военное время, когда все во всем нуждались, находилось немало людей, готовых воровать яблоки – так им опостылело свекольное повидло. Дед охранял арендованный урожай днем и ночью. Днем сторожить арендованный урожай помогал бинокль, а ночью – овчинный тулуп; дед закутывался в тулуп, ложился в придорожную канаву и «ждал» яблочных воров.
Днем мне разрешалось вместе с дедом нести яблочную вахту. Когда на шоссе было пусто, дедушка вешал бинокль мне на шею. Бинокль был для меня волшебным стеклышком: с его помощью я приближал к себе далекие деревья, кусты, яблоки, церковную башню и осенние цветы. Я отодвигал стекло от глаз, и цветы и яблоки исчезали. Они съеживались где-то вдалеке. Я переворачивал бинокль, и церковная башня и деревья уменьшались и исчезали в бесконечности.
Волнующая игра с углом и точкой зрения. Она занимала меня в юные годы и занимает до сих пор, ибо я установил, что многие великие умы, ходившие по нашей земле, смотрели на жизнь куда более всеобъемлющим взглядом, нежели мы, и делали это единственно при помощи фантазии, без всей той аппаратуры, от веры в которую не можем отказаться мы, люди века науки. Но некоторое время тому назад я узнал, что все изобретенные нами аппараты не что иное, как ставшая осязаемой фантазия, и на этом круг моих наблюдений замкнулся.
Как-то раз помещичье потомство проезжало в коляске мимо арендуемых дедушкой яблонь, и благородные недоросли стали сбивать палками и кнутом золотой пармен и ранеты к себе в коляску. Дед встал посреди шоссе, раскинул руки и пошел навстречу коляске – он схватил лошадей под уздцы и крикнул жующим яблоки дворянским деткам: «Платите или я донесу на вас!»
Дети помещика вывернули карманы. Кучер тоже высыпал мелочь из кармана ливреи. «Твоих денег мне не надо», – сказал дед кучеру. Но деньги дворянских детей он взял и собрал сворованные яблоки, а когда коляска уехала, сказал мне: «Вот так и наживают деньги!»
Дедушка подарил мне собранные монетки. Я вспомнил о своей копилке – блестящей ветряной мельнице. Копить деньги – добродетель, внушала мне матушка: не лги, не укради, копи деньги. Но меня развлекало только, что крылья жестяной мельницы крутились, когда я опускал монетку в щель на крыше.
Было воскресенье, время приближалось к полудню. В бинокль мы увидели закутанную во все черное старушку. Она возвращалась с церковной службы. В белом узелке у нее был молитвенник, а кроме того, она несла плетеную корзинку и в эту корзинку складывала сорванные яблоки – видно, ей не хотелось совсем без ничего возвращаться из церкви к себе на кухню.
Мы лежали в придорожной канаве. Осенние мухи жужжали вокруг нас, пели жаворонки. Женщина подходила все ближе и ближе. Дедушка задержал ее и сказал: «По-моему, ты занимаешься воровством, женщина!» Старуха проговорила плачущим голосом: «Ах, добрый человек, не доноси на меня. Я подарю мальчику денежку, да, да, подарю».
Она порылась в глубинах своего кармана на юбке и дрожащими руками вытащила вышитый кошелек, она плакала, и мне стало ее жалко. Я отказался от протянутого мне талера – такой поступок шел наперекор дедушкиной последовательности, его твердолобому упрямству, его стремлению к наживе. Это упрямство и стремление к наживе породили много злого в моем дедушке и в нашей жизни, но тогда я еще не ведал этого, особа дедушки была для меня священна и непогрешима.
Так как я не брал отступного талера у старухи, дедушка выбранил меня и добавил: «Хорош делец из тебя выйдет, малый!» Он сгреб талер, отобрал у старушки яблоки и сказал: «Ну ступай, старая карга, интересно, тебе бы понравилось, если бы я отряс яблони в твоем саду!» Старуха закивала головой и заковыляла своим путем. Пели жаворонки, мягкие звуки их песни шариками скатывались на нас, и каждое дерево, на которое опускался жаворонок, принадлежало ему.
А в другой день (детство не знает дат) я увидел через стекла перевернутого бинокля крошечного человечка, бредущего по шоссе. Человечек пригибал граблями ветки яблонь и набивал сорванными яблоками карманы.
Я передал бинокль деду. Дед поглядел в бинокль и выругался, потому что вором оказался мой другой, сводный дед Юришка, он жил в нашей деревне. Оба дедушки не очень дружили между собой, и, когда дед Юришка подошел, дед Кулька произнес: «Какой у меня благородный родственник!»
Дедушки спорили по-сорбски. Они говорили со злобой, растягивая слова, поэтому я мало что понимал, но слово «черт» оба повторяли по многу раз. Потом дед Юришка необычно ласково обратился ко мне и стал смотреть в бинокль на деревню Шёнхейде, а дед Кулька вытаскивал у него из карманов яблоки. Потом дед Юришка спросил у меня, кто дал нам бинокль, и я, ничего не подозревая, сказал ему. Два дня спустя мы остались без бинокля, ибо все подзорные трубы должны были быть сданы, все подзорные трубы необходимы на войне, чтобы наши герои могли лучше разглядеть врага.
Это был первый дипломатический конфликт в нашей семье, но в ту пору он не перешел еще в семейную войну, ибо над всеми висела большая война.
Я целые недели проводил в городе у бабушки с дедушкой. Там я «лишен не столь многого», говорила матушка. Я не знал, чего я был лишен. Человека нельзя лишить того, о чем он не знает. Я не знал, что такое пшеничный хлеб, и не желал его, я не знал, что такое шоколад, и не испытывал никакого интереса к нему. На свете существует так мало подлинных и так много мнимых потребностей. Я мечтаю о том, чтобы нам, коммунистам, взяться и помочь людям отличить подлинные потребности от мнимых, пусть даже на этом снова «пострадает наша популярность».
В ту пору во мне тоже пробуждались потребности, настоящие и ненастоящие, так как дедушка брал меня в сорбские деревни близ Хойерсверды, где жили его родственники и давнишние знакомые и где была «житуха». Крестьяне из сорбских деревень охотно покупали у бродячего купца-сорба, с которым они могли торговаться по-сорбски. Дед был словоохотлив и остроумен, умел восхвалять женскую красоту; он говорил, например: «Майка, гляжу в твои глаза и горюю, черт дернул меня жениться». И продавал ей передники из миткаля.
Я слушал, как дедушка завлекал покупателей. Мои глаза поглощали новые места, предметы, действия, а сам я, маленький человечек, попадал на глаза женщин, охваченных материнскими чувствами. Меня угощали бутербродами, гороховой колбасой, и впервые в жизни я попробовал там малину.
Однажды мы взяли с собой бабушкину корзину, которую она обычно носила на спине.
– Зачем тебе мой короб, Матес?
– Подожди, Ленка, увидишь.
Мы пошли в деревню под названием Прошим. Пруды за деревней заросли цветущими водяными лилиями – материализованной нежностью.
Дедушка снял ботинки, дедушка снял чулки. Он подвернул брюки и подбодрил меня. Мы залезли в воду, мы рвали лилии, лилии, лилии и бросали их в короб.
Вода доходила мне до пояса, но дедушку ничто не останавливало. Он рвал лилии и дорвался до того, что живот его уже был в воде, а я погрузился в воду по грудь, но в этот час не было для нас ничего важней белоснежных водяных лилий.
Мы наполнили корзину. Мы стащили с себя штаны. Мы положили их сушить на солнце, а сами в одних рубахах устроились поблизости в камышах. Дедушка сказал: «Бабушке об этом говорить не обязательно», и я исполнился гордости, что у меня с дедушкой есть мужская тайна.
Пахло прудовой тиной, жужжали мухи, мелькали стрекозы, крякали дикие утки, всплескивали зеркальные карпы, а в деревне кукарекали петухи. Все вместе переплеталось во мне и выливалось в состояние духа, которое теперь я называю лето в детстве. Я могу вернуть это настроение, если лягу на берегу пруда и если сумею, как прежде, вслушаться и вглядеться в жужжание и мелькание, кряканье и плеск. И пусть я услышу другие волны звуков и запахов, мне кажется – эти волны хранят в себе нечто от того, что я называю детством.
Мы принесли лилии домой. Я ничем не выдал, как мы их добыли, но бабушка сказала: «Мальчишка мог утонуть у тебя за спиной, ты седеешь и глупеешь». Бабушка пододвинула чан для мытья, притащила тазы, а под конец мы заполнили лилиями и ведра для воды; белое цветенье осветило бабушкину темную овощную лавку.
Приходили одинокие солдатки. Они покупали наши водяные лилии. Они улыбались и, быть может, вспоминали последнюю прогулку с любимым. Фабрикантши посылали своих горничных и кухарок в бабушкину лавку для бедняков, и те покупали наши лилии как необычное украшение для гостиной своей милостивой госпожи. Мы притащили целую корзину радости в шинельно-серый фабричный город. И дедушка приговаривал, слушая позвякивание кассы: «Вот так наживают деньги!»
Весной в нашем пруду в неглубокой воде возле берега кишмя кишели колючие рыбешки, их называли колюшка. Самцов колюшки украшала по-весеннему пестрая грудка, они висели в воде перед самочками, строящими гнездо, они дрожали, они ждали, когда самочки начнут метать икру, и волны сжатой жизненной силы пробегали по телу рыбок.
Мы увидели застывших в брачном напряжении самцов, и тут дедушке захотелось поддержать нашу жизнь, потому что была война, люди голодали и мы тоже голодали. Мы наловили уйму поглупевших от любви самцов колюшки и набили ими наш мешок, с которым ходили мешочничать, и потащили их домой.
Дед сварил рыбешек. Он варил их очень долго, пока не разварились колючие плавники, вода стала липкой и тягучей. Когда варево охладили, густой сок застыл в студень, мы называли невидимых теперь рыбок рыбным заливным. Мы ели хлеб с рыбным заливным, а в хлеб добавляли тогда древесную муку, чтобы при выпечке хлеба становилось больше. После еды дед обтер усы и сказал: «Таким вот образом и раздобудешь обед».
Несколько самых красивых рыб дедушка оставил в живых. Он посадил их в стеклянный сосуд для золотых рыбок – сосуд был вычурной формы, дедушка приобрел его на аукционе.
Дедушка поставил аквариум на бабушкин комод перед зеркалом. Колюшки плавали в воде, и зеркало удваивало их число. Дедушка заметил: «Красивей золотых рыбок Шветашихи», – речь шла о золотых рыбках на этажерке у жены торговца сукном Шветаша, чем все и объясняется. Тот барочный стеклянный сосуд для рыбок я сохранил на память. Он принадлежит к числу предметов, сохраняемых на память, на которые мы постоянно натыкаемся у себя в доме, и вместе с другими бесполезными вещами, «обступающими» нас, он свидетельствует о моей так и не побежденной до конца сентиментальности.
Матушке хотелось повидать меня, и дедушка направился с тележкой, полной разных полезных вещей, в деревню. Я сидел на тележке – стук колес, ритмичный шаг дедушки, шуршание и шорохи сосен, щебетание птиц сливались в мелодию, и мелодия эта обрушивалась на меня.
До тех пор я слышал только хоралы и детские песенки. Хоралы извлекали из изогнутой меди престарелые музыканты духового оркестра в нашей деревне, когда опять кто-нибудь из воинов пал смертью героя на поле чести. Моя дорожная музыка, рождаемая ручной тележкой, была могучее хоралов; когда я позднее слушал симфонии, они не поражали меня, ничего непостижимого в них не было, я знал, что они сложены из свиста ветра, шума деревьев, шелеста трав, жужжания насекомых и плеска воды, что они висят в воздухе над всей мировой равниной и их услышит каждый, кто может их слышать. Я слышал их тогда, и я слышу их сейчас, но не в состоянии облечь их в форму точек на бумаге, и мне не удается связать их и подчинить себе штрихами такта. Поэтому я пытаюсь уловить и выразить их между фраз при помощи скрипучего словесного искусства, делая это в меру своих сил, и восхищаюсь Бетховеном, Моцартом, Шубертом и другими благословенными властителями музыки.
Веселой и яркой была моя жизнь во времена, когда я познакомился с моим дедушкой: мы жили с ним, как на другой планете, никогда не надоедали друг другу. У нас во всем царило согласие, потому что дедушка любил меня любовью сильнее отцовской и разрешал мне все, и на многое глядел сквозь пальцы, и все, с чем мы встречались, и те отрезки жизни, что удавалось нам схватить, – все будоражило нас, особенно меня, ведь я был новичком на свете, и мою жизнь, как молодой листок дерева, еще покрывал серебристый пушок.
Война длилась четыре года. С каждым годом взрослые все больше говорили о нехватках, голоде, страдании и смерти. Когда мы ждали конца войны, нам казалось, что сама земля содрогнется или хотя бы один день будет дрожать от радости, но ничего подобного не случилось, весть о конце войны прошла по стране как слух, а мы привыкли с опаской относиться к слухам.
Люди радовались, что уцелели на земле, в нашем зримом мире; одни радовались, что их не застрелили, другие – что не умерли с голоду. Надутые патриотизмом слова на время вышли из моды, военное искусство и искусство голодать стали непопулярными.
Изголодавшийся, оборванный и обовшивевший приплелся с войны мой отец. Его называли вновь обретшим родину, и эти елейные слова – обретение родины – послужили, по-моему, зародышами грядущих националистических фраз.
Итак, отец был дома. Нас с сестренкой выставили из матушкиной спальни в маленькую комнатушку на чердаке. Это означало, что отец вернулся к нам навсегда.
– Навсегда, мама?
– Навсегда, навсегда!
В зале трактира у дедушки и бабушки Юришек состоялся бал вновь обретших родину. Вот опять слова – зародыши патриотической высокопарности! Отец влез в свой жениховский костюм. Черный костюм висел на нем как на вешалке, матушка облачилась в бледно-голубое платье, она держалась необычно прямо в своем корсете и показалась нам чужой и далекой.
До дня бала вновь обретших я не знал чувства страха. Меня посылали к соседям, я шел в темноте и передавал, что меня просили передать, но в тот вечер скверная танцевальная музыка долетала до нас, до нашей комнатки на чердаке, и мне стало страшно. Может быть, из-за того, что мама вдруг сделалась совсем чужой, может быть, потому, что, уходя от нас, она втайне радовалась, а может быть, оттого, что мы не понимали, откуда взялась эта радость.
На столике стояла маленькая карбидная лампа. Она стояла в горшке с водой. Карбид, образующий газ, кончался. Я лежал в постели рядом с сестрой и глядел на все уменьшающееся пламя. Я боялся, чувство страха было так ново для меня, я не шевелился; иногда мне кажется, что не за горами день, когда таким новым опытом будет для меня смерть, и что она заставит меня так же оцепенеть, оцепенеть на тысячелетия.
Но и тогда я думал, что, как только погаснет маленькое карбидное пламя, погаснет и моя жизнь. Я вспомнил, что еще владею своим голосом, и закричал. Проснулась сестра, я заклинал ее покачать лампу.
Сестра покачала лампу, а я лежал, сам себя гипнотизируя, и кричал. Язычок пламени увеличился, и я почувствовал, что моя жизнь удлинилась на какой-то срок.
Сестра заснула, и снова пламя лампочки уменьшилось, и снова я закричал и разбудил сестру, я умолял ее потрясти лампу, она потрясла ее, но я все равно кричал, кричал и кричал.
Дверь нашей комнатки отворилась, словно ее отворил ветер. В комнате стояла мама. Она сердилась, ее сердитое лицо подходило к чужому платью. В крошечной комнатке мать казалась великаншей. Она схватила меня левой рукой, вытащила из постели и ударила, ударила правой рукой, на которой была надета тюлевая перчатка; я почувствовал на голой попке круглую жесткость маминого обручального кольца, и мой голос тоже оцепенел.