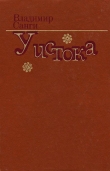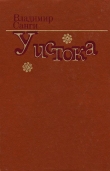Текст книги "Романы в стенограмме (сборник)"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Белый шпиц Магера знал меня и не лаял, когда я приходил. Под зеркалом в прихожей стоял на задних лапах черный шпиц и смотрел на меня просящим взглядом стеклянных глаз. Это было чучело магеровского издохшего шпица. Он стоял на задних лапках, «служил», а в передних лапах держал плевательницу, и в этой плевательнице был насыпан чистый белый песок. Когда мы с дедушкой ходили к Магеру, я всегда доставлял Магеру удовольствие и плевал в плевательницу, которую протягивало мне чучело собаки, и Магер каждый раз помирал со смеху, глядя на это. Он смеялся скрипучим смехом, напоминающим крик коростеля, и трудно сказать, смеялся ли Магер из предупредительности по отношению к клиентам или его смех был результатом старческой немощи. Но у всякого чудачества есть свои причины, и, если бы в каждом случае нам были известны эти причины, мы больше бы сочувствовали чудакам и меньше бы потешались над ними.
Магер был импотентом, и жена, которую он любил, ушла от него. Он долго тосковал по ней, потом взял другую жену, и она тоже бросила его. Вторая его жена была состоятельна, и Магер не побрезговал тем, чтобы извлечь для себя выгоду из ее ухода. Так как его любовь была отвергнута с презрением, из молодого Матера с его скрытым недугом выработался тот старый холостяк, которого я знал и который, чтобы опровергнуть слух о своей импотенции, дважды в неделю посещал бордель, потому что бордель помещался на той же улице, где он жил, где он возился со своей стряпней из параграфов, где за ним наблюдали, где про него знали все.
Вижу, что я отвел в своем рассказе истории стряпчего Магера больше места, чем ей подобает. Я допустил, чтобы человек, в жизни помещавшийся на галерке, очутился на сцене. Прошу читателей извинить меня и прошу их вместе с тем подумать – быть может, существует определенное отношение между писателем и действительностью, еще не изученное нашими литературоведами, и, может быть, я уполномочен жизнью вызвать к маленькому Магеру ту толику сочувствия у будущего, в котором ему отказало настоящее.
Наша тяжба с Зудлером могла решиться одним-двумя заседаниями суда, если бы после протоколирования обстоятельств дела опросили тех людей, которые могли показать, что наша кобыла принадлежала нам, но этого не сделали, потому что в окружном городе было трое или четверо стряпчих, каждому из них нужно было существовать, и они превращали процессуальную муху в процессуального слона, и адвокат, приводивший тяжбу к концу с наименьшим количеством судебных заседаний, имел наименьший успех.
Наша тяжба поглотила множество денег, данных в задаток, и моя мать жаловалась, но дедушка одергивал ее: «Замолчи, я знаю, что делаю, я был у Магера».
На последней стадии процесса я тоже присутствовал на суде и до сих пор не понимаю, как удалось Магеру протащить меня в зал суда, как он добился, чтобы меня выслушали; наверно, дал взятку.
Вот дверь, через которую в течение года проходило несусветное количество людей, выигравших или проигравших дело. На двери висело объявление, где были перечислены назначенные на сегодня дела в порядке их слушания, и там было написано: Зудлер против Штритматтера – конокрадство.
Я прочел и испугался. Неужели мой дедушка конокрад? Но разве конокрад не хладнокровный, жестокий и кровожадный разбойник с черной бородой, косящим глазом, с ружьем и краденой женой? Не меньше двух жандармов нужно, чтобы притащить его в город и поставить перед судом.
Нет, конечно нет, Магер доказал, что дедушка никакой не конокрад, а порядочный человек и ничем не запятнанный житель нашей деревни, но затем этот маленький человечек широким жестом указал на меня и сказал: «Конокрад? Вот он сидит. Допросите его!»
Я побледнел и ждал, что меня тотчас возьмут под стражу, но маленький Магер успокаивающе помахал мне рукой, и председательствующий явно против воли вызвал меня вперед, всем своим видом показывая, что совершает нечто совсем ненужное. Он спросил меня: «Тебе дедушка велел гнать кобылу домой?»
И я ответил: «А что, я и сам с усам!» – и слушатели расхохотались, услышав мой ответ, а председатель пригрозил удалить слушателей из зала суда. Стряпчий Хундертмарк, защитник Зудлера Карле, выразил протест против привлечения несовершеннолетнего к участию в судебном заседании, но каким-то образом мое высказывание оказало влияние на исход дела, и все это благодаря Магеру.
Мы выиграли процесс, и я тоже стал уважать Магера, я его почти полюбил за то, что он такой умный и искусный в толковании закона, но первого школьного дня после рождественских каникул я боялся, потому что думал: в школе мне теперь дадут прозвище конокрад, но случилось совсем иначе. Я стал на несколько дней героем класса, и все мои товарищи хотели гулять со мной по двору, положив руку мне на затылок. У нас, в деревенской школе, это было внешним выражением дружбы, а если при этом всем остальным говорилось: «Мы друзья, мы друзья, бе-е-е, бе-е-е, бе-е-е», то это было выражением такой дружбы, которая сегодня обозначается словом «нерушимая».
Никогда в жизни не имел я столько друзей, как в этот раз, все мои школьные товарищи почитали за счастье прикоснуться ко мне, признанному в судебном порядке конокрадом. Я был сбит с толку, ведь на уроках закона божьего всякий разбой определялся как злодеяние; впрочем, гнев господень не миновал меня и выразился, вероятно, в том, что ни одна из девочек не коснулась рукой моего затылка, и та, на которую я давно заглядывался, тоже не сделала этого, нет, она не сделала этого.
Теперь наша кобыла снова была у нас, и нам полагалось быть счастливыми, ибо человека томит тоска по счастью и он воображает, что стоит ему получить вон тот автомобиль, вон тот домик среди зеленых деревьев да вон тот сад на берегу реки, этот костюм да те ботинки, стоит ему перещеголять своего соседа в достатке, и он будет счастлив и нечего ему будет больше желать; и хотя нам кажется, что существуют тысячи и тысячи видов счастья, слово «счастье» не имеет множественного числа, а жизнь не очень-то озабочена недиалектическим представлением человека о счастье. И жизнь идет своим путем, и она в своем праве, и она не имеет конца, и мы вовлечены в ее поток, и все, к чему мы привязываемся сердцем, преходяще, и ценность всего меняется, и то, что сегодня делает нас счастливыми, заставит нас плакать прежде, чем трижды прокричит петух.
Дедушка и отец выиграли у Зудлера тяжбу, а это мало кому удавалось до тех пор. Дедушка и отец мирно и дружески жили друг подле друга, и мы верили, что такое состояние – прочное состояние, откуда нам было знать, какие стечения обстоятельств образовывались в том мнимом ничто, которое человек называет будущим; они скапливались, уплотнялись и словно туман подымались из бесплотной пустоты, чтобы в противовес отсуженной кобыле обрести плоть для нас в виде паровоза германской имперской железной дороги.
Дедушка с моим младшим братом отправились в крытой брезентом повозке на железнодорожную станцию неподалеку от стеклодувни. Они приехали туда за товаром для мелочной лавки, и дедушка отпряг лошадь с одной стороны. Он намотал вожжи на ступицу колеса и для «двойного обеспечения» поставил возле кобылы моего брата. Но чем поможет человеку, чем поможет наиумнейшей плановой комиссии самый тщательный, заранее составленный план, если вдруг начнет действовать непредусмотренный X, который нельзя было скормить никакому компьютеру?
И этим X для моего дедушки оказалось то, что он недооценил благоговения моего брата перед машинами.
К станции подошел товарный состав, и паровоз пленил моего брата: лошадей он видел каждый день, а паровозы редко. Он «дезертировал» и оставался у паровоза, пока тот не тронулся. Он наблюдал за цилиндрами и рычагами. Машинист спустил давление в котле; шипя и свистя, пар вырвался наружу. Шипение и свист были испытанием для нервов нашей кобылы, и нервы ее этого испытания не выдержали, она бросилась прочь, волоча за собой на одной постромке повозку. Никто и ничто не могло остановить ее, в ста метрах от станции ее гнал вперед грохот и треск волочащейся за ней повозки, гнал к спасительной конюшне, к дому. Повозку кидало из стороны в сторону, и наконец она зацепилась за березу, росшую на тропинке посреди пастбища. Ствол березы заклинило между правым передним колесом и его осью, от толчка дышло резко взметнулось и вонзилось в бедро лошади.
Лошадь погибла. Ничего особенного для тогдашней деревни в этом не было, и деревенские приняли это так же, как сегодня принимают автомобильную катастрофу.
Кто-то из шахтеров увидел на выгоне разбитую повозку и сообщил об этом нам, сообщение гласило: «Там ваша кобыла приклеилась к березе».
Я поехал туда на велосипеде, поглядел на распухшие мускулы лошади, ощупал перелом. Кобыла застонала. Я не стал ждать, пока придут дедушка и брат, и снова сделал то, чего мне не приказывали: я помчался в деревню и позвонил по телефону живодеру.
Я и сам с усам!
Кобылу увезли, и сквозь свои слезы я увидел слезы на глазах деда, не слезы сострадания, а слезы гнева. Дедушка был в ярости на самого себя, на свою собственную недальновидность.
Разве не был он человеком, который всегда все взвешивает? Был, разумеется, был, он действительно был таким, но от этого возрастала его самоуверенность, и его самоуверенность вознеслась до вершин дубов, что стояли перед окнами его комнаты, но «век живучи, спотыкнешься идучи»…
И снова мы с бабушкой отправились по соседям одалживать лошадь, и снова необходимо было ехать на конную ярмарку, и снова мы думали: вот появится на дворе новая лошадь, и все опять наладится, и наше счастье будет полным и прочным.
Снегурочка
Дядя Филь работал в городе, но работать он не любил, больше всего он любил вообще не работать. В конце недели он приезжал в гости к нам и к бабушке с дедушкой. У него были влажные ладони и обкусанные ногти, мы, здороваясь, очень неохотно протягивали ему руки, и, видя, как мы боимся его влажных пальцев, дядя Филь хохотал как леший.
Дядя Филь во всем хорошо разбирался, и наши уши впитали все, чем он бахвалился и похвалялся. Мы думали тогда, что жизнь в городе благородна и занимательна, а наша жизнь в деревне ничем не примечательна и скучна.
На губах дяди пенилась тонкая ложь и пузырилась грубая полуправда. Слушая шитые белыми нитками истории дядюшки, взрослые перемигивались, но дядюшку это мало трогало; он купался в лучах нашего детского восхищения, и это удовлетворяло его; он проходил героем во всех своих историях, побеждал своих противников в словесных схватках и расстреливал их ругательствами и божбой, ибо грубые слова умеют прикидываться вероятной правдой и сходить за поступки.
Случалось, дядя спускал свой недельный заработок уже в пятницу, тогда он являлся к родителям с пустыми карманами и вынужден был сочинять всяческие небылицы. В этих рассказах бедный дядюшка выступал жертвой разбойничьего нападения, а нападали на него весьма часто, и эти нападения были весьма драматичны.
«Ты что, зарезать меня хочешь?» – спрашиваю я. «Зарезать», – говорит. «Нападаешь на меня сзади, чертова задница?» – «Спереди слишком опасно, боюсь», – говорит. «Бросай нож», – кричу я. Ну, он ножа не бросает, мне ничего не остается, как кинуться на него; я выкатываю глаза, как лев, я топаю ногами и ору: «Убирайся прочь отсюда!» Он роняет нож и убегает, и мои деньги с ним.
– Где нож, дядя Филь, покажи нож!
Бедный дядя Филь еще дальше углубляется в дебри лжи: нож он зарыл, его теперь не найти, врет он.
– Представляете, что будет, если жандармы схватят меня с разбойничьим ножом!
Отец и рабочие-шахтеры пили пиво на кухне и потешались над дядей Филем и его историей, но бабушка защищала своего любимца Филя и колко замечала: «Он лучше знает, он же был там». Отец с рабочими смеялись над бабушкиной простотой, а бабушка ругалась: «Тьфу на вас!»
Она уводила дядю Филя наверх, в их с дедушкой комнату на торжественную трапезу в честь его приезда, и дядя Филь начинал быстро есть, но, хотя ел быстро, ел он долго.
Подобно тому как нити грибниц оплетают корни деревьев, страсти и пороки опутывают все клетки человеческого организма, и никто не спрашивает человека заранее, до того как он явится на этот свет, сколько страстей и пороков он себе желает; один человек тащит за собой много страстей и пороков, а другой влачит за собой всего одну страсть и один порок, но сочеловеки твои жаждут знать, справляешься ли ты со своими страстями и пороками, иначе они повергают тебя наземь и затаптывают обратно в землю.
Дядя Филь был лишен страстей, зато сгибался под тяжестью трех главных и многих второстепенных пороков, и главными его пороками были чтение, курение и карточная игра.
Если после еды ни отец с дедушкой, ни обе бабушки не расположены были играть в карты, дядя Филь разводил пары, и казалось, клубы табачного дыма сочились у него не только изо рта, но и из карманов и даже из петель куртки. Читал дядя Филь, как ел: много и быстро. Из букв и дыма он строил свой мир и исчезал в нем; и так же, как не шло ему впрок съеденное, не шло ему впрок и прочитанное; он принимал к сведению, но не воспринимал сведений.
Сначала дядя Филь читал сложенные в стопку номера «Горной вахты», а «Горная вахта» была семейной газетой, и кто ее выписывал, тем самым страховал свою жизнь, и близкие подписчика получали б несколько сотен марок «в случае, если бы застрахованное лицо покинуло жизнь посредством смерти», так там было написано.
После «Горной вахты» дядюшка Филь принимался за «Журнал мод для германского дома и семьи» Вобаха и прочитывал его тоже; он разворачивал образцы выкроек и читал на этих выкройках указания, как сшить плиссированную юбку самого изысканного покроя, ибо он читал все, что могло быть прочитано, он укладывал все прочитанное в свою черепную коробку, и эта черепная коробка поросла взъерошенными и, как правило, не очень чистыми волосами.
Затем дядя Филь возвращался к читаным-перечитаным книгам: это были два тома «Домашнего врача для здоровых и больных дней». В своей жизни я видел больных людей, но ни разу не видел больного дня. Оба тома лежали на чистом белье в матушкином комоде, и их называли Хюльзеновы книги, потому что их автора звали доктором фон Хюльзен. Доктор фон Хюльзен сообщал дядюшке посредством цветных таблиц об устройстве мускулов, костей и половых органов человека, особенно охотно дядя изучал внутреннее строение женщины и в противоположность матушке ничего не имел против, если мы заглядывали ему через плечо.
Человек состоит в основном из незаполненных полостей, объяснял доктор фон Хюльзен, и химические составные части двуногого имеют стоимость всего лишь в шесть марок восемьдесят пфеннигов золотом.
Оценка человека как результата научных исследований определяла весь ход дядюшкиных речей, и он то там, то сям приправлял свои рассуждения любимым изречением, а рассуждения его состояли из вычитанных отовсюду научно-популярных сведений. «Мода оказывает влияние на человека лабильного по складу характера, а людей с твердым характером, не поддающихся моде, она превращает в посмешище, а все это вместе взятое штучки дельцов. Да, да. Что есть человек? Пустые полости и только, химического содержимого, если его вытопить, всего на шесть марок восемьдесят».
Мы слушали эти подсчеты, и нас бросало в холод, но мы не подозревали, что пройдет немного лет и наши озверевшие соотечественники применят научные рассуждения фон Хюльзена на деле и будут вытапливать из человека содержимое его тканей. Мы не подозревали, что ученые, тупо уставившиеся в узкий отрезок своей науки и видящие в человеке то, что видел в нем доктор фон Хюльзен, становятся иногда более страшными злодеями, чем круглые невежды.
После Хюльзеновых книг дядя Филь читал «Книгу для чтения», книгу, которая сопровождала деревенских школьников во все годы их учения; для интересующихся читателей и потому, что я таскал ее в школу, как Библию, каждый день, я расскажу немного об этой книге, а неинтересующиеся читатели могут продолжить чтение с того места, где я закончу свой рассказ о ней.
«Книга для чтения» содержала краткий обзор прусско-бранденбургской истории, неизбежные даты рождений, восшествий на престол и смертей неизбежных королей и полководцев, и, судя по этому историческому очерку, немцы появились на этой земле ради того только, чтобы послужить удобрением для истинного пруссачества.
Исторический отдел включал в себя и зоологическую главу, где весьма важным животным был представлен обыкновенный еж, вероятно, потому, что в школьном букваре, по которому мы учились читать, первой буквой алфавита была буква «е» в слове «еж», за ежом следовали некоторые сведения о домашних животных, в особенности о корове, как источнике молока, и о лошади и ее значении, как обрабатывающей поле скотины, а также в качестве боевого коня; зоологическая глава заканчивалась описанием белки – обезьяны прусско-бранденбургских лесов, это был своего рода аншлюс с животным миром других стран.
Возвышенность Флеминг, пограничный вал Нидерлаузица и долина древнего потока Глогау – Барутер объединялись в «Книге для чтения» в нечто вроде географии, а из главы по космографии мы узнавали, что земля есть планета, солнце – неподвижная звезда, а луна – ночной светильник, отсвет солнца.
В главе «Ботаника» рядом с немецким дубом рассматривалась кокосовая пальма; несмотря на потерю Германией колоний, она все еще продолжала расти в немецкой юго-западной Африке, и мы узнали, что именно из-за пальмина – кокосового масла – «злые недруги» обесчестили нас Версальским договором. Но здесь же нам сообщали, между прочим, что древние германцы, можно сказать, вообще не употребляли в пищу никаких плодов и, только обратив древних бражников в христианство, монахи приобщили их к потреблению плодов, что доказывает, сколь значительна роль церкви в обеспечении немцев фруктами.
Впрочем, моему младшему брату, которому довелось ходить в школу во времена двенадцатилетнего рейха, рассказывали, что арийские германцы не нуждались ни во французских сливах, ни в римском вине, ибо издавна знали, сколь богаты витаминами дикий лесной крыжовник и красная смородина. Виноградарство процветало тогда в Грюнеберге, в Силезии, в Вейсенфельсе, и в Наумбурге, и в Мейсене тоже. «Немного кисло, правда, но ценно тем, что укрепляет силы».
Мои дорогие немцы, любовно именующие себя то удобрением цивилизации, то солью земли, испокон веку покорялись лженауке, но настанет время, и, понукаемые «тпру» и «ну» их собственной истории, они наконец чему-то научатся и начнут отличать псевдонауку от науки истинной.
Такой была субботняя литература, к которой принуждало дядю Филя безденежье, зато в городе он читал детективные, любовные, ковбойские и напыщенные назидательные романы, а также и произведения классиков, ибо какие книги приносил дяде Филю поток дней, те он и выуживал и обгладывал своими быстрыми голубыми глазами.
Он читал за едой, он читал в уборной и, если ему было скучно, читал во время ходьбы, и гётевский Вертер был для него любовной историей с притянутым концом – смертью любовника, а «Обрученные» Мандзони – другой любовной историей, где автор книги вставлял между обручением и свадьбой всякую всячину, чтобы «набить книгу до отказа».
Наука, именуемая орфографией, несмотря на то что дядя Филь ежедневно сталкивался с ней, энергически ускользала от него. Он писал, только когда попадал в беду, особенно когда просил одолжить ему денег. В таких случаях уже с середины недели он подготавливал мою матушку письмом к предстоящей атаке.
«Милая Ленхен, волею судьбы я снова остался без всяких средств, один как перст на белом свете. Все, кроме своей души, которая одна у меня и осталась, отдал я тем, кто называл себя моими друзьями, и вот в наказание за мое несокрушимое добросердечие я предстаю теперь пред тобой наг и сир…»
В письмах с фронта к своей простодушной матери в первую мировую войну дядя Филь облекал свои просьбы и требования в одежды трогательных историй:
«Дорогая матушка!!!
Ты одна знаешь, как привязан я был к своим карманным часам, дару отца среди подарков по случаю конфирмации, и вот теперь меня постигло ужасное несчастье: благодаря промаху осколка гранаты, находясь в кармане жилета, они обращены в кашу, и я должен благодарить создателя, что этот осколок задел мои часы, а не мое тело. Если окажется это в пределах возможного, пришли мне новый измеритель времени, дабы я знал, который пробьет час в ту минуту, когда я уйду в страну, откуда нет возврата…»
Ах, будь у дядюшки Филя задница покрепче да окажи он чуть побольше внимания капризной даме орфографии… он вполне мог бы состряпать произведение из тех, что пишутся словно на промокательной бумаге, так они впитывают в себя обкатанные обороты, и образы, и отштампованные драматические сцены того рода литературы, что творят напыщенные борзописцы да медоточивые журналистки – подруги из дамских журналов. Они не спят, но «покоятся в объятиях Морфея»; Берлин, Дрезден, Ленинград ничего не говорят им сами по себе, и поэтому они пишут об «Афинах на Шпрее», о «Флоренции на Эльбе» и «Метрополии на Неве». Они не женятся, но «сочетаются браком» и при этих обстоятельствах «пьют сок виноградной лозы» и «драгоценную живительную влагу», они «отправляются в плавание навстречу медовому месяцу» не на берлинском прогулочном катере, но на «корабле из армады запланированного досуга». Изображая классическую образованность, они превращают рыболовов в «рыбарей святого апостола Петра», а наездниц – в «амазонок»; они творчески «отображают в образах» и победы и поражения, подушки для детских колясок и погребальные венки и считают, что преображают свою тупость в творчество, называя магазин Цейса на Александрплац в Берлине «Мини-Меккой фотолюбителей».
Дедушка скептически относился к литературным оборотам дяди:
– От выстрела вылетели часы из жилетного кармана? А с каких пор солдаты носят жилеты?
– Он имел в виду вязаную фуфайку, которую я ему послала.
– Как, мою новую вязаную фуфайку?
– Там на рукаве все равно уже была дыра.
– Правильно, две дыры на рукавах, на каждом рукаве по дыре. Зимой ведь не ты за меня мерзнуть будешь?
Разразился скандал, но эрзац-часы дядя все же получил от бабушки, тайком, что доказывает силу даже плохой литературы.
Влюблялся дядя частенько, но для женитьбы на «разумной» женщине, как выражалась бабушка, вынужденно признавая тем самым, что дядя человек неразумный, у него не хватало средств, ибо места работы он менял чаще, чем носовые платки; как только работа переставала ему нравиться, он сейчас же начинал «ставить им всякое лыко в строку».
Однажды дядя Филь работал в красильне и в конце недели появился у нас на кухне с желтым, как у турка, лицом и лимонного цвета руками, а неделю спустя он был весь совершенно синий, а еще через неделю – зеленый, цвета первой зелени.
При некотором терпении дядя Филь вполне мог бы соскрести с себя всю краску, но он не любил мыться, и ему, как я уже говорил, льстило наше детское восхищение. Бабушка, однако, оплакивала его – работа его, мол, такая вредная для здоровья, – и это помогло дяде бросить красильню, как только мы перестали восхищаться им в достаточной мере, привыкнув к меняющимся оттенкам его кожи.
Дядя Филь нанялся в ночные сторожа. «Уж ты-то усторожишь!» – сказал дед, он знал, как и мы все, что дядя Филь трусоват.
Страх страхом, но речь шла о работе, где дядюшка сможет читать. Он запирался в сторожке, чтоб его вместе с сукном не утащили воры, и с легким сердцем записывал утром в свою сторожевую книгу: «Ночь прошла положенным образом. Никаких происшествий». И в этом рапорте не было лжи, потому что дядя Филь читал и, значит, ночь проходила для него положенным образом, а все остальное, что творилось ночью на фабричном дворе, дядя Филь полагал не своим делом. Но старшие сверхсторожа, зародыши нынешних компьютеров, контрольные часы, расставленные вдоль фабричной ограды, на которые дядя Филь не обращал ровно никакого внимания, отомстили ему, предали его и погубили его тайные ночные чтения.
Во времена своих ночных чтений дядя Филь снимал угол в семье мусорщика в средневековом домишке в конце нашей городской Фридрихштрассе, и окна одноэтажных провинциальных домиков поднимались над улицей не больше чем на тридцать сантиметров.
Я был деревенским мальчишкой, и всякий раз, как попадал в город, бродил возле этих домов – заглядывал в комнаты и наблюдал, чем заняты там люди. Мне казалось, что таким образом я приобщаюсь к городской жизни, столь привлекавшей нас в детстве, и мне страстно хотелось войти в одну из этих комнат. Иногда я думаю: не потому ли, что это давешнее желание мое было таким сильным, мне потом гораздо чаще, чем хотелось бы, приходилось бывать в таких комнатушках, и не только когда я посещал дядю Филя, но когда я сам, как изгой, жил в трущобах немецких городов?
Соседка мусорщика, у которого жил дядя Филь, была гладильщицей и в дни своей юности, лет за шесть-семь до того, как я с ней познакомился и она стала моей тетей Элли, слыла красавицей, несколько в цыганском роде.
Некий «благородный», она всегда это подчеркивала, господин «в опьянении любви» обрюхатил ее, но по весьма прозрачным причинам не имел возможности приехать на свадьбу, и с тех пор моя будущая тетка жила одна, она ждала и ждала «возможности» и того господина и заботилась о своей дочери, моей будущей кузине.
Большая комната тетушки служила не только кухней, столовой и спальней, но также и прачечно-гладильным заведением. Маленькая вывеска при входе, на которой все буквы разъехались вкривь и вкось, указывала, что в полуподвале принимается в стирку и глажку мужское и дамское белье, а также вытягиваются гардины для окон.
С тех пор как дядя Филь познакомился с гладильщицей, он стал бывать у нас гораздо реже. Его пустой кошелек, обычно тайком пополняемый бабушкой или мамой, теперь, казалось, получал новое содержимое где-то на стороне, и дедушка говорил, чтобы позлить бабушку, что дядя Филь живет теперь на деньги, которые пускал на ветер. Но как-то в субботу дядя Филь снова появился у нас и рассказывал, рассказывал, рассказывал! Он вытащил из кармана крикливо сверкающий серебром портсигар. Дядя Филь обстоятельно вынул из портсигара сигарету одной из самых дешевых марок, «Моя девочка», потом из пыльной трухи кармана извлек на вечерний солнечный свет божий блестящую зажигалку.
– Что это у тебя так блестит, дядя Филь?
– Элли подарила.
– Элли?
– Моя невеста.
Наша фантазия заработала: невеста дяди Филя обязательно должна быть красивой девушкой, раз она дарила ему такие блестящие серебряные вещи, невеста из сказки, вроде Снегурочки.
Позднее мы узнали, что портсигар и зажигалка, которые так ярко сверкали и так нас вдохновляли, предназначались для «благородного» господина, не сумевшего принять участие в своей свадьбе. Тетя Элли ждала и ждала господина, но наконец устала ждать и подарила блестящие предметы дяде Филю.
Если идти в город прямой дорогой, прошагаешь добрых тридцать километров. И вот в один прекрасный день наша бабушка с котомкой, полной припасов, за спиной и с букетом полевых цветов отправилась в путь, но сначала она прошла пять километров до станции, чтоб оттуда в тряском вагоне сделать крюк в тридцать пять километров и попасть на свадьбу дяди Филя.
– Только этого мне не хватало, – сказал дед, – интересно, что за курочка позволила потоптать себя этому щипаному петушку.
Свадьба! Какую роль играет она в жизни человека! Разве это не второе наше рождение – рождение, после которого человек выступает перед себе подобными существами о двух головах, четырех руках и четырех ногах. И родители жениха и невесты взывают к судьбе, взывают к счастью, особенно в день свадьбы; судьба или счастье, пусть позаботятся они о том, чтоб две головы, с которыми человек будет ходить впредь, не ссорились друг с другом, чтоб не колотил он сам себя своими четырьмя руками, чтоб четыре его ноги не шагали в разные стороны, – короче говоря, чтоб составленный из двух половинок человек существовал, не распадаясь, и послужил хорошим примером тем молодым головам и ногам, что подрастут у него со временем.
Вскоре после свадьбы дядя Филь приехал представить дедушке с бабушкой и всем дорогим родственникам тетю Элли и свою обретенную в браке дочку. Действительность несколько повредила Снегурочке, созданной нашей детской фантазией: тетя Элли была маленького роста и склонна к полноте, ее лицо поблекло от пара прачечной и гладильни, и забота уже наложила на него свои отметины. Черные волосы тети жили по своей собственной воле, и, сколько она ни приглаживала их, они все равно вылезали из пучка. А может быть, тете Элли не хватало шпилек, чтобы сражаться с пышными цыганскими волосами? Так или иначе черные пряди постоянно взметывались над теткиными щеками, словно крылья черной наседки, и походка тети напоминала торопливую походку курицы.
Тетя Элли говорила благородно, по-городскому, по-шпрембергски, говорила охотно и хорошо разбиралась в провинциальных нравах и обычаях, а во время ознакомительной прогулки по деревне она делала назидательные замечания дяде Филю, бросавшему камни в деревенский пруд и принимавшему участие во всех наших проказах:
– Филь, возьми меня под руку и иди, пожалуйста, кэк пэдабает.
«Кэк пэдабает» был благородный шпрембергский выговор и значило это: «как подобает».
Тетя Элли была «начитанной», как принято выражаться, но у нее не хватало времени для чтения, и свой роман с хорошо известным нам дядей Филем она пересказывала так:
– Знаете, как оно бывает на свете. Живешь одна-одинешенька и совершаешь ложный шаг, так ведь… – (Мы, дети, оглядывались на «ложный шаг», на нашу симпатичную кузину.) – Ищешь возможности искупить свой грех, молишься богу, так ведь? И в один прекрасный день милосердный господь посылает вам такую возможность. – (Мы глядим на нашего дядю Филя, посланца божьего.) – Мне так жаль его было, так жаль, мужчина один-одинешенек в городе, без родителей. Выспится он после своей ночной службы – (под ночной службой дяди подразумевались чтения в сторожке), – а потом тоскующим взором заглядывает в окно, так ведь? Лето, жара, сами понимаете, откроешь окно, поболтаешь немножко, поглядишь друг другу в глаза, так ведь? Слово за слово, у меня и мысли о замужестве не было, но вот однажды вечером я дала ему ломоть хлеба.
– А зачем ты дала ему хлеба?
– Дар любви, как говорится, так ведь?
– Наконец-то, вот оно! – говорит дедушка. – Значит, он просадил все свои денежки и стоял под окном, как жалкий попрошайка.
Тетя Элли встает на защиту дяди. Дядя Филь не попрошайничал. Она дала ему бутерброд с фаршем и луком не через окно, ведь она же знает приличия. «Так ведь?» Она пригласила дядю к себе в комнату. «Одно за другим, так ведь? Он пришел снова, и вспыхнула любовь».