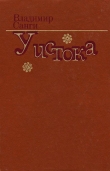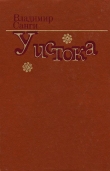Текст книги "Романы в стенограмме (сборник)"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Кошка и человек
Перевод О. Бобровой
Это рассказ о котенке длиной в десять сантиметров, который вторгся в жизнь человека в шестнадцать раз длиннее. Человека звали Хардель. Он был вдовец, пенсионер, но еще бодрый и крепкий. Хромал на левую ногу, с детства терпел насмешки своих неразумных сограждан, и это сделало его недоверчивым даже к тем, кто был к нему дружески расположен.
Все его счастье после смерти жены было в дочери и домике за городом. В этот домик спешил он после смены, когда еще работал на фабрике, и вкладывал весь отпущенный ему творческий запал в труд на своем клочке земли. Летнюю сторожку он мало-помалу превратил в фахверковый домик и перебрался туда, сэкономив этим деньги на оплату городской квартиры. Так жил он на окраине города, несколько в стороне от событий. Хардель надеялся, что маленький домик станет в будущем семейным очагом его дочери. Увы, пришел мужчина, забрал ее и подчинил себе, и дочь пренебрегла маленьким домиком.
Некоторое время Хардель ходил как в воду опущенный. Погасли звездочки счастья его будней. Но ни один человек так жить не может. Человеку необходимо надеяться. И вот у Харделя появилась надежда, что его внук, как все дети любивший цветы, траву, шалаши и разные укрытия, будет благодарен ему за домик и уже после смерти деда оценит его заботливость.
Хардель присматривал за своим небольшим владением со стариковской тщательностью. Когда крошились швы кладки, он заделывал их мелом, весной покрывал камни красной краской, белил швы.
Если прохожие хвалили нарядный домик, для Харделя это было предварительное и, как он считал, единственное, пока не подрос внук, признание его работы. Это доставляло ему на мгновение радость, и он снова с ожесточением принимался сражаться с непогодой, которая наперегонки с мышами и древоточцами обгладывала домик. Особенно отравляли его зимние дни, частые набеги полевых мышей.
И вот случилось, что ближе к зиме Хардель подобрал где-то на окраине кошку. Она еще была мала, хвост облезший, глаза слипшиеся, а шкурка словно изъедена молью – осенний котенок, заморыш.
Кошка с жадностью поглощала остатки обеда Харделя, но головка у нее оставалась необычно маленькой, а на ее мордочке с плоским носом словно застыла ухмылка, как у тупых людей. Кошка была вся черная, лишь все четыре лапки внизу у самых когтей – белые. Четыре белые лапки подчеркивали убогость кошки – животное с маленькой головкой было словно разутым.
Они жили, скорее, рядом, а не вместе: угрюмый пенсионер и замкнутая по своей природе кошка. Человек исподтишка наблюдал за животным, животное за человеком. Хардель не выгнал кошку, обнаружив, что та наиболее успешно уничтожала мышей, когда он находил их для нее в мышеловке. Одна мышь устроила как-то своих мышат в редко используемой корзине для покупок. Ничего не подозревая, Хардель взял корзину. В пригородной кооперативной лавке мышата выпрыгнули на белый халат продавщицы. Поднялся крик, шум. Хардель перенес и это, не изменив своего хорошего отношения к кошке.
Зима прошла. Наступил май. Под скамьей у печки уже два дня стояла нетронутой тарелка с мучным супом. На третий, вечером, кошка появилась. Она исхудала, стала похожа на обуглившуюся доску, а на животе ему привиделись нарывы. Хардель поднял ее и тогда сообразил, что это слабо набухшие соски.
– Ты окотилась? – Хардель подчеркивал каждый слог, будто говорил с иностранкой. Громкий звук его слов ударился о маятник старых настенных часов. Казалось, на мгновение он закачался медленнее.
Хардель, прихрамывая, обошел вокруг дома, обшарил дровяной сарай, осмотрел сено для кроликов, обыскал сад, заглянул под живую изгородь и не забыл также колодец.
Кошка облизнула с усов остатки мучного супа, юркнула во двор и настороженно следила за человеком. Хардель чувствовал себя задетым – кошка что-то скрывала от него. Разве он заслужил такое недоверие?
Он вырвал листок из большой тетради, кряхтя стал выводить печатные буквы. А кошка тем временем прыгнула на яблоню, с яблони на фронтонную стену и влезла в открытое чердачное оконце.
Гвоздями с синими шляпками прибил Хардель листок к садовой калитке: «Пропали котята. Нашедшему обратиться сюда! Владелец».
Жители поселка, читая это, усмехались.
Когда отцвели яблони и майский ветер стал разносить пушистые семена одуванчиков, Хардель услышал под лестницей, ведущей на чердак, кошачий писк. Там, в самом темном закутке, копошились три котенка. Широко расставив лапки, они ползали по пыльным половицам.
Харделя охватила радость. Значит, кошка доверилась ему, а в его одинокой жизни это немалое событие.
Но кошке вовсе не надо было, чтобы любовались ее потомством. В ее тощих сосках уже не хватало молока для подрастающих котят. Они стали беспокойно расползаться по чердаку, и встревоженная мать перетащила их туда, где она находила себе еду, – поближе к кухне.
Когда Хардель ощупывал трех своих новых домочадцев, пришла кошка. Она увидела узловатые руки мужчины во вновь устроенном ею пристанище, насторожилась и схватила одного котенка, чтобы унести оттуда. Но Хардель протянул руку и вмешался в кошачью жизнь.
В деревянной нише под плитой он устроил в корзине цивилизованное кошачье гнездо и, пока кошка не смирилась с этим, держал дверь на кухню закрытой.
Кошачья жизнь под плитой радовала Харделя. Он был доволен и порой даже напевал давно забытую песенку.
Укладываясь спать наверху, заворачиваясь в засаленное стеганое одеяло, он услышал под крышей над своей постелью тонкий писк котенка. Слабое попискивание доносилось из пустого пространства между стропилами и потолком.
Исполненный недоверия к кошке, Хардель в одной нижней рубашке спустился на кухню. Все три котенка спали в корзине.
Хардель опять улегся. Он, верно, совсем помешался с этими кошками, и писк ему просто почудился во сне, не правда ли? Он громко засмеялся над собой, и дико прозвучал смех старого человека в майскую ночь в пустом доме. Но тут кошачье попискивание послышалось вновь, сначала тихо, потом громче.
Хардель взобрался на чердак и посветил карманным фонариком в мертвый угол между стропилами и наружной стеной. Луч фонаря не доходил до самой глубины. Хардель засунул в щель руку и, хотя он вытянул ее до плеча, «дна» не достал. Тогда он опустил туда рейку. Она погрузилась на длину в две руки, прежде чем уперлась во что-то. Харделю показалось, что он ощутил слабое царапанье коготков по дереву, – так чувствует рыбак, когда рыба попадается на удочку. Однако, когда он осторожно вытащил рейку, никакого котенка на ней не было.
Старик спустился на кухню, схватил кошку, обозвал ее «малоголовой сволочью», отругал за забывчивость, потащил на чердак и посадил на край раскоса.
Кошка навострила уши, но в темноту не полезла. Тогда Хардель схватил ее за загривок и насильно сунул в щель, однако, когда он отпустил ее, она снова выкарабкалась оттуда.
Комната была освещена зыбким светом луны. Хардель стоял беспомощный и утомленный. Он сильно устал от возни на чердаке и теперь ужасно хотел спать. Котенок больше не пищал. Может быть, после хорошего ночного отдыха удастся спасти котенка. Он лег и, глубоко вздохнув, заснул.
Среди ночи он проснулся: опять пищал котенок. Хардель поднялся и, чтобы не слышать писка прямо над головой, принялся ходить по комнате. У него шевельнулась робкая мысль разобрать крышу. Но соседи подумают, что он рехнулся.
Он вновь улегся на кровать и стал припоминать самые тяжкие моменты своей жизни.
В «большую войну» из-за хромоты в армию его не взяли. Ему сказали, что он солдат «трудового фронта», и Хардель выслушал это с легкой усмешкой. На целлюлозной фабрике он обслуживал две большие мешалки, в которых целлюлоза, сероуглерод и раствор едкого натрия превращались в золотистую массу, называемую вискозой. Работал по двенадцать часов в сутки и забыл, что такое воскресенье. Горячее время было на «трудовом фронте». Любую ошибку рабочего старший надсмотрщик был вправе расценивать как саботаж.
Хардель состоял в социал-демократической партии. Это значилось в его документах, он был под подозрением – не мог допустить ни малейшей оплошности в работе. Как-то в ночную смену ему пришлось обслуживать еще и аппараты заболевшего коллеги. Прихрамывая, сновал он туда и обратно, следя за работой четырех аппаратов, и тогда-то и случилось это: в одну мешалку он залил раствор едкого натрия прямо на целлюлозу, не обработав ее предварительно сероуглеродом. Вместо тягучей вискозы в аппарате бурлила белая, комковатая масса.
Когда Хардель заметил свою промашку, его охватил страх. Прежде чем обнаружили его неумышленную ошибку, он заявил сменному мастеру, что болен, и поспешил домой. Он боялся, что его арестуют, и он не успеет попрощаться с дочерью.
Всю ночь, лежа здесь, в этой комнате, на той же кровати, что и сейчас, ждал он ареста. Тягостная, тягостная ночь!
Едва наступило утро, как раздался стук в дверь. Бледный и дрожащий, попрощался он с дочерью и открыл дверь.
Перед ним стоял человек в форме заводской военной охраны, эсэсовец. Хардель ответил на гитлеровское приветствие, которого он как старый социал-демократ обычно избегал. И даже неуклюже прищелкнул каблуками.
Военный что-то достал из своего висевшего на портупее планшета. Пистолет, пронеслось в голове у Харделя, он покорно потупил глаза. Но охранник вытащил из планшета совсем другое – письмо от сменного мастера. Промах Харделя от него не укрылся, но он побоялся, что и его притянут к ответу за недосмотр.
«Все в порядке. Можешь выходить на работу, если ты не очень болен», – было написано в письме. И теперь, спустя двадцать лет, Хардель помнил это письмо слово в слово. Сменный мастер тайком спустил испорченное содержимое мешалки в сток…
Потом Хардель все-таки заснул, спал крепко и проснулся поздно. Торопливо оделся: надо было позаботиться о мелкой живности. Задал корм козам, курам, кроликам и даже не вспомнил о ночных волнениях. Но когда он сидел за завтраком, в дверь постучали и вошел соседский мальчик.
Первое, о чем подумал Хардель, увидев паренька, что его внуку, должно быть, уже столько же лет, как и этому мальчику. И в душе его шевельнулось что-то похожее на нежность. Но мальчишка был взволнован, запинался и настоятельно просил выйти с ним на улицу и послушать, не его ли, Харделя, кошку прищемило под крышей.
Хардель ударил кулаком по столу и вполголоса выругался: «Чертова перечница, пропащая тварь». И трудно было понять, что эта ругань относилась к кошке. Мальчик испугался, озадаченный выскочил из дома и убежал.
Теперь уж и соседи потревожены.
«Надо кончать с этим кошачьим бредом», – прошептал Хардель, вскарабкался на чердак, прислушался, услышал попискивание, взял рейку и, закрыв глаза, стал тыкать ею в щель. Писк прекратился. Хардель вытащил рейку, швырнул в темноту чердака. Темнота ответила грохотом.
«Гуманность», – он читал об этом в газетах. Что гуманнее: слушать, как медленно издыхает котенок, или сократить его предсмертные муки? Ответа на это у Харделя не было. Какие мысли могли принести ему теперь успокоение: может быть, воспоминание о том дне, когда он зашел за внуком, чтобы вместе с ним пойти ловить лягушек?
Он редко бывал у дочери, потому что не мог пробудить в себе расположение к зятю. В дверь Хардель никогда не стучал. Он тряс дверную ручку, пока ему не открывали. По его мнению, к детям не стучатся.
У себя в саду он устроил для внука небольшой террариум и вот хотел половить с мальчиком лягушек. Хардель нажал на ручку, но дверь оказалась незапертой и отворилась. Старик шумно волочил больную ногу по комнатам. Выдвинутые ящики, грязная посуда на кухне, мухи, копошившиеся на остатках пирога, беспорядок повсюду, а под недопитой чашкой с кофе записка: «Мы уехали. Здесь жить невозможно». Ни привета, ни подписи. «Здесь» жить невозможно… Хардель был оскорблен. Он жил «здесь». «Здесь» был его домик. «Здесь» заботился он о внуке.
И, подумав о внуке, Хардель опустился на детскую кроватку и заплакал. Он плакал так, будто в его груди возникали пузыри горя и с бульканьем лопались у губ.
Его утешало, что записка была написана не внуком и не дочерью.
Харделя вызвали тогда в отдел кадров предприятия. Там ему задали несколько вопросов, и Харделю показалось, что его подозревают в том, что он благословил бегство зятя. Он яростно опроверг это. «Никогда!» Разве он зашел бы за внуком, чтобы пойти с ним ловить лягушек?
Харделя отпустили, но у него было такое чувство, что ему не поверили. Это недоверие, которое он, пожалуй, сам выдумал по своей стариковской мнительности, довело его до болезненного состояния, до невменяемости. Он подал заявление об уходе, оставил работу и жил с тех пор лишь на пенсию.
И вот когда Хардель лежал так, терзая себя воспоминаниями, ему что-то послышалось. Он резко вскочил, больная нога мешала. Старик схватил палку, оперся на нее и прислушался. Опять раздалось попискивание, жалобное и тихое.
Хардель прикусил мизинец. Его губы сложились в плаксивую, как у маленького ребенка, улыбку, и стали видны щербины во рту. Он не убил. Кошачий писк под крышей был торжеством жизни.
Старик, прихрамывая, вышел в сад, взял из сарая стремянку, взобрался по ней наверх и стал срывать с крыши черепицу. Он не спускался вниз с каждой плиткой, а прямо бросал их на живую изгородь. Какие-то плитки скатывались со смягчающих удар веток и разбивались на куски на посыпанной гравием дорожке. Другие крошились еще в руках, потому что спеклись с соседними плитками. Хардель, кряхтя, выдергивал их, думая при этом лишь о котенке.
Он разобрал уже половину крыши, но никаких следов котенка все еще не было видно. Он поискал на ощупь, посветил фонарем – ничего. Он звал котенка, давал несчастному ласковые прозвища, но все было тихо. Хардель начал опасаться, не повредился ли он в уме. Он слез вниз, присел на компост под вишней, тяжело дыша, свесив руки, – несчастный старый человек.
Но тут до него снова донеслось тихое попискивание, похожее на стрекот кузнечика. Старик взобрался наверх и увидел наконец котенка. Он сжался в комочек в выеденном древоточцами углублении опорной балки.
Совсем невредимое животное безжизненно лежало на ладони мужчины. Хардель тер котенка своим морщинистым стариковским большим пальцем, придвинул кошачий ротик к своим губам и попытался вдохнуть жизнь в этот плюшевый комочек. Он дул и дул, а домик позади него выглядел так, будто его сразил смерч.
Когда Хардель перестал делить с котенком свое дыхание, он увидел, что тот сладко потягивается на его ладони, как это делают кошки, греясь на солнце. Котенок вытянул заднюю лапку, потом переднюю и – умер.
Хардель сгорбился от горя. Неужели его жизнь зависела от этого жалкого котенка? Он беспомощно огляделся. У живой изгороди стоял соседский мальчик. Хардель взглянул на него и выпрямился.
– Я не убивал его!
Мальчик засопел.
– Что?
Мальчик покачал головой.
– Ведь я не убил его, правда?
Старик воспринял покачивание головы как оправдательный приговор и обнял мальчика за плечи.
– Бывает, что они утаскивают и детеныша. Просто утаскивают детей, понимаешь?
В старом городе
Перевод О. Бобровой
Летним воскресным утром, ранним-ранним утром, приехали они в старый город. На узкой площадке – на месте прежнего голубиного рынка – стояло несколько машин. Их лаковая поверхность была покрыта бархатистым налетом росы, совсем как на заиндевевших яблоках или грушах в саду.
Мужчина, с уже наметившимся брюшком, взялся за бампер своей небольшой машины, поднял ее и повернул так, чтобы можно было передним ходом занять свободное место на стоянке. Да, он поднял машину, хотя его жена оставалась внутри и с испугом, но и с восхищением смотрела на него. Он хотел произвести впечатление и увидел, что ему это, пожалуй, удалось. Он чувствовал себя бодрым и способным на многое. Занималось утро, солнце еще не взошло, и мужчина был еще полон сил.
Он был ее первым мужем, а она его третьей женой. Между ними была разница в двадцать пять лет. Мужчине, правда, казалось, что он в состоянии преодолеть эту разницу. Не то, что ему приходилось для этого изображать из себя молодого. Просто надо было быть самим собой, не считая разве некоторых глупых выходок, к которым он прибегал, чтобы услышать от нее, что он еще, в сущности, мальчишка, большой мальчишка.
Это не было их свадебным путешествием. Таких обывательских обычаев они не придерживались. Они возвращались из служебной командировки. Он журналист, она фотокорреспондентка. Они позволили себе на обратном пути после окончания одного репортажа отдохнуть в это воскресенье и вот бродили теперь по городу без камеры и карандаша, даже не думая, как можно было бы по-новому преподнести увиденное.
Над крышами старого города лежала пелена тумана, тонкая, как кожица коловратки под микроскопом. Они были одни. На улицах не видно было даже тех, кто ходит по утрам за молоком для грудных младенцев, еще спавших, наверно, за окнами старых домов. Единственно, кто повстречался им, был старый человек, которого, наверно, потревожил и поднял с постели туман летней ночи. Палка старика звонко стучала по узкому тротуару переулка, и он с досадой оглянулся на старый дом, из которого вышел. Досада не сошла с его лица и когда он рассматривал незнакомцев. Она смешалась с завистью к этому пятидесятилетнему, который в такой ранний час примчался сюда, чтобы показать своей дочери старые дома, собор и другие свидетельства прошедших времен.
Старик затерялся наконец в переулках, как обгоревшая спичка, которую бросили в куст. Репортерская чета вновь осталась одна в старом городе. Переулки, улицы и рыночная площадь с ее старым фонтаном были в их распоряжении.
– В какой же это пьесе мы играем? – спросила молодая женщина.
И в самом деле казалось, будто они стоят на сцене среди декораций спектакля из времен средневековья.
Ему понравилась эта мысль. Жизнь – драма, и тебе отводят в ней какую-то роль, если у тебя маленький талант, или же ты – большой талант и исполняешь главную роль, как будто заранее предназначен для нее.
Он выбрался из философских дебрей, лишь когда она спросила его:
– Тебе нехорошо?
– Еще как хорошо!
Он просунул свою руку под ее, и они могли стоять, сколько хотели, и, запрокинув головы, рассматривать дома, крыши которых плавно поднимались как пологие склоны холмов, а мансарды казались там маленькими хижинами. Никто не мешал им и не бранил их, когда они до последней буковки читали мраморные таблички над дверьми старых домов: «В этом доме останавливался на ночлег доктор Мартин Лютер по пути на Вормсский рейхстаг».
Они обошли вокруг большой городской церкви св. Петра и почувствовали ветер, порождаемый в центре города этим высоким зданием, словно оно создавало своими башнями собственный климат. Журналист вспомнил о том, что читал у французского скульптора Родена о «ветре соборов». Ему было жаль, что не он открыл эти ветры, а лишь почувствовал этот феномен, чтобы подтвердить его. Он вдруг снова понял, как важно самому делать открытия и как подобные открытия связаны с тем, что называют личностью. До сих пор он всегда утешал себя, что сделает такие открытия после того, как многое повидает и станет достаточно зрелым. Но теперь ему было пятьдесят лет.
Ему захотелось сесть на скамейку под липами перед собором, и он сел.
Фотокорреспондентка, которая все время слегка улыбалась, словно радуясь всем увиденным вещам и людям, все еще ходила вокруг собора, выискивая сюжеты, которые она до сих пор не встречала на иллюстрациях и почтовых открытках.
Мелколистные липы цвели еще, и, когда женщина села наконец на скамейку около мужа, она спросила:
– Ты не слышишь? – На ее загорелом лице отразилась радость открытия. – Так послушай же! – Она показала пальцем на верхушки деревьев, и тогда он тоже посмотрел туда, но ничего не расслышал. Это насторожило его, но он не подал виду, притворился, что тоже слышит, ведь у него был жизненный опыт, и произнес небрежно:
– Пчелы.
На самом же деле он ничего не слышал, что обеспокоило его, хотя он и не подал виду.
Ей было приятно узнать от него то, о чем она раньше и понятия не имела: когда пчелы жужжат в листьях деревьев, кажется, будто за церковной стеной играет орган. Она сжала его руку, и эта незаслуженная ласка тоже обеспокоила его. Он поспешно заговорил о запахе лип, заговорил слишком пылко, стал настойчиво спрашивать, ощущает ли она запах лип, всегда напоминающий ему о тенистой аллее, о той аллее, которая вела когда-то из деревни его детства. Усталости уже как не бывало, во всяком случае, он поднялся, хлопнул в ладоши и сказал:
– Ну, что, уважаемая, вы собираетесь остаться здесь сидеть и заняться пчеловодством?
Она вскочила и обняла его. От соприкосновения с искусством они стали раскованнее. И рано просыпающиеся обитательницы домов на церковной площади, проветривая постели, ощутили сладострастное удовольствие или благонравный ужас: «Нет, вы только посмотрите на этого хрыча с его девчонкой!»
Старый город ожил, и молодожены, осматривавшие здания и каменные ограды, сами стали для других достопримечательностью.
В девять они поднялись на башню св. Петра. Это была высокая башня, и журналист снова доказал себе при подъеме по винтовой лестнице, что он такой, каким должен быть рядом со своей молодой женой. По пути встречалось много темных ниш, мимо которых она боялась проходить и тесно прижималась к нему. Она бессознательно заботилась о том, чтобы у него были передышки, необходимые для его сердца и легких, хотя и надувала обиженно губы, если он не целовал ее, прильнувшую к нему от страха.
– Да, конечно же, да, – говорил он ей, как ребенку, когда замечал это, переводя дух и поступив так, как ей хотелось.
Смотрительница башни пила свой утренний кофе, глядя в чашку, которую держала на коленях. Ей надоел этот ни для чего не пригодный вид, открывающийся за перилами. Она уже много месяцев не спускалась вниз, на церковную площадь, и давно отказалась бы от этого места, если бы отцы города не приняли решения предоставить в ее распоряжение лебедку. С помощью этой лебедки она опускала вниз корзину для провизии, и люди покупали для нее все, что она просила. Чем дольше старая женщина сидела там наверху, ела, переваривала пищу и собирала с туристов по десять пфеннигов за подъем на башню, тем неподвижнее и угрюмее она становилась. А перед репортерской четой открывшаяся даль предстала во всей своей новизне. Фотокорреспондентка могла теперь сверху увидеть кроны цветущих лип.
– Вот, значит, как они выглядят, – сказала она, – эти пчелы, когда садятся на соцветья липы, разве нет?
Что ей опять дались эти пчелы, подумал он и был рад, когда она его спросила:
– Хотел бы ты жить со мной здесь, наверху?
Он хотел бы.
– Чтобы ты была рядом и эта даль перед глазами!
Одновременно он подумал об открытиях, которых еще не сделал в свои пятьдесят лет, и усомнился, сможет ли он сделать их с этой башни. Но она была так благодарна, что он не отказался жить с ней высоко наверху, и снова обняла его. Он увидел, как смотрительница башни сплюнула, но это могла быть косточка из вишневого пирога, который она ела.
– Теперь я вижу Тюрингские горы, – сказала молодая женщина, – хочешь верь, хочешь нет!
Не было ли в этом скрытого намека? Или он был слишком чувствителен в это утро? Почему он должен верить в горы? Он просто видит их, как и она, так по крайней мере он сказал. И когда он пристально всмотрелся туда, где она видела горы, ему на самом деле показалось, что он различает их где-то там внизу, если это были не облака…
При спуске он был молчалив. Ему не давали покоя мысли о пчелах и горах. Он вспоминал, достаточно ли убедительно притворялся. Подумал о том, что ему уже самое время начать делать свои открытия. И теперь она напрасно ждала его поцелуев в темных нишах.
В кафе, куда они зашли наконец поесть, к нему после первой чашки кофе вернулась та веселость, которую он ощущал ранним утром. Они шутили друг с другом, представляя себе свою жизнь наверху, на башне св. Петра.
– Нет, пожалуй, ничего не выйдет, – сказала она.
– Почему же? – Его чувствительность пробудилась вновь. Не намекает же она на то, что ему было трудно дышать при подъеме на башню?
– Ничего не поделаешь, – ответила она, – представь себе, у меня начнутся схватки и надо будет очень спешить!
– Ты не веришь, что я снесу тебя вниз на руках? – Он даже бровью не повел, сказав это. Она была тронута, сжала его руку. А он подумал, что все хорошо обошлось, вполне хорошо.
Ему захотелось выпить стаканчик вина, и он поискал глазами кельнершу, которая их обслуживала. В старом подвале конюшни, приспособленном под кафе, было три или четыре кельнерши.
– Не та ли это, что стоит позади, в розовой блузке?
– Да, она!
Он подозвал кельнершу и, когда она подошла, увидел, что на ней не розовая блузка, а белая, белая, в больших красных горошинах. Он испугался и перевел взгляд на свою молодую жену. Ему почудилось, будто она все время исподтишка наблюдала за ним. Однако сейчас она смотрела в сторону, и он не знал, не отводит ли она глаза, как делают, когда не хотят видеть поражения другого.
Все время, пока они пили вино, его занимали эти вопросы. Он опять замолк и подумал, а что, если это и есть те открытия, которые ему теперь суждены?
На обратном пути из города он все время украдкой поглядывал на свою молодую жену. Ему хотелось верить, что она такая же, как прежде, радуется поездке, но, когда она заговорила о своих впечатлениях от старого города, он почувствовал себя задетым.
Позднее он утешал себя мыслью, что ничто, даже ребенок, не скрепляет брак так прочно, как совместная работа, а она-то ведь у них была, действительно была, но все же он возвращался из старого города менее уверенным, у него уже не было того чувства победителя, с которым он туда въезжал.