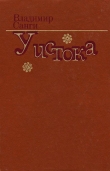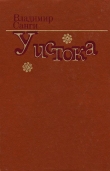Текст книги "Романы в стенограмме (сборник)"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Мартин Мешке прибыл в деревню, дабы свершить высший суд над шахтером. Было летнее воскресное утро, перед нашим домом цвели липы. Я сидел на скамейке возле дома, когда они пришли, и солнечный свет играл на гладкой короткой прическе ни о чем не подозревавшей Лисси. Я встал и поздоровался, и только платиновая лиса приветливо ответила мне.
Они вошли в дом; все было спокойно. Я услышал, как отец зовет Ганса, я услышал, как Ганс, насвистывая, спускается по лестнице, потом поднялся шум, и я вошел в дом.
– Наш Ганс? – спросила матушка. – Да он и писать-то не умеет.
Мартин Мешке протянул в доказательство одно из писем, и матушка поглядела на меня; платиновая лиса заплакала, слезы брызнули у нее из глаз, как из гейзера, она достала из брючного кармана оберштейгера носовой платок, а красивые зубы Ганса застучали. Я не мог вынести этого.
– Я писал их Мабель, – сказал я.
Лисси закричала и плюнула Гансу в лицо. Ее слюна, пузырясь, стекала по румяной щеке соблазнителя. Платиновая лиса выбежала из дому, а душистый запах лип ворвался с улицы в дом.
В этом году Мартин Мешке пришел на горняцкий бал в одиночестве. Говорили, что он пришел мстить. Он подогревал свою месть шнапсом. Ему подливали, и месть застопорилась. Мешке сволокли в дом его родителей. Он развелся со своей Лисси, узнали мы. Я увидел, какую неразбериху создают необдуманно написанные слова. Я почувствовал, что писание сродни колдовству.
Мне исполнилось тринадцать лет, стоял теплый февраль, повсюду носились собачьи свадьбы. Однажды днем в мелочную лавочку матушки вместе с нищим прибрела собака. Она пробралась за прилавок, села, и вот она – я! Матушка дала нищему, что полагается нищему, а собаке – кусок сыра. Нищий ушел, собака не уходила.
– Ваша собака? – крикнула матушка нищему. Тот отрицательно мотнул головой и исчез.
Пес был средней величины, с черной волнистой шерстью, коричневые висячие уши окаймляла черная полоска, установить его возраст было невозможно, однако он уже умел разбираться в человеческих лицах.
Матушка отправилась на кухню, пес остался под прилавком. Вошел покупатель, собака положила передние лапы на прилавок, залаяла и снова легла.
Отцу не понравился новоявленный приказчик, мне велели вывести собаку во двор, я потянул ее, она оскалила зубы, она знала, каково снаружи, и потому выбрала себе место внутри. Матушке пес дался, но с места она его сдвинуть не смогла, и всякому, кто подходил к ней, он показывал зубы. Матушке это нравилось.
Собака в лавке? Отец воззвал к правилам гигиены.
– А разве жандарм, когда приходит нас проверять, свою овчарку оставляет на улице? – возразила матушка. Ссора родителей угрожающе повисла в воздухе.
Мой младший братишка отворил двери лавки, принес нашу огромную серую кошку Туснельду и опустил ее на пол перед собакой. Кошка метнулась во двор, собака за ней. Назревший спор родителей был разрешен.
Все, чему покровительствовала матушка, было священно: пришельцу соорудили во дворе будку, ночью он караулил под окнами, за которыми спала матушка, и не упускал лакомого куска. Дедушка считал пса бродягой и ждал, что он снова убежит, но пес остался. Мы назвали его Флок, он защищал всех членов семьи, бежал рядом с велосипедом, сопровождая деда в поле, а когда мерин начинал играть, Флок пытался его сдержать, отчего мерин приходил в еще большее неистовство, а дедушка чертыхался.
Три раза в неделю мы развозили хлеб по окрестным деревням. В летние каникулы эта обязанность возлагалась на нас с братом.
Одно удовольствие было сидеть под защитой парусинового навеса, не боясь ни ветра, ни дождя, ни палящего солнца. Фыркала лошадь, в такт позвякивали колечки и цепи постромок, облачка пыли взметались из-под лошадиных копыт. Я правил лошадью, брат продавал хлеб. И вот однажды мы не послушались дедушки и взяли с собой Флока, он резво бежал за фургоном.
Мы выехали на шоссе. Наш гнедой не переносил автомобилей, стоило показаться на дороге машине, как он шарахался, увлекая нас в канаву. Я заранее вытянул его кнутом, чтоб он и думать позабыл про свои штучки, он тут же перешел в галоп. Я попытался сдержать его. Флок вырвался вперед и залаял. Я натянул вожжи, мерин вздыбился, собака отлетела в сторону, мерин направился к ней. Дело принимало опасный поворот.
Мой брат не переносил лихой езды, он повалился на дно повозки и уткнулся лицом в ладони. Впереди показался грузовик. Меня пронизало внезапное желание – пусть переедет чертову собаку. И тут же раздался визг, а потом только грохот колес. Мне удалось остановить мерина.
– Что случилось? – спросил брат.
– Боюсь, уж не задавили ли они собаку, – сказал я.
Брат выпрыгнул из фургона и вернулся с мертвой собакой на руках; с морды тоненькой ниткой стекала кровь, тело еще не остыло. Мы засунули Флока в торбу, привязали его снаружи к фургону и заревели в голос.
Я терзался, обзывал себя убийцей: ведь это я пожелал ему смерти, и мое желание сбылось. Случайность? Или не случайность?
Кончились летние каникулы, я снова ютился в подвале на хлебах у дворника. Перед окнами подвала росли буки: прохожим на радость, нам на горе – они загораживали солнце. Тень и солнце – два полюса жизни.
В подвальной квартире всегда пахло светильным газом. В «бумажном погребе» – царстве крыс, складывалось содержимое корзин для бумаг, и, когда кто-нибудь заходил туда, запахи заплесневелого хлеба, гнилого мяса, тухлой колбасы врывались в дворницкую.
На стене в нашей комнате красовались рога антилопы, а с газовой лампы свешивалось страусовое яйцо; в полдень оно покачивалось в клубах пара, поднимавшихся над суповой миской, и белой бомбой нависало над моей головой, когда я готовил уроки.
Мой хозяин в свое время немало потрудился на строительстве железной дороги в так называемой немецкой юго-западной Африке, и за работу в раскаленной пустыне родина вознаградила его местом дворника в школе – зато он имел право именоваться чиновником! Десять ступенек вели вниз, к нам в подвал. Спустившись, вы попадали в частичку немецкой юго-западной Африки; мой хозяин имел обыкновение говорить: «Уж если кто знает, что такое негр, так это я. Как бы вы посмотрели, если б я подметал классы и распевал при этом? А негру, ему петь необходимо: пение, галдеж, всякая там дум-да-да – вот что такое немецкая юго-западная Африка!..»
Я знал наизусть все его речи и, когда меня спрашивали про страусовое яйцо, отвечал: «Если кто знает, что такое негр, так это мой хозяин…»
В середине двадцатых годов ему удалось утолить свою жажду сенсаций, собственноручно соорудив радиоприемник. Дворник стал одним из первых радиослушателей в нашем городке и теперь вновь чувствовал себя первооткрывателем, переживая с помощью наушников разнообразнейшие приключения. По вечерам он лежал на кушетке с дугой от наушников на блестящей лысине. Его жена, прямая и сосредоточенная, водрузив на нос пенсне, сидела под страусовым яйцом, погрузившись в чтение романа, публикуемого в «Моргенпост»; мужу не терпелось вовлечь ее в свои приключения:
– Минна, возьми наушник, уже начинается, «На верблюде через пустыню»… Минна!
Минна, погруженная в любовные переживания «Деревенского учителя Уве Карстена», отнюдь не желала влезать на спину верблюда; хозяин брался за меня, но я тоже не хотел в пустыню – я писал.
– Что ты все пишешь и пишешь? Никак проштрафился? – Он снимал наушники, брал мою тетрадь и читал.
Я писал рассказ. Название и три страницы были уже готовы.
– Минна! Послушай, Минна, он пишет рассказ!
Хозяйка оторвалась от романа про любовь и сняла пенсне. Она меня недолюбливала. По ее мнению, я не слишком удался родителям, я был недостаточно груб для мальчика.
– Сколько раз я говорила, что он настоящая девчонка, – отрезала она, взяла наушник и отправилась в пустыню.
Горела лампа, шипел газ. Я писал много вечеров подряд, я писал рассказ о собаке. Рассказ назывался «Флок».
Говорят, писатель пишет о том, что у него на сердце. Если б так! Писать означает гораздо больше.
Все, что мы рисовали или малевали красками в свободное от школы время, мы показывали учителю рисования. Если ему, учителю, что-нибудь нравилось, он отсылал это в редакцию журнала «Искусство для юношества».
Рисование было не тем предметом, где я блистал, но в журнале печатали также стихи и рассказы школьников. Я отдал свой исчерканный вдоль и поперек рассказ о собаке учителю рисования, и этот наделенный художественным вкусом человек поработал над ним. Собственно говоря, это полагалось бы сделать учителю немецкого языка, но главным занятием того был «патриотизм»: на торжественных собраниях он громче всех пел: «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес!»
Историю о собаке опубликовали в журнале. Я впервые увидел свое имя напечатанным. Я пережил то, что всем печатающимся приходится переживать снова и снова, – реакцию окружающих. Одни стали в позу – словно я не рассказ написал, а занялся фотографией, другие избегали меня, как будто я писал не рассказы, а доносы, и лишь немногие поглядывали на меня сочувственно – я написал то, что они думали.
– Погляди-ка, Минна, его напечатали, – сказал мой хозяин.
Хозяйка презрительно усмехнулась. Матушка возгордилась, отец был рад, что мои писания ничем повредить ему не могли.
Я снова устремился в жизнь, запутывался, выпутывался, запутывался снова – словом, жил, и позабыл о напечатанном рассказе и даже потерял его. Но однажды летним днем в конце шестидесятых годов к нам пожаловали нежданные гости. Наш Визенталь лежал погруженный в тяжелую полуденную дрему, но в воздухе уже начинали свой хоровой концерт шмели, пчелы и мухи, а воробьи и карликовые курочки купались в горячем песке под кустом бузины у коновязи. Автомобиль остановился там, где обычно останавливаются непосвященные – подле мостика через ручей. Юркие человечки быстро выскочили из машины и с жужжанием закружили вокруг наших владений в поисках входа.
Мы вышли к ним. Мужчина, возглавлявший группу, представил:
– Фрау Эльстер с телевидения… с семьей.
«Нежданные гости» редко приезжают просто так: они хотят поглядеть на пони, получить автограф, пригласить нас для совместной работы, взять интервью, выпытать что-нибудь, проверить или даже установить контакты.
Фрау Эльстер несла тяжеленный фолиант, вероятно образец для телевизионного кукольного спектакля; по-моему, я был не слишком любезен с ней, но, когда в комнате она пододвинула ко мне толстый том, я увидел рассказ о собаке, написанный, когда мне было тринадцать лет. Фолиант был переплетенным комплектом журнала «Искусство для юношества» за тысяча девятьсот двадцать шестой год. Фрау Эльстер раскопала его в букинистической лавке. На меня повеяло детством, мое предположение, что ни одна улыбка, ни один вздох, ни одно слово и ни одно движение не пропадают на этом свете бесследно, укрепилось.
Мне было двадцать лет, я работал в пекарне неподалеку от Котбуса. С утра пек хлеб, а после обеда отвозил его на трехколесном мотороллере в город и продавал там. Месить тесто, выпекать хлеб, продавать его людям, которые тут же его уничтожают, – неужели я живу для этого? И так всю жизнь?
Проблемы Фауста на низшей ступени; но что такое низко, а что такое высоко?
И Мефистофель явился.
Мой хозяин откармливал свиней черствым хлебом, размачивая его в рыбьем жире для скота. Поставщик рыбьего жира отозвал меня в сторону:
– И чего ты пропадаешь здесь в мучной пыли? Молодой человек должен идти вперед и вверх.
Я верил тогда, что есть «вперед» и есть «вверх». Человека звали Кубиак. Ему было лет под сорок, он брил голову, обладал боксерской челюстью и был беззастенчив не только по внешности. Недавно его произвели в генеральные представители рыбьего жира, он разъезжал в автомобиле и взял меня с собой на выучку. Его речь напоминала трескучий ярмарочный фейерверк. Родом он был из Хойерверды, говорил и по-немецки, и по-сорбски – одинаково плохо, угощал деревенских детишек сахаром, расточал комплименты женщинам и старухам, восхищался быками, коровами, лошадьми и курами – кто из крестьян устоит перед этим? Зато свиней Кубиак не очень-то расхваливал:
– Что это у тебя со свинками, сосед? Весь скот у тебя – загляденье, ткни пальцем – сок брызнет, а свиньи точно пустые кисеты! Ты им, что ли, рыбьего жира не даешь?
– Да я давал им, такое белое… – оправдывался крестьянин.
– Может, ты им керосин давал? Только не рыбий жир. – Кубиак доставал из кармана пробирку с образцом и капал собеседнику на палец: – Лизни!
Крестьянин лизал.
– Чувствуешь, язык дрожит?
Крестьянину и впрямь казалось, что он чувствует.
– От тетрамина. Это жир из печени кита. – Кубиак доставал из портфеля альбом с фотографиями. – Гляди, слева – подсвинки, кормленные рыбьим жиром, справа – не кормленные, и тем и другим по три месяца. Видишь разницу?
– Конечно, если оно и вправду так – чудеса, – соглашался крестьянин.
На улице Кубиак объяснял мне:
– Они такие сговорчивые только при первом заказе, потом придется поработать языком по-настоящему.
Мы завернули во двор, где хозяйка развешивала белье, она была дома одна.
– В жизни не видал такого белого белья, ну точно снег!
Кубиак поинтересовался, какие средства для стирки она применяет. Женщина показала на свои руки. Кубиак восхитился, а заодно похвалил ее «безупречную фигуру». Медленно, постепенно, кругами подводил он дело к свиньям и рыбьему жиру. Крестьянка подписать бумагу отказалась. Но Кубиак и тут не растерялся:
– Да уж не стесняйтесь, соседка, нас не проведешь, мы сразу видим, кто хозяин в этом доме. – И женщина подписала.
– Тут уж ни перед чем останавливаться не приходится. Молодой муж весь день надрывается в поле, она и не получает, чего ей положено, как жене. Почему бы и не помочь ей, раз уж ты очутился под рукой? Он ее отколотит за подпись, она все стерпит, но ни в жизнь не скажет, что валялась с тобой на сене.
Продажа рыбьего жира была самым легким делом на свете, если смотреть на мир глазами Кубиака, но, сколько я ни старался, торговца такого покроя, как Кубиак, из меня не вышло. Я и нынче не гожусь в агитаторы.
Я пришел к старику крестьянину. Его лицо казалось вырезанным из коры старого тополя, щеки в серых бороздах, в углах рта коричневые пятна табачного сока.
– Ага, это ты пришел, очень кстати, – сказал он.
У меня захолонуло сердце. Дело развивалось стремительно. Крестьянин повел меня на кормовую кухню: там у печи стояла его жена с пятнами сажи на лице, батрачка грязным полотенцем сгоняла мух со стола, это было все равно что пытаться смахнуть волны с поверхности пруда. Из кормозаправника вместе с паром вырывался запах вареной картошки. Подошел батрак. Я показал им свои брошюры, расхвалил рыбий жир, мой альбом они передавали из рук в руки, и наконец я вытащил флакончик с жиром и предложил хозяину лизнуть.
– Зачем, я ведь не свинья, – ответил он и велел батрачке помешать свиное пойло, а мне – вылить туда мои образцы.
Пойло вывалили в кормушку холощеному борову, тот, чавкая, вылизал корыто, поднял голову и с визгом потребовал еще.
– Это была маленькая проба, а теперь устроим большую. У тебя есть канистры с жиром?
Батрак захохотал. Он радовался, что на этот раз в дураках остался не он.
Я терял мужество. Если мне удавалось заключить один контракт, проваливались девять других. Как-то я зашел к вдове, еще раздавленной горем, она пожалела меня, такого тощего и бледного. Подсчитала что-то на пальцах и согласилась купить канистру рыбьего жира, если я смогу устроить, чтобы наше соглашение вступило в силу через два месяца. Я знал, что не могу этого устроить, но обещал. На обратном пути меня охватило раскаянье: я поступил как Кубиак. Я разорвал бумагу, подписанную вдовой.
У меня родилась новая торговая идея. Я работал в поле и на лугах вместе с крестьянами, рассказывал побасенки, пел песни собственного сочинения и понемногу, постепенно расхваливал свой рыбий жир… Но крестьяне и это принимали за шутку. Они охотно угощали меня обедом, но жира не покупали.
Я потерял мужество и впал в ярость. Она подзуживала меня поджечь ригу и поколотить кого-нибудь. Я курил, пил и носился с мыслями о самоубийстве.
Веревкой я уже запасся, дерево выбрал. Это произойдет на шоссе… Я не вернусь в пекарню, я не буду больше подобно медиуму, излучающему флюиды, то производить хлеб, то заставлять его исчезнуть, я не буду больше валять дурака перед крестьянами. Пели овсянки. У меня не было больше никаких желаний… Овсянки все еще пели, когда я проснулся. А что, что если я начну писать?
Писать!
У меня сохранились небольшие сбережения еще от моих пекарских времен – я собирался купить пишущую машинку, – теперь же я решил потратить их на писание и поселиться в гостинице на окраине какого-либо городишки в Шпреевальде.
Первый день я писал по велению страсти к отмщению, второй день я писал по велению моего горя, третий день я писал по велению мучивших меня сомнений. Бог умер, мир рушился.
И я снова задумался: этого ли я хотел? Чего же я хочу, чего же я хочу, черт побери?
Я хотел написать роман, я прочел кучу семейных романов и вскрыл их схему: нужно описать любовные отношения, их необходимо снабдить трудностями, чтобы получилось достаточное количество газетных продолжений. Лучше всего взять возлюбленную из низших и возлюбленного из высших слоев общества. Преодоление социальных препятствий увеличивает размеры романа. Хорошо проходит артист, скажем, скрипач-виртуоз, годились и далекие страны, лучше всего Америка, где мойщики посуды вырастают в миллионеров, словно шампиньоны на конском навозе.
Я создал любовную пару: скрипач из кафе – помесь Паганини с французским парикмахером, девушка была своевольным отпрыском графского рода Гертц из Вюрцберга.
К сожалению, мне не удалось достаточно растянуть развитие их любовной связи. Я всегда был слишком стремителен в любви. Романа едва хватало на десять газетных продолжений. Все равно, что ничего…
Я лежал без сна в гостиничном номере: почему бы не написать о людях, которых я знаю? И я начал все сначала. Как по мановению, в действие вошел препротивнейший крестьянин из времен моей торговли рыбьим жиром. Относительность понятия времени выявилась для меня. Все, что я когда-либо делал, находилось в прошлом, в некоей пустыне, но я оглядывался назад, и пустыня расцветала, а сухие травы отступали на задний план. Я общался с людьми и вещами и познавал их заново; мне было легко, как легко пушинке, подхваченной попутным ветром.
Через полтора месяца мои сбережения растаяли. Надо было поскорее подвести роман к концу.
Денег на пишущую машинку я не жалел. У меня в руках был роман, и я, как триумфатор, вернулся в пекарню. У остальных подмастерьев хранились в сундучках часы или кольцо с печаткой, у меня – роман.
Великий мастер парадокса Брехт говорил, что фабула любого романа укладывается в одну фразу. Моя фраза прозвучала бы так: деревенский парень ссорится с отчимом, уходит работать в город и возвращается домой после того, как отчим прочел его роман.
Я обложился газетами и журналами, в которых печатали романы с продолжениями, ибо я хотел предложить им свой роман. В одной из газет я наткнулся на объявление, созданное словно специально для меня: «Почему вы не пишете романов? Попробуйте! Каждый может написать роман. Пришлите нам ваш роман, мы оценим его и передадим в газету. Редакция Лессинга».
Контора Лессинга помещалась в аристократическом районе Берлина. Я отправил мой роман туда.
Ответ пришел незамедлительно. Я прочел его в том единственном месте, где пекарский подмастерье может посидеть днем. Господин Лессинг, возможно косвенный потомок моего великого соотечественника из Каменца, сообщал, что мой роман можно было бы показать кому следует, но его нельзя показать, так как он написан от руки и носит следы моей правки. Господин Лессинг предлагал перепечатать рукопись на машинке. Пятьсот марок за любезность.
Ради моего романа я стал попрошайкой. Сестра взяла деньги из сберкассы, бабушка залезла в свой чулок, у тети были припрятаны деньги, вырученные за яйца, дед, матушка – все стремились сделать из меня романиста и оказать вспомоществование господину Лессингу на сумму пятьсот марок.
Излишне рассказывать, чем это обернулось: из конторы Лессинга прислали мне машинописную копию романа, которую я мог давать читать моим кредиторам. Единственным человеком, кто его прочел, была, по-моему, матушка. Все ждали, что будет дальше. А дальше не было ничего. Господин Лессинг вернул роман, прислал оригинал и четыре копии и уверял, что предлагал его множеству газет, но все его отклонили, а в постскриптуме господин Лессинг прибавил: «Между нами, роман недостаточно плоский для них». Утешение ценою в пятьсот марок.
Не знаю, был ли мой роман плоским, высоким, глубоким, длинным или широким. Я никогда не перечитывал его. Он существует до сих пор и желтеет на чердаке в одном из двух заморских чемоданов, наполненных пробами пера.
– Как поживает твой роман? Когда выйдет твой роман? – спрашивали тетя и сестра, спрашивали все, и я не мог этого больше выдержать. Я убежал и добрался до Нижнего Рейна. Едва я попал туда, как начал писать снова. Я вцеплялся в землю всеми своими корешками. Я был как пырей на почтенном поле ржи.
Одни пишут потому, что им хочется писать, другие потому, что не могут не писать. Было время, когда подобная классификация мне нравилась: я относил себя к высшим, к тем, кто не может не писать, но тогда я еще не знал, что графоманы тоже не могут не писать, они одержимы манией писания.
Теперь самое время рассказать про моего друга, про наши разговоры и развлечения в чужой стране. Он был ученый, специалист по вопросам культуры, доктор наук, носитель нескольких почетных званий и титулов. Я не перечисляю их, ибо мне надоело помешательство на титулах: разве не было сказано однажды, что главное – человек.
Мы знакомы давно, доктор наук и я; когда-то он был сцепщиком на железной дороге, а я – рабочим на фабрике, потом он стал работником отдела культуры в районном совете, а я – сотрудником районной газеты в том же городке. Его характеру уже тогда была присуща склонность к исследованиям и аналитический дар такой силы, что его можно уподобить лишь рентгеновским лучам; я же всегда – но как охарактеризовать самого себя! – был потребителем, потребителем жизни.
Коренастый и приземистый, он походил не столько на бурав, сколько на пробойник. На месте женщин я счел бы доктора красивым: он так раздувал ноздри! Что касается меня, я могу похвалиться только рыжей бородой.
Мы давно не виделись: вначале уходишь в свою специальность, потом теряешь друг друга из виду – прогресс! Что он такое, этот прогресс, кто измеряет его шаги?
Мы встретились за границей, на курорте, мы оба страдали болезнью суставов; снабженная всякой медицинской латынью, болезнь эта выглядит весьма внушительно, в народе ее попросту называют ревматизмом. Доктор заработал свой ревматизм, сидя за столом, я – верхом на лошади. Жизнь поизносила нас.
Мы встретились в столовой санатория, он еще не ел, я уже поел, мы оба спешили, каждый по своим делам – санаторные процедуры! Мы на ходу порадовались встрече, на ходу повздыхали, мол, «не молодеем».
Второй раз мы встретились в так называемом «зеркальном бассейне». Я сидел на кафельной скамье, по горло погрузившись в сернистую воду, температура воды достигала сорока градусов, и под куполом ванного заведения стоял сернистый туман, как в мастерской, где вулканизируют шины.
Доктор наук спустился по кафельным ступеням, и я с удовлетворением отметил, что он полноват, ибо в остальном – с точки зрения женщин – он был более видным мужчиной, чем я. Он не узнал меня: он влез в бассейн без очков и застонал; все стонут в этом бассейне, ибо он усмиряет всякую боль, где бы ни болело. Мы сидели, пока жар не ударил нам в голову, тогда мы начали бродить в воде: два американца, трое датчан, чехи, словаки, пятеро венцев, шестеро баварцев, один шейх из Кувейта, доктор наук и я. Бредя по бассейну, доктор наткнулся на меня и даже без очков узнал. Мы сели рядом на кафельные сиденья, зеленовато-желтая вода доходила нам до подбородков, и доктор доброжелательно спросил:
– Пописываешь? О чем сейчас?
– О писании, – ответил я.
– Пописываешь о писании? – Он, казалось, не поверил, что я способен на такое.
Два дня спустя мы встретились там, где отпускают грязевые аппликации, и опять в чем мать родила. Доктора направили в кабину номер восемь, а меня в кабину номер семь; ко мне первому пришли санитары с грязью, они покрыли мое ложе серо-черной массой – приготовили для меня перину, если угодно. Наши кабины разделяла только тонкая деревянная перегородка, доктор обошел ее и поглядел, как покрывают мое ложе грязью, и спросил:
– Ну и как?
Разговор прервали. Мне велели взобраться на лежак и теперь стали покрывать грязью меня, затем обернули сначала темной, потом светлой простыней, а под конец закутали в белое войлочное одеяло из овечьей шерсти.
То же проделали с доктором. Санитары укатили тележку с грязью, все стихло, мы, два обитателя Центральной Европы, лежали, спеленутые в кокон, и доктор, подняв голос, обратился ко мне через перегородку:
– Я насчет того, как обстоит дело с писанием?
– Именно это я и пытаюсь установить, – сказал я.
– Путем писания установить, что такое писание? Ползучая эмпирия и т. п.!
Подошел санитар, вытер мне пот со лба и спросил, как я себя чувствую. Я кивнул сдержанно, как человек, у которого болят зубы, и стал ждать, но доктор наук больше голоса не подал. По-моему, он уснул под покровом грязи.
Мне было предписано ежедневно плавать в бассейне с горячей минеральной водой. Это было приятно, но меня раздражали представители всех частей света, превращавшие эту процедуру в развлечение, они заказывали официантам вермут, бросались громкими именами и мешали моему литературному плаванию.
В шесть часов утра я пошел к портье, и за пять крон мне открыли калитку в парк, и теперь весь бассейн принадлежал мне одному: майское утро, морозное дыхание с вершин Малых Бескид, но вода в бассейне – тридцать восемь градусов. Соловей уже пел, а кукушка еще куковала. Запах цветущей сирени в каждом порыве ветра. Вода зеленая и прозрачная, и лепестки жасмина на ней.
Я услышал чье-то пыхтенье, меня настигал доктор наук. Из своей комнаты он углядел, что я уже плаваю. Мне стало досадно – не для того давал я чаевые. Не услышать мне теперь ни соловья, ни кукушки. Доктор наук был в отменном расположении духа и, вернувшись к нашему разговору, спросил:
– А вообще, что оно такое, искусство?
– Понятия не имею, – буркнул я между двумя гребками.
– Я это установлю. – И, продолжая плыть, он ухитрился поднять указательный палец. – Я установлю, что такое искусство, можешь мне поверить!
Видно, на моем лице отразилось недоверие, ибо доктор удалился, как мне показалось, с несколько обиженным видом.
Я еще немного поплавал, недоумевая, почему ученый взывает к вере. В этот день я не пошел обедать в столовую. Я поел в городе.
Казалось бы, в санатории наша старая дружба должна была восстановиться, но, вероятно, мы оба утратили способность к ней. Каждый из нас делал свое дело. Он исследовал, я писал. Признаки наших профессий лежали на нас Каиновой печатью.
В четвертый раз мы встретились в том углу бассейна, где царили массажисты. Массажистов было четверо, и они работали около лежаков, стоявших один подле другого. Доктор наук лежал на животе, а я на спине, и нас массировали. Я никак не предполагал, что доктор возобновит наш разговор в такой обстановке, но, перевернувшись на спину, он спросил:
– Как начинают писать? Романы и т. п.?
Он хотел узнать, я хотел ему помочь и спросил в свою очередь:
– Как думаешь, с чего начал я?
Массажист сгибал и разгибал мне пальцы на ногах. Я кряхтел. Массажист доктора прошелся по его позвоночнику вверх и вниз, но он тем не менее ответил:
– Прежде всего, так мне думается, ты должен осознать, где находится центр тяжести, идеологический центр тяжести, так мне думается.
Я стонал, массажист похлопывал мои бедра ребром ладони.
– Я обычно начинаю не с идеологического и не с центра тяжести, а с того, что полегче.
Доктору в это время разминали икры, он мог чуточку перевести дух и спросил:
– В твоем, например, первом романе в чем заключалась эта идеологическая легкость? – Он презрительно усмехнулся.
– В моем, например, вошь и т. п.
– И точка, – сказал массажист, словно он принимал участие в нашем разговоре.
Доктор удалился не прощаясь. По-видимому, он решил, что я издеваюсь над ним. В следующей беседе я предполагал обосновать свое утверждение, но больше мы с доктором в санатории не встретились. Он приехал сюда раньше, чем я, и уехал раньше меня. Вряд ли мы и дома когда-нибудь встретимся. Специализация! Осталось единственное утешение: иногда случается прочитать друг друга.
В деревню приехал кукольный театр. Упряжкой пони, тащившей фургон, правила женщина со сверкающими южными глазами и блестящими серьгами, на телеге с пожитками сидел мужчина с закрученными усами, он размахивал шляпой и пел:
– Марионетки, марионетки, сегодня вечером выступают марионетки!
У бокового окошка фургона, раздвинув занавески, стояла девочка с черными локонами и разглядывала деревню и нас, детей, ее будущих товарищей игр. Мне почудилось, что на меня она посмотрела особенно приветливо.
Вечером мы с тревогой следили за судьбой прекрасной Геновевы. Изгнанная мужем, она жила в лесу и питалась со своим ребенком только кореньями и молоком дикой лани. Нас приводили в трепет судьбы этих маленьких, искусно сделанных человеческих подобий, подвешенных на нитках.
На бис дочка кукольников вышла на сцену и взяла на руки Касперля. Они сидели в кукольной комнате: маленький Касперль и большая девочка, и свет от рампы делал ее еще прекрасней.
– Как тебя зовут? – спросил Касперль.
– Суламифь Мингедо, – ответила девочка, и для меня ее имя прозвучало перезвоном колокольчиков. Суламифь спела вместе с Касперлем песню чужих, дальних краев, и я уговорил сестру подружиться с Суламифью Мингедо, и сестра подружилась с Суламифью Мингедо, и мы заходили за ней перед школой, мы оберегали ее от дурацких расспросов и выучили с ее голоса чужеземную песню:
Я прилежно вызывался отвечать и на уроках закона божьего, и на арифметике, чтобы Суламифь увидела, сколько я знаю. Солнце освещало классную комнату, в его лучах вспыхивали яркие шары гераней и блестели черные локоны Суламифи. Учитель расхаживал по классу, поучая: «И сказал тогда господь: „Кто из вас без греха, первый брось на нее камень.“». Учитель запнулся, уставился на голову Мингедо, дотронулся до ее пробора указкой и с невероятно брезгливой гримасой проговорил: «Вошь!»