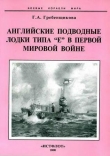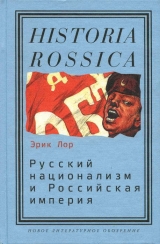
Текст книги "Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны"
Автор книги: Эрик Лор
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
«Кунст и Альберс»
Одно из наиболее масштабных и спорных ликвидационных дел во время войны было связано с крупной торговой компанией «Кунст и Альберт», обслуживавшей в основном российский Дальний Восток. Годовой оборот компании составлял 17 млн. руб., а доля в обороте рынка – почти 50% по целому ряду потребительских товаров, продаваемых в разветвленной сети магазинов{251}. Данное дело показывает, насколько важна была роль прессы и конкурентов во всеобщей шовинистической мобилизации против вражеских подданных в экономике, а также какова была роль армии во внутренней политике и сколь запутанным был клубок взаимосвязанных русских и «иностранных» интересов в имперской экономике даже в далекой Сибири.
Компания «Кунст и Альберс» являлась торговым предприятием, основанным по российскому законодательству в 1864 г. и имевшим 30 отделений по всему Дальнему Востоку и во всех крупных городах империи. Ее управляющие и совладельцы Адольф Даттан и Альфред Кунст получили российское подданство в 1880-х гг. Как компания, принадлежавшая российским подданным, она не подпадала под действие ликвидационных указов о вражеской собственности. Однако нападки на компанию начались уже вскоре после начала войны. На основании анонимного доноса на Даттана, обвинявшегося в ведении якобы шпионской деятельности с помощью своей компании, генерал-квартирмейстер Ставки приказал провести 11 сентября 1914 г. ночной обыск в конторе компании и в доме Даттана. Все служащие – вражеские и враждебные подданные, включая и самого Даттана, были арестованы и высланы в Иркутск, хотя в полицейском отчете отмечалось, что «доказательств шпионской деятельности» не обнаружено. Эти действия властей спровоцировали шквал газетных статей, утверждавших, что Даттан – шпион, а его компания – немецкая и должна быть ликвидирована. Через несколько недель Даттан был освобожден, что вызвало фомогласные обвинения правительства в измене. Янушкевич писал министру внутренних дел в декабре 1914 г. о том, что вел. кн. Николай Николаевич проявил личную заинтересованность в этом деле и желал бы, чтобы Даттан был снова выслан, а его компания ликвидирована. В январе 1915 г. полиция снова произвела обыски в отделениях фирмы, на этот раз Даттан был арестован и выслан в Нарым Томской губернии. Янушкевич приказал наложить арест на прибыль и основной капитал фирмы. Агитация за ликвидацию фирмы «Кунст и Альберс» продолжалась в течение всей войны. Редактор правой петроградской газеты «Вечернее время» сыграл главную роль в разжигании кампании в печати и утверждал в особой записке в 1917 г., что именно он первым раскрыл «измену» Даттана и его компании{252}. «Общество 1914 года» отчаянно ратовало за ликвидацию и заверяло в поддержке данной меры со стороны всех главных военачальников, утверждая, что ликвидация «Кунст и Альберс» объединит правительство с живыми силами населения и будет содействовать победе здорового русского национализма над тлетворным иностранным влиянием{253}.
Однако действительность оказалась гораздо более сложной. Из Хабаровска, Владивостока и Николаевска-на-Амуре биржевые комитеты сообщили, что ликвидация фирмы поставит все население Дальнего Востока в затруднительное положение и обострит существующую нехватку потребительских товаров и инфляцию{254}. Старшие русские служащие «Кунст и Альберс» написали коллективное письмо в защиту компании, в котором указали, что практически все руководящие должности в ней занимают русские подданные, 200 из 750 служащих находятся в рядах действующей армии и продолжают получать полное жалованье, а 85% товаров, продаваемых компанией, производилось в России и что Дальнему Востоку совсем не нужен рост цен на товары первой необходимости и новый виток инфляции{255}. Они также подали иск против «Вечернего времени» за клевету и предупредили, что весь сибирский рынок розничной торговли поделен между «Компанией Чурина» и «Кунст и Альберс» и, следовательно, ликвидация последней сделает Чурина монополистом. Жесткая конкуренция между двумя фирмами была выгодна потребителям, поскольку не позволяла ценам расти. В «Кунст и Альберс» утверждали, что за всей этой ликвидационной кампанией стоял Чурин, инспирировавший анонимные доносы и подкупавший прессу для публикации скандальных статей{256}.
Поскольку фирмой целиком владели и управляли российские подданные, власти не могли просто применить один из ликвидационных законов, поэтому сначала они наложили арест на имущество компании, а потом назначили правительственных инспекторов для контроля над ее деятельностью. Комитет по борьбе с немецким засильем рассмотрел этот вопрос в декабре 1916 г. и постановил, что фирма должна быть ликвидирована. Совет министров утвердил это решение в январе 1917 г., но прежде чем оно могло быть выполнено, произошла Февральская революция{257}.[76]76
Имущество фирмы было национализировано в 1925 г., ее отделения и конторы вынуждены были закрыться в 1930 г., а иная деятельность прекращена в 1939 г.
[Закрыть] Временное правительство пересмотрело данное дело и отложило процедуру ликвидации.
Совладелец компании А. Даттан, уже 30 лет бывший российским подданным, провел большую часть войны в сибирском лагере для интернированных. Вскоре после Февральской революции он получил свободу на несколько недель, но вновь был арестован и интернирован 7 апреля 1917 г. Его космополитический стиль жизни и связи с Германией были слишком подозрительны для военного времени. Будучи полноправным российским подданным, удостоенным потомственного дворянства, два сына которого служили в русской армии, он при этом поддерживал связи с Германией, часто ездил в Берлин, где сохранял отделение своей компании. Никаких доказательств того, что он или кто-либо из его служащих занимались шпионской деятельностью во время войны, найдено не было. Контрразведка действительно сталкивалась с серьезными трудностями в Сибири, как и по всей империи, а военная контрразведка была особенно озабочена свидетельствами того, что Германия использует базы в Китае, чтобы вести шпионскую и подрывную деятельность в Сибири{258}. Но «Кунст и Альберс», конечно же, не была единственной фирмой принадлежавшей российским подданным и все же попавшей под жесткое давление во время войны. Много других, особенно мелких фирм, не избежали той же участи. Однако полемика вокруг компании показала, как пропагандистская кампания может легко выйти за положенные рамки агитации против именно вражеских подданных и перекинуться на давно натурализовавшихся российских подданных и их предприятия[77]77
Другое крупное, полностью российское предприятие – Путиловские заводы в Петрограде было секвестровано во время войны якобы по причинам взяточничества административного персонала и неспособности работать на оборону в полную силу. Основным пунктом агитации за секвестр было недовольство рабочих одним из директоров, Карлом Шпанном, которого рабочие считали немцем (он много лет уже являлся российским подданным), впрочем, как и других мастеров и управляющих немецкого происхождения. В письме в «Общество 1914 года» группа рабочих завода требовала его секвестра в казну с целью спасти предприятие от германофильствующих банков, снабжавших его сырьем, и очистить администрацию от немцев, которых покрывает Карл Шпанн. ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Д. 2527. Л. 1. О секвестре Путиловского завода см.: Grant J.A. Big Business in Russia: The Putilov Company in Late Imperial Russia, 1868—1917. Pittsburg, 1999. Особенно Р. 119.
[Закрыть]. Стала довольно типичной ситуация, когда стоявшие на первом месте проблемы безопасности при более внимательном рассмотрении лишь прикрывали попытки передачи рычагов экономического влияния в руки «истинно русских» владельцев.
«Компания швейных машин Зингер»
Другим крупным и чрезвычайно спорным делом военного времени стала ликвидация компании «Зингер». Оно также показывает, как кампания против вражеских подданных могла распространиться на широкие категории предприятий в пределах империи. С акционерным капиталом в 50 млн. руб., с 27 тыс. рабочих и служащих, обладая сетью из сотен магазинов по всей стране, «Зингер» была одной из крупнейших торгово-промышленных компаний в Российской империи{259}. Как ни в каком другом случае, дело компании «Зингер» было раскручено именно военными властями на основании обвинений сотрудников фирмы в шпионаже. Толчком к началу кампании против «Зингер» послужило перехваченное открытое письмо из Германии, адресованное в главное управление компании, в котором было обещано денежное вознаграждение за информацию о внутреннем положении в России, о ходе мобилизации и передвижениях войск{260}. Это побудило Ставку в декабре 1914 г. разослать всем местным воинским начальникам циркуляр, в котором утверждалось, что «Зингер» – германская компания, а ее сотрудники и представители – шпионы{261}. Началось расследование, которое вели контрразведка и МВД. Основу обвинения в шпионаже составляло обнаруженное контрразведкой свидетельство, что главное управление фирмы запрашивало у всех своих отделений подробные отчеты по следующим параметрам: состояние экономики на местах, изменения в настроении населения, детальная характеристика состава населения, сроки и успешность прохождения призывов в армию и т.п.[78]78
Это обвинение также было центральным в газетной кампании против фирмы «Зингер». См.: ГАРФ. Ф. 102. Оп. 73, II. Д. 162. Л. 67; Лояльность компании «Зингер» // Новое время. 1915. 29 июля.
[Закрыть] Военные и полиция увидели в этом «несомненное подтверждение шпионской деятельности» фирмы. Однако образцы подобных отчетов, сохранившиеся в делах Департамента полиции, показывают, что они были всего лишь частью стандартного применения «системы Зингера» в маркетинговых исследованиях – одной из самых современных маркетинговых систем в мире на тот момент, по мнению Фреда Карстенсена{262}.
Преисполненные решимости найти доказательства шпионской деятельности компании, военные власти в июне 1915 г. перевели расследование из секретной в более чем открытую для общества форму. Генерал М.Д. Бонч-Бруевич приказал провести 6 июня 1915 г. ночные обыски в 500 отделениях и магазинах фирмы, расположенных в подведомственном его 6-й армии Петроградском районе. Обыск сразу стал сенсацией. Пресса подхватила эту историю и обвинила фирму в создании прикрытия для немецких шпионов. В течение следующего месяца командование Петроградского, Киевского, Двинского и Кавказского военных округов провело согласованные ночные обыски в магазинах и на складах фирмы «Зингер». 31 июля 1915 г. Бонч-Бруевич приказал немедленно закрыть более 500 магазинов компании и арестовать их имущество и счета. В результате этой акции было уволено 6 тыс. рабочих и арестовано товаров на 12 млн. руб.{263}
МВД закрыло отделения «Зингер» и в других регионах по всей империи, включая 94 отделения в Тифлисской губернии и 119 – в районе Ростова-на-Дону. Пресса продолжала свои нападки на «германскую фирму “Зингер”» и требовала ее немедленного секвестра или ликвидации. Губернаторы по всей империи, ссылаясь на статьи из «Нового времени», требовали дать им право закрывать, секвестровать или ликвидировать отделения «Зингер» на подчиненной им территории{264}.[79]79
Эти документы включают запросы губернаторов и управляющих из Архангельска, Хабаровска, Тулы, Тифлиса, Астрахани и Иркутска. Все они содержат упоминания статей в печати и требования полномочий для проведения обысков и закрытия местных отделений фирмы «Зингер» в пределах соответствующих губерний и областей.
[Закрыть] Казанский губернатор предупреждал, что, если «Зингер» не закроют, возможны массовые беспорядки{265}. Чтобы защититься от атаки властей, компания провела чистку рядов своих служащих от вражеских подданных и от российских подданных немецкого и еврейского происхождения{266}.[80]80
Государственный инспектор в главном региональном филиале «Зингер», имевшем в подчинении 71 магазин, докладывал, что в 1915 г. было приложено немало усилий с целью «почиститься от немецкого и еврейского элемента» в этих отделениях фирмы.
[Закрыть] Местные власти также не дремали и в ускоренном порядке выслали многих местных служащих фирмы – немцев и евреев{267}.
Вскоре общественность узнала, что широко распространенная аксиома о германской принадлежности компании «Зингер» оказалась ложной. Вмешательство возмущенного американского посла, крупного финансиста Дж. П. Моргана и других известных лиц заставило князя Г.Е. Львова, главу объединенного Союза земств и городов (Земгора), провести серьезное неофициальное расследование вопроса{268}. Результаты были опубликованы в августе 1915 г. в специальном отчете, отмечавшем, что из 30 328 служащих компании до войны только 131 были подданными враждебных государств и совсем малое число работников были гражданами союзных или нейтральных стран. В отчете содержалось заключение о том, что компания, основанная в 1897 г. как российская, была изначально американской и получала все руководящие указания из Нью-Йорка, а не из Берлина. Один из трех основателей русской компании был германским подданным, но только до 1902 г. Более того, «Зингер» уже имела 82 оборонных заказа на 3,6 млн. руб., а расследования, закрытия и секвестры грозили их невыполнением. Американская головная компания приказала кораблям, на борту которых находились основные компоненты для производства авиамоторов на Подольском заводе, развернуться, возвратиться в Нью-Йорк и оставаться там до тех пор, пока не прекратятся закрытия и секвестры, а также не будет снят запрет на перевод денег из России в Нью-Йорк. Секвестры и запрет на выплаты за рубеж не только угрожали объемам производства в России, но и привели к образованию 120 млн. руб. долга фирмы «Зингер-Россия» перед головной компанией в Нью-Йорке. Это в свою очередь угрожало экономическим отношениям с США, которые и так уже были натянутыми из-за массовых депортаций евреев и гражданских лиц как враждебных подданных{269}. Продолжавшиеся газетная травля и официальная кампания еще более обостряли проблему, поскольку многие клиенты и фирмы отказывались погашать свои долги перед «Зингер». Текущие долги по расчетам стремительно росли, еще более угрожая способности компании выполнять оборонные заказы и продолжать производство товаров для потребительского рынка{270}.[81]81
Предприятие, процветавшее и быстро развивавшееся до войны, понесло убытки на сумму в 1,2 млн. руб. в 1914 г. и 9,4 млн. руб. в 1915 г.
[Закрыть]
Несмотря на очевидный урон экономике, оборонному производству и отношениям с важной нейтральной державой – США, включая прямые угрозы Дж.П. Моргана покинуть Россию и агитировать против предоставления ей кредитов, ликвидационная кампания продолжалась. 26 сентября 1915 г. все 94 магазина на Кавказе были закрыты по приказу военных властей, а сам военный министр продолжал требовать прекращения деятельности отделений «Зингер» по всей стране{271}. Центральные власти все же позволили большинству магазинов к концу 1915 г. открыться вновь, но под контролем правительственных инспекторов, что практически приравнивалось к секвестру Государственные управляющие докладывали о больших трудностях при восстановлении деятельности отделений компании, многочисленных конфликтах с полицией и военными властями, которые упорно продолжали противодействовать их усилиям{272}.
Дело фирмы «Зингер», хотя и не приведшее к полной ее ликвидации, наглядно показало динамичную природу данной пропагандистской кампании. Обвинения в шпионаже, исходившие от военных, привели к своего рода «официальному погрому» компании, прокатившемуся по всей стране, чему способствовали присоединившиеся к травле МВД, местные власти и печать. Некоторые управляющие филиалами «Зингер» пытались избежать расправы, увольняя российско-подданных немцев и евреев, даже если от них этого напрямую не требовали. Этот случай демонстрирует, как шовинистическая кампания, нацеленная исключительно на вражеских подданных, распространилась на граждан нейтральных стран и даже российских подданных. В 1930-е гг. в СССР можно было наблюдать новый расцвет этой своеобразной «ментальности чисток» (purge mentality). «Зингер», конечно же, была не единственной крупной фирмой иностранного, но не вражеского происхождения, практически уничтоженной в ходе ликвидационных кампаний военного времени[82]82
Например, американская фирма «Треугольник» подверглась столь же суровым испытаниям. РГИА. Ф. 23. Оп. 27. Д. 681. Л. 2.
[Закрыть].
* * *
Хотя Временное правительство сняло ограничения военного времени с российских подданных, оно не собиралось сворачивать репрессивные меры против вражеских подданных и их имущественных прав. Фактически стремление свести на нет участие подданных враждебных государств в экономике даже усилилось, и самым поразительным образом эта тенденция сохранялась в программах четырех совершенно разных режимов, находившихся у власти в 1917—1920 гг. «Ликвидационные комитеты», созданные при старом режиме, продолжали свою работу при Временном правительстве, а затем и при большевистском режиме (безусловно, с существенной сменой состава членов). Существуют свидетельства, что белые в самом начале Гражданской войны также предприняли попытку наконец завершить ликвидацию некоторых немецких фирм на контролируемой территории{273}. Во время недолгого пребывания у власти Временного правительства акции вражеских подданных, составлявшие приблизительно 2% стоимости всего основного акционерного капитала в российской промышленности, были переданы российско-подданным частным лицам или государственным учреждениям. Всем 33 крупным акционерным обществам, действовавшим в России на основании германских и австрийских уставов, было запрещено продолжать работу в России, и многие из них были ликвидированы к ноябрю 1917 г. В итоге 1839 торговых фирм и 59 крупных промышленных предприятий также были ликвидированы или сменили владельцев. На 364 предприятиях началась ликвидация паев вражеских подданных, т.к. выяснилось, что в капиталах этих фирм участвовало значительное число вражеских акционеров. Кроме того, десятки предприятий, включая некоторые самые крупные иностранные компании в России, были секвестрованы и переданы под контроль государственных или общественных организаций. К тому времени, когда большевики захватили власть, большая часть германского и австрийского участия в имперской экономике была ликвидирована; практика национализации собственности, принадлежавшей «враждебным» категориям населения, была узаконена и стала применяться в полную силу[83]83
Большевистская комиссия в начале 1918 г. приблизительно подсчитала, что по законам, принятым еще царским режимом, к тому моменту уже было ликвидировано торгово-промышленных предприятий с участием вражеских подданных на сумму 2,35 млрд. руб. Согласно этим данным, 2 млрд. руб. из этой суммы принадлежали гражданам Германии. Подсчеты вообще не затрагивали оккупированную врагом территорию Украины и Польши. Нужно отметить, что это лишь обобщенные цифры, которые мне удалось обнаружить, и проверить их точность нет никакой возможности. ГАРФ. Ф. р-546. Оп. 1. Д. 70. Л. 52 (Записка о возможных претензиях Германии к России, составленная особым отделом Государственного казначейства по финансовым вопросам, стоящим в связи с осуществлением Брестского договора, б.д.). Читатель может оценить масштаб данной программы, сравнив указанные цифры с результатами национализации промышленности, проведенной большевиками. В конце 1918 г. Общество заводчиков и фабрикантов подсчитало, что большевики национализировали 1100 предприятий с уставным капиталом около 3 млрд. руб. См.: Коваленко Д.Л. Оборонная промышленность Советской России в 1918—1920 гг. М., 1970. С. 156. Другой показатель масштаба программы можно найти в особом финансовом разделе Брест-Литовского мирного договора, подписанном 27 августа 1918 г. Он обязывал большевистское государство выплатить компенсацию за все потери, понесенные вражескими подданными с начала войны и до подписания мира. Хотя в тексте приложения нет отдельных сумм возмещения для данной категории, такие разделы, как «потери, понесенные гражданскими лицами» и «потери от конфискаций», составляли вместе 4 млрд. марок. См.: Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора: Сборник документов. М, 1968.Т. 1. С. 615-617, 640.
[Закрыть].
Большевики также не отменили законы царского правительства, направленные против вражеских подданных, и не распустили ликвидационные комитеты, введенные при царском режиме. В первые месяцы правления большевиков, до известного декрета 28 июня 1918 г. о национализации крупной промышленности, еще 191 предприятие, на котором до революции были сформированы ликвидационные комитеты, было ликвидировано{274}. По сути, вопрос о собственности вражеских подданных оказал важнейшее влияние на выработку положений и дату принятия этого основополагающего декрета[84]84
Как считает Сильвана Малле, хотя национализация тяжелой промышленности действительно являлась одним из центральных догматов и целей марксизма, в первые 6 месяцев после большевистского переворота национализация представляла собой скорее спонтанные акции революционеров, рабочих или мелких представителей новой власти, чем продуманную правительственную политику. Ленин фактически продемонстрировал удивительную медлительность с декретом о национализации тяжелой промышленности как с российским, так и с иностранным капиталом, опасаясь полного краха внутреннего производства. Переход от политики «государственного капитализма» к «военному коммунизму» в июне 1918 г. часто объясняется угрозой гражданской войны, однако проблема вражеских подданных также сыграла свою роль. Ликвидация двумя предшествовавшими режимами имущественных прав вражеских подданных оставляла Ленину гораздо меньше возможностей для маневра. Кроме того, серьезной ошибкой стало согласие немецких представителей в июне 1918 г. в Брест-Литовске на то условие, что земли, шахты, промышленные и коммерческие предприятия и акции должны быть возвращены гражданам бывших вражеских государств за исключением собственности, переданной государству. Ошибка состояла в допущении формулировок о любых видах собственности, переданных государству до 1 июля 1918 г., что предоставило большевикам целую неделю, в течение которой они неистово национализировали последние остатки акций и имущества вражеских подданных с целью обойти требование о компенсации. В лихорадочной спешке был подготовлен список из 1100 фирм, включая все оставшиеся предприятия даже с малыми паями граждан Центральных держав, и их национализация была проведена 28 июня, практически накануне истечения положенного срока (1 июля). Следовательно, как минимум ускоряющим обстоятельством для появления большевистского декрета о национализации стал Брестский мир, на условия которого повлияла в том числе и кампания против вражеских подданных. ГАРФ. Ф. р-393. Оп. 7. Д. 1; Nolde B.E. Russia in the Economic War. P. 180; Коваленко ДА. Оборонная промышленность. С. 153—155; Malle S. The Economic Organization of War Communism, 1918—1921. Cambridge, 1985. P. 59– 61; РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 3194. Л. 1 (Циркуляр Ликвидационного отдела Народного комиссариата торговли и промышленности РФСР – временным управляющим, ликвидационным комитетам и ликвидаторам вражеских фирм, 22 июля 1918 г.); В.И. Ленин во главе великого строительства: Сборник воспоминаний о деятельности В.И. Ленина на хозяйственном фронте. М., 1960. С. 63-64.
[Закрыть].
По причине того, что роль иностранцев в экономике позднего имперского периода была велика и в основном это были подданные враждебных государств, санкционированная государством кампания против последних имела существенные последствия для экономики империи в целом. Роль иностранцев в экономике империи была не просто значительна сама по себе – инвестиции, коммерческие связи, акции и паи иностранных подданных были теснейшим образом переплетены с русским бизнесом. Спеша создать более русскую экономику, власти весьма агрессивно вмешались в функционирование общеимперской экономической системы и попытались распутать сложный многонациональный узел смешанных сфер промышленности, торговли и финансов, стремясь выявить и нейтрализовать секторы, как считалось, захваченные врагом. Деятельность властей влияла на характер внутренней политики и на отношение не только непосредственно к вражеским подданным, но и к более широким категориям населения, включая иностранцев вообще и российско-подданных членов коммерческих диаспор. Государство отказалось от своей роли защитника прав собственности, круто изменило прежнее отношение к иностранным инвестициям и приняло радикальную программу национализации экономики путем передачи собственности и рабочих мест подданных враждебных государств русским, лицам других «благонадежных» национальностей или самому себе.
Глава 4.
«НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ» ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ
Одним из краеугольных камней кампании против вражеских подданных в Российской империи во время Первой мировой войны был план конфискации земельной собственности и передачи ее представителям русской и других привилегированных национальностей. В некоторых отношениях сосредоточение усилий на землевладении отражало известное положение о том, что земля есть главный инструмент достижения социальной и политической власти, а на применение экстраординарных мер военного времени до определенной степени оказывала влияние традиционная сословная система. Однако также оно отражало переменчивые подходы к национальному вопросу и системе имперского правления на приграничных территориях. Меры военного времени имели ряд серьезных непредвиденных последствий для экономики, стабильности и легитимности частной собственности в деревне.
Земельная собственность и национальный вопрос перед войной
Ограничения еврейского землевладения
Задолго до Первой мировой войны имперская власть тщательно разработала ограничения на приобретение земли представителями определенных национальностей, и прежде всего евреями и поляками. Хотя экспроприация применялась лишь в редких случаях, ограничения еврейского землевладения стали решающим прецедентом для мер военного времени.
Меры по ограничению еврейского землевладения относятся уже к временам разделов Польши в конце XVIII в., когда Россия получила большую часть ее еврейского населения. Екатерина II приписала евреев к купеческому сословию, пытаясь тем самым содействовать сбору налогов и росту городов. Это привело к принятию ряда мер, направленных на вытеснение евреев из сельской местности в города. В 1784 г. лицам нехристианских вероисповеданий было запрещено владеть крепостными крестьянами, а до 1800 г. члены городских сословий не имели права владеть землей. Применение этих и других мер привело к тому, что к 1840 г. до 200 тыс. евреев переселились из сельских районов в города. Хотя эти обстоятельства, в сущности, лишали всю национальную группу права владения землей, законоположения и правила были выдержаны в сословных терминах. Евреев вытесняли из сельской местности не как евреев, а как лиц, приписанных к городским сословиям. Несмотря на многочисленные ограничения, многие из них остались в сельской местности, а некоторым даже удалось получить значительные участки земли, официально или неформально, на правах аренды у дворян-помещиков в черте оседлости{275}.
Более строгие ограничения были введены после освобождения крестьян в 1861 г. и польского восстания 1863 г. Важным последствием восстания стал закон 1864 г., запрещавший евреям приобретать землю у дворян-помещиков или крестьян. После волны погромов 1881 г. правительство не давало разрешения евреям селиться в сельских районах и запрещало им приобретать недвижимость в сельской местности на правах аренды, купли-продажи или каким-либо другим способом. Эти весьма серьезные ограничения на тот момент были установлены как часть печально известных Временных правил 3 мая 1881 г., которые действовали до падения старого режима в 1917 г.[85]85
К 1897 г. в двенадцати губерниях, по которым имеются достоверные данные, доля еврейского землевладения и земельных аренд упала на 1,4% и 3,9% соответственно. По обоим показателям произошло снижение более чем на 50% относительно уровня, существовавшего до введения временных ограничительных законов 1882 г. См.: Бикерман И.М. Черта еврейской оседлости. СПб., 1911. С. 44—45.
[Закрыть]
Ограничения частично основывались на представлении правительственных чиновников о том, что крестьяне христианского вероисповедания не могли конкурировать с евреями в сельском хозяйстве; если ограничения будут сняты, поток евреев хлынет в сельскую местность и приведет к «еврейскому засилью» над необразованными и неумелыми крестьянами «практически в любой сфере жизни и труда»{276}. Запрет на приобретение земли евреями оказался основой для множества других ограничений, в том числе на выбор места проживания, прогрессии и экономической деятельности. Даже когда 4 августа 1915 г. была вынужденно отменена черта оседлости, правительство так и не решилось открыть сельские районы для еврейского расселения и землевладения{277}.
Недостаток земли в европейской части России, наблюдавшийся в результате быстрого роста населения после освобождения крестьян, был важным фактором для сохранения и расширения ограничений, но не менее значимыми стали новые, реализуемые после польского восстания 1863 г. попытки увеличить процент надежных землевладельцев среди населения западных пограничных губерний{278}.
Хотя ни правительство, ни армия не предприняли официальных шагов для экспроприации небольшого числа участков в сельской местности, все еще находившихся во владении или аренде у евреев во время войны, все старые запреты на приобретение земли оставались в силе. Эта запретительная модель настолько прочно укоренилась в сознании русских чиновников, что в оккупированной Галиции власти никак не могли смириться с мыслью о существовании здесь еврейского землевладения (что было разрешено австрийским законодательством) и предпринимали попытки конфисковать все их земельное имущество. Осуществление этого бюрократического проекта было прервано летом 1915 г. в связи с вытеснением русских войск с данной территории. Более того, когда началась экспроприация земельной собственности враждебных подданных немецкого происхождения в Российской империи во время войны, власти стремились удостовериться, что это имущество не попадет в руки евреев{279}.
* * *
Ограничения польского землевладения
Исходные положения и методы применения ограничений в отношении евреев в России стали моделью, по которой осуществлялись ограничения, а затем и полная конфискация земельных владений у других враждебных подданных во время войны. Ограничения польского землевладения, существовавшие в XIX в., создали еще один важный прецедент для мер военного времени.
Одним из важнейших элементов российской имперской экспансии начиная с времен Московского государства XVI столетия и в течение всего XIX в. было встраивание местных элит в единую имперскую систему{280}. Хотя земельные владения элит были частично экспроприированы и перераспределены вслед за включением в состав Российского государства территорий Новгорода, Казанского ханства, Украины, Прибалтийского края и Польши, следует подчеркнуть, что такое отчуждение было избирательным и было направлено против конкретных лиц, а не определенных национальностей. Тем самым предпринимались попытки встроить местные национальные элиты в имперскую систему. Исключительные права прибалтийских и польской элит на свои земли, крестьян и общественно-сословные организации часто сохранялись за ними до тех пор, пока они признавали имперскую власть.
После польских восстаний 1831 и 1863 гг. ряд поместий, принадлежавших представителям польской знати из числа главных участников восстаний, был конфискован и передан «русским»[86]86
По иронии исторических судеб многие из этих земель были переданы представителям немецких прибалтийских аристократических семей, которые в конце XIX в. были официально признаны русскими. См.: Lubliner L. Les Confiscations des Biens des Polonais sous le Regne de L'Empereur Nicolas I-er suivi de Tableaux Nominatifs et Alphabetiques. Brusselles; Leipzig, 1861; РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 358. Л. 1—6 (Списки немецких семей, пожалованных поместьями в Царстве Польском, б.д.). Практически все пожалования были осуществлены в 1830-х и 1860-х гг., т.е. вскоре после двух польских восстаний.
[Закрыть]. Такие действия также служили наказанием политически неблагонадежных лиц. Тем не менее во второй половине XIX в. в польском национальном движении начали происходить важные перемены, связанные с расширением его социальной базы, включавшей теперь не только шляхту, но и все остальные слои общества. Когда польские национальные лидеры стали вовлекать в свое движение и, соответственно, в концепцию польской нации горожан, мелких землевладельцев и крестьянство, польский вызов имперской российской системе превратился из проблемы с польскими элитами (против которых имперские власти могли бороться, предполагая отсутствие национального чувства у польских крестьян и рассчитывая на способность последних к ассимиляции) в проблему с поляками вообще{281}. Разрастание польской проблемы вело к радикальной перемене стратегии имперского управления, что нашло отражение в секретном декабрьском указе 1865 г., который стал «краеугольным камнем земельной политики в западных губерниях» в течение последних пятидесяти лет существования империи. В указе содержалось неприкрытое намерение русифицировать эти губернии, воздействуя на самые основы «польского владычества» – землевладение. Он запрещал «лицам польского происхождения» приобретать земельную собственность в Западном крае какими бы то ни было способами, кроме наследования{282}.
Этот указ ознаменовал собой полный отказ властей от традиционной тактики встраивания местных элит, установив ограничения по национальному признаку и не учитывая переход в православную веру и любые доказательства ассимиляции или беспорочной службы Российской империи. Из указа и практики его применения четко следовало, что лица именно польской национальности ограничивались в правах на приобретение земли{283}. В соответствии с узаконениями 1866 и 1871 гг. ограничения касались не только дворянских земель, но и всего земельного имущества в сельской местности, включая то, что принадлежало горожанам и крестьянам. Эти меры привели к решительной замене одного типа русификации другим, а именно: на смену русификации в смысле ассимиляции и включения польских элит в имперскую систему и культуру пришла другая, предполагавшая неизменность национальной идентичности людей, но изменившая объект приложения усилий от людей к их земельным владениям. Другими словами, произошел переход от встраивания элит и ассимиляции народов к «национализации» земель.
Реализация этих новых принципов проходила совсем не гладко, и тем не менее доля номинально русских земельных имуществ в западных губерниях выросла с 17% в 1865 г. до 40% в 1885 г. Поданным официальной статистики, к 1914 г. доля польского землевладения в западных губерниях сократилась почти вдвое[87]87
1 мая 1905 г. новый закон несколько ослабил ограничения для поляков, позволив им приобретать земли у частных лиц польского происхождения и площадью до 60 дес. на промышленные нужды у лиц других национальностей. См.: ГАРФ. Ф. 102, II. Оп. 73, ч. 1. Д. 63. Л. 2 об. ([Введение к думскому законопроекту об уничтожении законодательных ограничений для поляков внутри империи], 2 сентября 1915 г.).
[Закрыть].
Несмотря на то что вскоре после начала войны вел. кн. Николай Николаевич объявил о намерении царя предоставить Польше широкую автономию и вопреки тому, что вражеские подданные польской национальности не подвергались действию конфискационных законов военного времени, ограничения на приобретение земли поляками оставались в силе до тех пор, пока Временное правительство не отменило их в марте 1917 г.[88]88
Как и во многих других случаях, вместо того чтобы определенно отменить эти законы, Временное правительство приостановило их исполнение до решения Учредительного собрания. См.: ГАРФ. Ф. р-546. Оп. 1.Д. 9.Л. 19,23.
[Закрыть] Губернаторы западных губерний специально позаботились о том, чтобы не допустить попадания конфискованных у немцев во время войны земель в руки поляков{284}.
* * *
Довоенные ограничения на расширение немецкого землевладения
По сравнению с ограничениями на владение землей для евреев и поляков довоенная официальная политика по отношению к немецким фермерам-колонистам в гораздо большей степени зависела от наличия или нехватки свободной земли. Фактически первые основные потоки крестьянской иммиграции из Австрии, с Балканского полуострова, из Болгарии и в особенности из немецкоговорящих государств начали приливать в Россию в XVIII в., когда русские цари приглашали иммигрантов заселять и возделывать целинные пространства Новороссии, Среднего Поволжья и других районов. Нужда в приглашении иностранцев в фермерские общины к середине XIX в. постепенно отпадала по мере роста населения и сокращения площади неиспользуемых земель. К концу XIX в. быстрый рост прежде всего русского крестьянского населения привел к нехватке земли во всех основных районах немецкого расселения{285}.
В то время как в правых кругах и даже в правительстве призывы к сдерживанию приобретения земли немецкими иммигрантами начали раздаваться еще в 1880-х гг., причиной первых официальных ограничений стала борьба с ростом польского землевладения, а вовсе не негативное отношение к немцам{286}. Наоборот, узаконения 1865 г., ограничивающие приобретение земли поляками, решительно утверждали, что, если немцы приобретали землю в ущерб полякам, это способствовало достижению главной цели государственной политики в крае – «ослаблению польского элемента»{287}. Ограничения, наложенные на поляков и евреев, способствовали притоку немецких иммигрантов в конце XIX в. на Волынь и в другие западные губернии[89]89
В Крыму сложилась сходная ситуация. Дискриминация крымских татар в последовавшие за Крымской войной десять лет вынудила около 200 тыс. из них эмигрировать в Турцию к 1863 г. Земли многих эмигрировавших татар были куплены немецкими мигрантами, прибывшими из Малороссии и Царства Польского. Оболенский В.В. Международные и межконтинентальные миграции. С. 77.
[Закрыть]. Только в Волынской губернии в результате иммиграции немецкое население увеличилось в 1880-х гг. с 70 тыс. до 200 тыс., а доля их земельных владений выросла еще в большей пропорции. Многие немцы арендовали землю у поляков или покупали ее по заниженным ценам из-за искусственно ограниченного спроса со стороны последних.
14 марта 1887 г. был издан важный указ, запрещавший иностранным подданным в Волынской, Киевской, Подольской и десяти привислинских губерниях арендовать или приобретать землю в собственность, за исключением вступления в права наследования. Хотя этот закон действительно ограничивал права немецких иммигрантов на приобретение земли, гораздо важнее был тот факт, что он не давал возможности прусским и австрийским полякам (которые в качестве иностранных подданных, по иронии бюрократических судеб, имели больше прав приобретать землю, чем российские подданные польского происхождения) приобретать землю для себя или своих родственников в России. Кроме немцев, эти законы затрагивали чехов, поляков и галицийских славян (поляков и украинцев), которые составляли соответственно 13, 9 и 5% от общего числа иммигрантов. Эти меры были направлены не столько против немецких иммигрантов, сколько против их роли в расстраивании планов по расширению русского землевладения за счет польского. Власти были чрезвычайно обеспокоены тем, что иммигранты «тяготели к местным полякам и евреям, а не к русским»{288}.

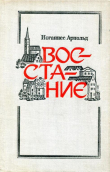




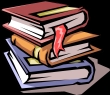
![Книга Шпионаж во время войны [сборник] автора Робер Букар](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shpionazh-vo-vremya-voyny-sbornik-212070.jpg)