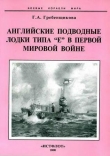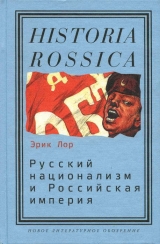
Текст книги "Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны"
Автор книги: Эрик Лор
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Другие массовые операции
Вражеские подданные, немецкие колонисты, имевшие российское подданство, и евреи вместе составляли большую часть населения, изолированного и насильственно депортированного во время войны, однако пострадали и другие категории российских подданных. 27 июня 1915 г. командующий Двинским военным округом приказал арестовать и выслать всех «кочевых цыган» в губернии, находящиеся вне зоны действия военного положения[157]157
РГВИА. Ф. 1932. Оп. 12. Д. 64. Л. 534-536. К сожалению, это единственный архивный документ, касающийся принудительных высылок цыган, который мне удалось обнаружить. Насколько мне известно, исторические исследования по этому важному вопросу также отсутствуют. Остается невыясненным, как именно выполнялись и выполнялись ли вообще подобные приказы.
[Закрыть]. Существуют некоторые свидетельства того, что несколько тысяч крымских татар также были высланы во внутренние губернии по приказу командующего Одесским военным округом{509}.
Одной из крупных операций подобного рода было выселение мусульман из Карсской и Батумской областей. Российская империя даровала российское подданство всему населению этих областей вскоре после того, как они были отвоеваны у Османской империи в 1878 г. Во время Первой мировой войны эта группа населения была сначала признана враждебной по религиозным основаниям, потом, в конечном счете, реабилитирована по этнографическому критерию, что свидетельствовало об общей замене старых признаков идентичности на новые под давлением военного времени. Этот случай наглядно демонстрирует, как практика высылки, начинавшаяся с заботы о государственной безопасности, быстро превратилась в попытку колонизации и национализации отдельных районов империи посредством выселения нежелательных народностей и пожалования их земель поощряемым группам населения.
15 января 1915 г. наместник на Кавказе И.И. Воронцов-Дашков выселил примерно тысячу «непокорных» российско-подданных мусульман из Карсской и Батумской областей во внутренние губернии России{510}. В последующие три недели он отдал приказ о выселении еще 5 тыс. человек{511}. Наместник обвинил их в пособничестве турецким войскам во время кратковременной оккупации последними этих губерний в декабре 1914 г. По признанию начальника эвакуационной части А.П. Ольденбургского, выселенцы-мусульмане прибыли на поездах в Харьковскую, Курскую, Орловскую, Тульскую и Нижегородскую губернии в состоянии полного истощения и с явными признаками тифа{512}. Обеспокоенный тем, что эпидемия распространится на русское население, он немедленно издал приказ о том, что мусульманских ссыльных следует изолировать по крайней мере на три недели, чтобы не допустить разрастания эпидемии{513}. Губернаторы тех губерний, куда были направлены карсские и батумские мусульмане, жаловались на то, что их не предупредили о прибытии выселенцев, а нижегородский губернатор докладывал, что опасается проявлений насилия против мусульман и не будет селить их рядом с местными татарами из боязни распространения пантюркистских настроений{514}. В ответ на эту обеспокоенность в качестве места ссылки последующих групп российско-подданных мусульман был определен необитаемый остров Нарген в Каспийском море. Через несколько недель там оказалось уже более 5 тыс. человек{515}.[158]158
Остров Нарген расположен в Каспийском море на расстоянии около 8 км к юго-востоку от Баку
[Закрыть] До 3 тыс. мусульман были внесены в списки тех, кто должен был быть казнен по обвинению в измене{516}.
Тем временем помощник Воронцова-Дашкова по гражданским делам сенатор Петерсон предложил Совету министров переселить все мусульманское население двух указанных областей в глубь России, а впоследствии навсегда лишить их российского подданства. Он утверждал, что эти мусульмане не смогли ассимилироваться с русской культурой и, несмотря на то что в составе России они пользовались большими свободами, все же остались верны Турции. В соответствии с его предложением «изменников» следовало в массовом порядке выслать в Османскую империю по окончании войны. Министр земледелия горячо поддержал это предложение, заявив, что их земли можно отдать русским крестьянам, и большинство министров выразило свое одобрение{517}.
Вскоре после этого грузинские депутаты Государственной Думы заявили, что высылаемые мусульмане были не турками, а аджарцами, которых следовало считать грузинами, несмотря на исповедуемый ислам, и в любом случае лояльными России{518}. В ответ на протесты грузинских депутатов была создана специальная комиссия под председательством вел. кн. Георгия Михайловича, которая исследовала этот вопрос и в двадцатитомном отчете изложила выводы, что со стороны аджарцев не было никаких проявлений враждебного отношения ни к русским войскам, ни к администрации. В отчете осуждались казаки и армяне за то, что они обвиняли аджарцев в измене, и они же назывались виновниками разжигания вражды против местных мусульман. В конце концов вел. кн. Николая Николаевича убедили встретиться с аджарскими старейшинами и лидерами, и он даже наградил их медалями за преданность и вклад в военные усилия России!{519} Руководствуясь этим, Совет министров отклонил предложение Петерсона. Однако за те шесть месяцев, в течение которых это предложение рассматривалось, более 10 тыс. российскоподданных мусульман были высланы из двух упомянутых губерний. Им не разрешали возвращаться до июня 1917 г., когда Временное правительство наконец пересмотрело их дело. По приказу военных местные власти принудительно продали или сдали в аренду большую часть земли и недвижимого имущества высланных. Хотя чиновники и были отчасти заинтересованы в передаче земельных участков мусульман русским крестьянам и казакам, на практике большая часть этих земель досталась армянским беженцам[159]159
Высылки российско-подданных – мусульман из этих областей продолжались вплоть до 10 сентября 1915 г., когда наконец появился приказ прекратить их. РГВИА. Ф. 1218. Оп. 1. Д. 155. Л. 150 (Тифлисский губернатор – управляющему МВД, 10 сентября 1915 г.). Расследование мнимой измены аджарцев продолжалось до 26 января 1918 г., пока не было прекращено Кавказским комиссариатом. Сиорадзе М.М. Батумская область. С. 79.
[Закрыть].
Выселение отдельных лиц
Массовые операции против различных категорий населения объясняли высылку огромных масс людей во время войны, но эти действия также служили средством узаконить использование радикальных мер во внутренней политике при решении конкретных проблем. Армия играла особо важную роль в распространении этой практики на отдельных лиц, не попадавших ни в одну из категорий населения, предназначенных для массовой депортации или высылки, но по той или иной причине считавшихся «нежелательными» элементами. В областях под прямым военным управлением военные власти периодически предписывали полиции высылать всех, кто находился под полицейским надзором, и тех, кого считали «подозрительными» по какой бы то ни было причине, как это было в сентябре 1914 г. при выселении всех поднадзорных из городов Либава и Виндава на Лифляндском побережье{520}. В категорию поднадзорных входили те, кого подозревали в неблагонадежности, будь то с уголовной или политической точки зрения, многие иностранцы (из вражеских и нейтральных стран) и лица, находившиеся под негласным полицейским надзором по подозрению в шпионаже.
Каждый военный округ проводил серьезную работу по пресечению шпионской деятельности на своей территории. В мае 1915 г. Верховный главнокомандующий вел. кн. Николай Николаевич отдал секретное повеление главе Петроградского военного округа М.Д. Бонч-Бруевичу скоординировать выявление и высылку потенциальных шпионов из всех районов, находившихся на военном положении{521}. Военные обратились к местному населению с просьбой доносить обо всех подозрительных личностях, и вскоре штабы военных округов были завалены тысячами доносов[160]160
Командование Петроградского военного округа докладывало, что в штаб одной только 6-й армии за первые три месяца войны поступило 2,5 тыс. доносов. См.: РГВИА. Ф. 2005. Оп. 1. Д. 101. Л. 37 (Записка контрразведки Петроградского военного округа, 15 октября 1914 г.).
[Закрыть]. Янушкевич придал ксенофобский характер этой кампании своими приказами, в которых, например, все лица, имеющие семейные или деловые связи с зарубежными странами, должны были подвергаться «строжайшему надзору» и немедленно высылаться при малейшем подозрении в неблагонадежности{522}. Не удивительно, что гораздо чаще других в доносах фигурировали иностранцы, российско-подданные немцы и евреи.
Выселение на индивидуальной основе стало особенно существенным для протестантских и вообще всех неправославных религиозных общин. Война дала противникам самого существования этих общин новый эмоциональный аргумент: именно они якобы являлись частью германского заговора с целью разрушить Россию{523}.[161]161
Утверждения, что религиозные общины были тесно связаны с Германией, в лучшем случае сомнительны. См.: ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Д. 2592.
[Закрыть] Командующий Одесским военным округом закрыл 20 евангелических конгрегации в первый же день войны и начал активно пресекать деятельность евангелистов и штундистов, включая высылку десятков их пасторов{524}.[162]162
Многие штундисты были уволены со службы и высланы по обвинению в распространении своей веры. См.: РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 1142. Л. 14-20.
[Закрыть] Три месяца спустя, т.е. вскоре после начала войны, министр внутренних дел недвусмысленно обвинил евангелистов, баптистов и адвентистов в том, что они воодушевлены «германизмом», и приказал закрыть большую часть их конгрегации и организаций, а также призвал губернаторов решительно пресекать их деятельность{525}.[163]163
В ноябре 1914 г. было принято решение правительствующего Сената, официально дававшее МВД право увольнять и высылать лидеров этих религиозных течений и сект. См.: РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 33. Л. 12 (Циркуляр Маклакова губернаторам и градоначальникам, 13 ноября 1914 г.).
[Закрыть] Борьба против организованных неправославных религиозных общин была особенно драматичной в прибалтийских губерниях, где она вполне очевидно накладывалась на межнациональную напряженность. Например, губернатор Курляндской губернии выслал большое количество немецких пасторов под весьма прозрачным предлогом ослабления германского влияния в протестантской церкви (де-факто усиливая в ней латвийское влияние){526}.[164]164
Кампания была также довольно интенсивна в польских губерниях. Газета «Привислянский край» часто помещала заметки о немецких пасторах, высылаемых за «германофильство». РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 360. Л. 20—23; Д. 357 (Алфавитный список пасторов, удаленных из мест служения и высланных за антиправительственную и германофильскую деятельность, 1915—1916 гг.).
[Закрыть]
Репрессии по религиозному признаку также затронули многие национальности, которые при желании можно было бы назвать союзниками в борьбе с общим внешним врагом. Это прежде всего относилось к западным губерниям, где местные протестантские, баптистские и евангелистские общины постоянно жаловались на то, что власти выслали многих польских, латышских и литовских их членов. Глава польских евангелистов подчеркивал, что их община насчитывала приблизительно 40 тыс. человек, многие из которых носили немецкие фамилии, но полностью ассимилировались с польской культурой. Он утверждал, что тысячи его единоверцев были высланы только из-за своей национальной и религиозной принадлежности{527}.
Репрессии по отношению к представителям национальной интеллигенции отдельных народов, включая высылки выдающихся лиц, стали обычным явлением во время войны. Украинские, польские и прибалтийские политические лидеры всегда привлекали особое внимание полиции. Подобные репрессивные меры особенно основательно применялись в тех регионах, в частности в Галиции, где были чрезвычайно сильны антирусские настроения среди украинцев и поляков, а лидеры националистов, будучи вражескими подданными, сотрудничали с германским и австрийским правительствами в надежде спровоцировать восстания против России{528}. Выборочное выселение национальных лидеров, например политически активных католических священников из польских губерний, серьезно обостряло напряженность в межнациональных отношениях{529}. Высылка известных личностей – лидеров местных национальных элит, таких как глава прибалтийских немцев барон Э. Штакельберг-Зутлем, лидер украинских националистов Михаиле Хрущевский или политический и религиозный лидер немецких колонистов Якоб Штах, вызвала огромное общественное недовольство как в соответствующих общинах, так и в умеренной российской печати{530}.
Насильственное переселение и национальная принадлежность
Данные массовые операции были поразительно похожи на современные «этнические чистки». Действительно, в приказах о выселении часто использовался термин «полное очищение»[165]165
Частое использование этого термина в некотором смысле предполагает наличие общих черт с позднейшими советскими этническими чистками. Терри Мартин в своем исследовании депортаций ряда народов СССР в 1930-х гг. утверждал, что термин «очищение» в то время по смыслу и значению был действительно схож с понятием «этническая чистка». См.: Martin Т. The Origins of Soviet Ethnic Cleansing // The Journal of Modern History. 1998. Vol. 70. P. 815—817. Данный термин имел ряд значений, включая «очистку или удаление иностранных либо нежелательных элементов», однако также использовался командующими армейских соединений в значении простой очистки территории от вражеских войск. Хотя этот специфический термин изначально имел строго военное значение, а на практике включал в себя еще и принудительные переселения, его смысл вскоре расширился и приобрел черты, сближающие его с современными этническими чистками, проводящимися с целью навсегда изменить демографическую структуру конкретных территорий и сделать их максимально мононациональными. Более того, приказы о выселении часто использовали подобные термины, подразумевая, что выселяемые являются социально опасными, зараженными и нездоровыми элементами, подлежащими удалению. Высокий процент эпидемической заболеваемости среди выселенцев из-за ужасных условий содержания в поездах в процессе депортации лишь добавлял новые оттенки к данному значению. См.: Нелиповыч С. Генерал от инфантерии Н.Н. Янушкевич: «Немецкую пакость уволить и без нежностей»: депортации в России 1914—1918 гг. // Военно-исторический журнал. 1997. № 1. С. 42—53; РГВИА. Ф. 1218. Оп. 1. Д. 155. Л. 5-132.
[Закрыть]. Технически эти выселения действительно имели много общего с современными этническими чистками, которые практически всегда предполагают защитные меры от угроз со стороны этнических групп, имеющих родственников за границами государства, а также идеологический компонент и националистическую освободительную риторику, подразумевающую возвышение одной группы за счет перемещения другой. Сходным является и переход от индивида, национализирующегося посредством ассимиляции, к национализации «экономики», «земли» или всего населения. Однако если подобные намерения трактовать как попытки удалить нежелательные национальные группы из политической и общественной жизни государства или вообще из состава воюющей нации, то последствия могут быть непредсказуемыми. В июньском письме 1915 г. командующего Петроградским военным округом М.Д. Бонч-Бруевича к Янушкевичу нашли отражение как эти намерения, выраженные в крайней форме, так и их противоречивые результаты: «Чисто русские губернии весьма засоряются враждебным нам элементом, и потому сам собой напрашивается вопрос о точной регистрации всех высланных подданных воюющих с нами держав, дабы по окончании войны ликвидировать без остатка весь этот наносной элемент»{531}.
Как и предполагал Бонч-Бруевич, важным следствием насильственных переселений было привнесение новых межнациональных и социальных конфликтов в целый ряд внутренних российских губерний. Из всех выселенцев или изгнанников лишь небольшая часть была действительно заключена в тюрьму или содержалась в лагерях. Большинство же было просто взято на учет во внутренних или сибирских губерниях. Почти каждая губерния России получила свою немалую долю насильственно выселенных и беженцев. В ходатайствах и письмах всех категорий вражеских и репрессированных российских подданных отмечалось, что сам факт их высылки уже навлекал на них в глазах местного населения подозрение в том, что они – опасный элемент, виновный в шпионаже и других преступлениях{532}. Высокий уровень заболеваемости инфекционными болезнями среди выселенцев, которые зачастую приезжали на место поселения после нескольких недель, проведенных в тесных опечатанных и недезинфицированных товарных вагонах, вызывал у местного населения еще больший страх и неприятие вновь прибывших{533}. После инспекционной поездки по местам нового расселения высланных генерал-майор царской свиты князь Дашков докладывал о серьезной напряженности отношений между местным населением и приезжими, особенно теми, кому было разрешено жить на частных квартирах и работать в данном районе{534}. Местные жители обвиняли выселенцев в том, что они способствуют росту цен и создают конкуренцию местным предпринимателям, а Департамент полиции получал многочисленные доклады о бойкотировании и насилии, направленных против переселенцев. В результате по стране прокатилась волна манифестаций протеста, бойкотов, бунтов и ходатайств местных чиновников выслать переселенцев куда угодно, но подальше от их губерний{535}.
Еще одним непредвиденным последствием насильственного переселения стало проявление нового, более сильного чувства национального единения среди пострадавших категорий населения. Кроме вражеских подданных мужского пола, интернированных в лагеря и содержавшихся как военнопленные, большая часть высланных была брошена на произвол судьбы и должна была сама о себе заботиться. Обнищавшие и не способные свести концы с концами в новом окружении без посторонней помощи, они, естественно, обращались за поддержкой прежде всего к своим соплеменникам.
Это было особенно справедливо по отношению к немцам, многие из которых переселились в немецкие общины Поволжья. Хотя массовые выселения немецких колонистов служили примером одного из способов, при помощи которого официальная Россия стремилась национализировать обширные территории в попытке сделать их более «русскими», они также ускоряли процесс образования более сплоченных немецких общин внутри России. Иммиграция «немецкого меньшинства» в Россию проходила на общеимперском уровне в течение обширного временного периода с середины XVII в. до 1914 г. из разных частей Германии, Австрии, Польши и Голландии. Хотя политическая активность немецких поселенцев возросла после 1905 г. благодаря появлению их депутатов в Государственной Думе, у разбросанных на большой территории общин было весьма слабое чувство причастности к единой категории немецких колонистов, не говоря уже о чувстве принадлежности к тем же прибалтийским немцам, проживавшим в основном в городах{536}. Даже в первые дни войны члены старейших немецких общин выражали возмущение по поводу того, что правительство и общество относились ко всем сельским общинам колонистов одинаково, как будто все они иммигрировали совсем недавно{537}.
Массовые перемещения населения времен войны вынудили немцев из Польши, Волыни, Прибалтики, Бессарабии и Украины отправиться в Поволжье и другие внутренние губернии. Это способствовало тому, что немцы по всей империи оказывали своим соплеменникам поддержку, давая приют или помогая деньгами[166]166
Наряду с выселениями возникла угроза того, что конфискации земель будут распространены на немецкие общины в Поволжье и других регионах; угроза начала воплощаться в реальность в январе 1917 г. Striegnitz S. Der Weltkrieg und die Wolgakolonisten: Die Regierungspolitik und die Tendenzen der gesellschaftlichen Entwicklung // Zwischen Reform und Revolution: Die Deutschen an der Wolga 1860—1917 / Eds. D. Dahlmann, R. Tuchtenhagen. Essen, 1994. S. 146.
[Закрыть]. Помощь имела огромное значение, т.к. к концу 1915 г. правительство официально прекратило всякую государственную поддержку выселенных колонистов{538}. Более того, в некоторых регионах местные власти отказались давать высланным разрешение на работу и даже заставляли работодателей увольнять уже принятых выселенцев{539}.[167]167
Именно это происходило в Пермской губернии.
[Закрыть]
Тесные контакты между общинами в свою очередь способствовали росту интереса к немецким общинам по всей империи. В 1915 г. главная газета поволжских немцев «Volkszeitung» начала впервые печатать большие ежедневные обзоры с новостями из других немецких поселений и из Прибалтийского края. Под натиском тягот войны и высылки отдельные индивиды и разрозненные группы сплачивались в более крупные сообщества{540}. Как только в марте 1917 г. был отменен запрет на политические организации, лидеры немецкой общины быстро образовали первые успешные национальные организации «русских немцев»[168]168
До войны наблюдалось некоторое взаимодействие между депутатами Думы от немецких поселенцев в различных частях империи и представителями прибалтийских немцев, в основном в составе немецкой группы фракции октябристов. В 1908 г. состоялось собрание всех представителей немецких национальных организаций империи, но оно не смогло преодолеть глубокие различия между общинами и достичь основной цели – создания единой организации. В течение войны Карл Линдеман и депутат Думы Л.Г. Люц активно взаимодействовали с различными немецкими общинами и лоббировали их интересы, касавшиеся Москвы и Петрограда. См.: Линдеман К. Прекращение землевладения и землепользования. См. также полицейские отчеты об их деятельности: ГАРФ. Ф. 102, II. Оп. 73. Д. 351. Л. 184, 203—204 (Начальник Кубанского областного жандармского управления – в Департамент полиции, 30 ноября 1916 г.); Fleischhauer I. Die Deutschen im Zarenreich: Zwei Jahrhunderte deutsch-russische Kul– turgemeinschaft. Stuttgart, 1986. S. 385.
[Закрыть]. На общинном уровне лидеры организаций, помогавших ссыльным и беженцам во время войны, стали лидерами немецкого национального движения и нередко посылались в качестве делегатов на всероссийские съезды; в отличие от довоенных собраний, теперь в них участвовали представители всех столь разнообразных немецких общин России{541}.[169]169
Ряд местных съездов прошел в мае в Одессе, Москве, Саратове и др. городах. ГАРФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 496. Л. 154 (Запрос представителей съезда русских немцев Юга России Г.Е. Львову, 5 июня 1917 г.).
[Закрыть] Первый всероссийский съезд немецких колонистов состоялся в апреле 1917 г., и в нем приняли участие 36 национальных политических активистов из 15 губерний. Их первостепенной задачей было преодолеть региональные и другие различия, с тем чтобы объединиться для достижения общей цели – добиться восстановления гражданского статуса и компенсации ущерба, нанесенного российским немцам ограничительными и репрессивными законами царского правительства. Для этого съездом был создан постоянный Всероссийский центральный комитет российских граждан немецкой национальности, призванный разрешать возможные разногласия между различными немецкими сообществами{542}.
На втором съезде немцев Поволжья, проходившем в сентябре 1917 г., отмечалось, что «мы больше не обсуждаем, из какого именно районы мы прибыли, являемся мы “поволжскими колонистами” или другими. Теперь, на втором съезде, вопрос единства стоит только так: “Немцы ли мы?”»{543}. Таким образом, насильственное переселение невольно способствовало консолидации некогда раздробленных и широко разбросанных по империи немецких общин и отдельных лиц в единое, обладающее самосознанием национальное меньшинство немцев России. Действия царского режима привели к тому, что самое консервативное из всех российских меньшинств превратилось в лишенное гражданских прав и места жительства, обнищавшее сообщество, из которого вышли многие члены революционных партий{544}.
Схожие процессы происходили и среди евреев и других меньшинств, затронутых выселениями. Как и немцы, евреи обратились за помощью к своим соплеменникам; в ответ на это по всей империи наблюдался примечательный расцвет объединительной и организационной деятельности среди еврейского населения. Отношение последнего к царскому режиму по всей стране ужесточилось и радикализировалось, а осознание того, что единая еврейская община нуждается в политическом представительстве для защиты своих прав и интересов, заметно усилилось{545}.
«Мобилизация этничности» посредством тактики исключений
Одним из последствий кампании против вражеских подданных было то, что тысячи из них сразу же подали прошения об исключении их из действия репрессивных законов на основании славянского происхождения, православного вероисповедания и других признаков. В результате царскому режиму пришлось заняться упорядочиванием, классификацией и категоризацией населения страны и выделением из сложного многообразия народов империи упрощенной иерархии национальностей, выстроенной согласно степени надежности в соответствии с национальным происхождением и взаимоотношениями с внешними врагами России во время войны. Сам по себе этот процесс способствовал мобилизации этничности даже у тех национальных групп, которые добились различных льгот и менее пострадали от репрессий{546}.
Подданные враждебных государств славянского происхождения составили наиболее многочисленную категорию лиц, избежавших депортации[170]170
Первоначально под безусловные исключения подпадали лишь незначительные по численности группы лиц. С 31 июля 1914 г. в ответ на требование Франции вражеские подданные, могущие доказать свою французскую национальность и прошлую принадлежность к Эльзасу или Лотарингии, подлежали исключению из действия депортационных узаконений. Когда Италия вступила в войну на стороне Антанты, льготы были также предоставлены австрийским подданным итальянского происхождения. Большинство основных приказов о массовых выселениях всегда содержали фразу о возможности исключений для представителей этих национальностей. Несмотря на раннее принятие принципа предоставления льгот этим группам, на практике все было не так однозначно, и послы союзных с Россией стран вынуждены были в течение всей войны держать данный вопрос в поле зрения, чтобы предоставленные законом исключения были соблюдены в каждом крупном приказе о выселении. Например, 9 января 1915 г. французский посол М. Палеолог гневно потребовал предоставить льготы для этнических французов, бельгийцев и румын, являвшихся вражескими подданными, после того как небольшие группы каждой из этих национальностей были высланы из Петрограда. РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1872. Л. 50; Ф. 2005. Оп. 1. Д. 24. Л. 205.
[Закрыть]. Еще до войны идея панславизма возродилась как среди консерваторов, так и среди некоторых либералов{547}. В своем обращении к населению империи по поводу начала войны царь провозгласил, что Россия выступает как защитница славянских интересов и поддерживает единение всех славян{548}. Таким образом, возникла нелепая ситуация, когда тысячи гражданских лиц славянского происхождения собирались в определенных местах для последующей высылки и интернирования как вражеские подданные, и при этом каждая славянская община параллельно пыталась добиться особого отношения к своей национальной группе и специальных условий во взаимоотношениях с властями.
Первые шаги по пути предоставления льгот и введения исключений из общих правил для вражеских подданных славянского происхождения были сделаны под влиянием чешского вопроса. Уже 3 августа 1914 г. товарищ министра внутренних дел В.Ф. Джунковский посредством особого циркуляра довел до сведения губернаторов, что ссыльным гражданским вражеским подданным и военнопленным чешской национальности разрешается формировать воинские части под руководством представителей военного министерства. Это, конечно, относилось только к мужчинам, годным к военной службе, а число таковых было незначительно до 1917 г.{549},[171]171
Эти части должны были формироваться в Киевском военном округе. Общая практика по отношению ко всем военнопленным, захваченным на поле боя, быстро эволюционировала до весьма различного отношения к пленным славянского происхождения. Уже 26 сентября 1914 г. Военное министерство в лагерях для военнопленных стало отделять чехов, словаков, сербов, эльзасцев и лотарингцев, итальянцев и румын, предоставляя им лучшие условия содержания и одежду, а также позволяя жить на частных квартирах (а не в лагерях) во внутренних губерниях и работать на более легких работах. АВПРИ. Ф. 323. Оп. 617. Д. 80. Л. 13 (ГУГШ – в МИД, 26 сентября 1914 г.). Хотя МИД 9 октября 1914 г. предложило предоставлять подобные привилегии и полякам, официально это так и не было сделано. Процедура, позволявшая славянам присоединяться к формируемым из их соотечественников воинским частям и таким образом освобождаться от интернирования, не была отработанной и проходила крайне медленно. В Ставке было подсчитано, что к 1 января 1916 г. всего 2400 лиц, в основном сербов, были освобождены на этих условиях. РГВИА. Ф. 2000с. Оп. 6. Д. 162. Л. 1—6 об. Ричард Спид подсчитал, что в течение всей войны лишь около 10% приблизительно из 200 тыс. военнопленных славян, содержавшихся в России, записались в ряды специально формируемых военных частей. Speed R.B. Prisoners, Diplomats, and the Great War. P. 121.
[Закрыть] К тому же большую часть солдат вербовали среди военнопленных, а не гражданских выселенцев.
Более важным было решение МВД от 14 августа 1914 г., по которому разрешалось исключить из списков депортируемых мужчин призывного возраста сербской, чешской и русинской (украинской) национальностей{550}. Даже для славянских народов, пользовавшихся наибольшими льготами во время войны, освобождение от выселения считалось скорее привилегией, чем правом. Решение МВД об освобождении чехов, русинов и сербов от выселения не было обязательным для военных, и перед каждой депортационной операцией славянские общества взаимопомощи вынуждены были неоднократно обращаться к военным властям с прошениями о получении уже официально подтвержденных льгот. 27 февраля 1915 г. М.В. Алексеев сообщил командующему Минским военным округом, что вражеские подданные славянского происхождения, несмотря ни на что, не могут быть освобождены от выселения из района ведения боевых действий{551}. Аналогичным образом, командующий Киевским военным округом генерал В.И. Троцкий в феврале 1915 г. опубликовал в местных газетах обращение к неприятельским подданным – славянам, французам, итальянцам и туркам христианского вероисповедания – с предложением добровольно покинуть территорию, находящуюся в его юрисдикции, или готовиться к принудительному выселению{552}.
Льготы никогда не предоставлялись автоматически даже столь любимым властями чехам{553}.[172]172
Приблизительно 200 тыс. лиц чешского происхождения проживало в Российской империи к началу войны, причем около 70 тыс. – в сельскохозяйственных колониях на Украине. Более половины чехов появилось в России в последние 30 лет существования империи, и многие не успели натурализоваться. См.: Ковба Ж.М. Чеська eмiгрцiя на Украïнi С. 70—74.
[Закрыть] Первый съезд «российских чехов», проходивший в Киеве 13 января 1915 г., в основном занимался обсуждением вопроса о получении освобождения от выселений и составлением прошения к царю о предоставлении помощи. В ответ вел. кн. Николай Николаевич потребовал от правительства облегчить получение чехами российского подданства и объявил, что все ранее высланные чехи могут подавать прошения о разрешении вернуться в свои дома{554}. После этого выселения чехов и словаков стали более редкими, но не были прекращены. Например, генерал С.С. Саввич в письме Алексееву 27 сентября 1915 г. указывал, что не может позволить враждебным подданным чешской национальности оставаться в Волынской губернии – основном районе чешских поселений в империи{555}.[173]173
Он оправдывался тем, что их могут заставить служить во вражеских армиях.
[Закрыть]
Наряду с чехами и словаками другие группы населения, считавшиеся дружественно настроенными по отношению к российскому государству, также получали освобождение от выселения в ходе войны. Христиане, жившие на территории Османской империи (армяне, греки, болгары), еще до войны горячо желали российского дипломатического участия в своей судьбе, а теперь это желание стало гораздо сильнее по двум причинам: из-за планов России аннексировать и колонизировать часть Османской империи и из-за массовых высылок и уничтожения армян турками. Лишь небольшое число армянских подданных Османской империи жило на Кавказе до войны. Зверства турок вызвали огромный приток армянских беженцев (свыше 350 тыс.) из Турции в Российскую империю{556}. Наместник на Кавказе И.И. Воронцов-Дашков с пониманием относился к бегству армян и, как правило, освобождал их от высылок с Кавказа, хотя формально они им подлежали как враждебные подданные. Однако в работах армянских ученых последнего времени очевидна критика в адрес российского главного командования{557}. Хотя армяне и христиане других национальностей – подданные Османской империи были освобождены от выселения, их положение в течение войны оставалось ненадежным; существуют отрывочные свидетельства о том, что многие армяне были подвергнуты депортации с Кавказа как подданные враждебного государства{558}. Совет министров официально освободил подданных Османской империи армян и греков от выселения и ликвидации имущества только 11 июня 1916 г.{559} Высланные ранее этой даты не получили права вернуться на Кавказ до августа 1917г., несмотря на постоянные протесты Московского армянского комитета и армянского Красного Креста{560}.
Вражеские подданные мусульманского вероисповедания, даже если они принадлежали к «дружественным» национальностям, обычно никаких льгот не получали. Например, 10 тыс. подданных Османской империи мусульман – работников табачных фабрик в городе Сухум, лазов по национальности, были выселены в Рязань и Тамбов. Им не разрешали вернуться до тех пор, пока Временное правительство не пересмотрело их дело в июне 1917 г. и не постановило, что их «принадлежность к грузинскому народу» есть достаточное основание для того, чтобы позволить им вернуться{561}.[174]174
Лазы – небольшой народ, лингвистически близкий к мингрелам. Краткий очерк массовой эмиграции лазов в Турцию после аннексии Карса и Батума Российской империей см. в кн.: McCarthy J. Death and Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims, 1821 – 1922. Princeton, 1995. P. 114-116.
[Закрыть] Аналогичным образом, несколько тысяч татар с турецкими паспортами были высланы в начале 1915 г. из Крыма в глубь России и в Центральную Азию. Многие из них утверждали, что постоянно проживали в Крыму в течение многих лет, но теперь утратили российское подданство, находясь во временной эмиграции в Турции в поисках заработка, что было весьма распространенным явлением среди крымских татар во второй половине XIX в. Их обращения к властям оставались без ответа, пока наконец их дело не было заслушано на заседании Временного правительства в июле 1917 г. и им разрешили вернуться{562}.
Многие члены привилегированных меньшинств получили возможность избежать выселения. Хотя исключения так и не стали автоматическими, среди большинства чиновников преобладало убеждение в том, что ради дружественных национальных меньшинств следует предпринять некоторые усилия и пересмотреть их дела. Однако относительно вражеских подданных польского происхождения такого согласия среди бюрократии не было.
Сила и зрелость польского национального движения, его близость к социалистическим течениям и то предпочтение, которое большинство политически активных поляков отдавало созданию независимого государства, готового разрастись на восток от привислинских губерний до русско-польской границы 1772 г., – все это убеждало российские власти в том, что полякам доверять нельзя. Столь же важным фактором было продолжавшееся общественное, культурное и экономическое преобладание польского дворянства во многих западных пограничных губерниях над «русскими» (украинскими, белорусскими и литовскими) крестьянами.
Августовское воззвание вел. кн. Николая Николаевича 1914 г. о том, что Россия готова по окончании войны создать единую автономную Польшу в ее исторических границах под скипетром русского царя, лишь номинально изменило официальную позицию поляков. Как отмечалось в ноте варшавского Польского комитета, заявление имперских властей давало возможность вражеским подданным польской национальности натурализоваться{563}. Тем не менее российские власти продолжали придерживаться довоенного отношения к полякам. В результате вражеские подданные поляки получали освобождение от выселений позже и не в полном объеме по сравнению с другими славянскими и привилегированными меньшинствами, и это несмотря на поток служебных записок от министра иностранных дел, утверждавшего, что исключение поляков из действия всех депортационных узаконений – в очевидных интересах русской дипломатии{564}.
Многие из первых приказов о выселении вражеских подданных определенно подразумевали и поляков. Даже если приказ особо не оговаривал включение поляков, обычная процедура, принятая у военных, не способствовала их изъятию из общих списков. Например, генерал Я.Г. Жилинский 3 августа 1914 г. отдал приказ о том, что вражеские подданные славянского происхождения непризывного возраста могут быть освобождены от выселения из польских губерний, только «если их лояльность и национальное происхождение известны местной полиции или удостоверены вполне благонадежными лицами»{565}. Учитывая предубеждения местных российских властей против поляков, можно быть уверенным, что лишь немногие получали освобождение. В течение всей осени 1914 г. польские организации разных типов обращались к властям с ходатайствами об издании общих правил об освобождении от выселений. Но Янушкевич сильно усложнил процесс, потребовав получения санкции Верховного главнокомандующего в каждом отдельном случае. Особенно активен в этом вопросе был польский депутат Думы Г.И. Свенцицкий. В декабре 1915 г. на одно из его ходатайств был наконец получен благоприятный ответ от командующего Юго-Западным фронтом Н.И. Иванова, который давал разрешение освобождать враждебных подданных поляков при условии получения ими документа от любой значительной польской организации, удостоверяющего их национальность, и при отсутствии нареканий со стороны военных и полиции{566}.
Таким образом, в начале войны многие поляки оказались среди высылаемых вражеских подданных. Уже в январе 1915 г. Польский комитет взаимопомощи утверждал, что имеет сведения о 20 тыс. гражданских вражеских подданных польской, чешской и словацкой национальности, высланных только в поволжские губернии. Немалое число поляков было выслано и в другие губернии, особенно в Киевскую{567}.
Высылка вражеских подданных польской национальности в Поволжье осуществлялась с особой жестокостью. По сведениям Польского комитета, поляков селили в основном в сельской местности, в татарских и чувашских хозяйствах, где они зачастую были вынуждены жить вместе с домашним скотом. Многие успели взять с собой только летнюю одежду и не имели денег. Рассказывали, что некоторые группы переселенцев вынуждены были часть пути проделать пешком в ужасающих условиях. Одну группу польских переселенцев отправили пешком на расстояние в 475 км, что привело к смерти тридцати человек. Местные жители считали выселенцев каторжанами и отказывали им в работе и помощи. Воровство их скудных пожитков стало обычным явлением, а враждебность местных жителей постоянно усиливалась, поскольку переселенцев считали виновниками роста цен на местных рынках{568}.

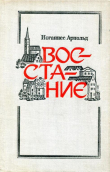




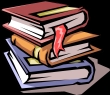
![Книга Шпионаж во время войны [сборник] автора Робер Букар](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shpionazh-vo-vremya-voyny-sbornik-212070.jpg)