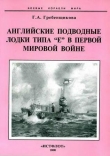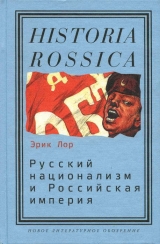
Текст книги "Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны"
Автор книги: Эрик Лор
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Народные выступления после погрома
Стал ли московский погром лишь единичным эпизодом или движение против враждебных подданных было широко распространенным долговременным явлением и пользовалось значительной поддержкой общества во время войны? Основной проблемой при ответе на этот вопрос являются признаки, которые учитывались полицейскими чиновниками и позднее историками для классификации забастовок и различных видов массовых протестов. Забастовки, полностью или частично вызванные требованиями уволить иностранных управляющих или рабочих, не рассматривались как отдельная категория и появлялись лишь в общих разделах, таких как «прочие»{149}. Однако существует множество свидетельств того, что напряженность в отношениях с иностранным персоналом была важной частью разгоравшегося внутри общества конфликта на всем протяжении войны. В период с мая 1915 г. до Февральской революции и даже позднее местные чиновники и МВД были глубоко обеспокоены ежемесячными жандармскими отчетами о настроениях народных масс. В большинстве подобных докладов утверждалось, что германофобские, антисемитские и вообще ксенофобские настроения были столь сильны, что погромы и другие виды насилия против враждебных подданных могли вспыхнуть в любой момент во многих местностях империи{150}.
Отчеты о забастовках с одним только требованием удаления иностранного персонала приходили со всех концов империи. Случай завода паровых двигателей в Харькове был вполне типичным. Уже в августе 1914 г. 783 рабочих начали забастовку, требуя увольнения носильщика, главного инженера, слесаря по металлу и мастера цеха только потому, что они были вражескими подданными{151}. Эти четверо были уволены сразу же, и рабочие вернулись на свои места. Когда десятью месяцами позже новости о московском погроме достигли завода, напряженность снова возросла. Причиной стали все еще работающие на заводе германские граждане, и ситуация не разрядилась до тех пор, пока все вражеские подданные не были высланы в начале июня 1915 г.{152} Фабричные инспекторы и полиция по всей стране сообщали о множестве подобных случаев. Большинство конфликтов были спонтанными, вызванными новостями с фронта или действиями конкретного управляющего или мастера – немца или представителя другой некоренной национальности.
В некоторых случаях шовинистические кампании в прессе и агитация со стороны отдельных рабочих или патриотических организаций приводили к открытым конфликтам. «Общество 1914 года» принимало жалобы от рабочих и русского персонала касательно особых случаев поведения германских и австрийских подданных на заводах или в органах местного управления. Общество расследовало эти случаи, информировало прессу и использовало собственные средства для публикации серий разоблачений в отношении отдельных личностей. Жандармы и фабричные инспекторы сообщали, что тайные собрания рабочих, на которых звучали призывы к борьбе против вражеских подданных на рабочих местах, были весьма частыми{153}.
Подобная агитация привлекла особое внимание полиции сразу же после московского погрома. Напряженная атмосфера в Москве сохранялась еще несколько недель. Цензура перехватила несколько характерных писем, как, например, послание Зины А. Ивану Андрееву, датированное 15 июня 1915 г. Зина писала, что в городе много говорят о готовящихся убийствах немцев и лютеран на будущей неделе, включая слух, что армия этому сочувствует и не будет вмешиваться{154}. Полиция также сообщала о тайных собраниях рабочих, на которых планировалось возобновить погромы, включая конкретные планы убийств генералов и полицейских чинов, если власти попытаются вмешаться{155}.
Сообщения о забастовках, требующих устранения немцев с фабрик, а также о небольших манифестациях приходили со всей страны спустя еще несколько недель после погрома. На фабрике Эдуарда Штолля, частично разгромленной во время беспорядков, все 250 рабочих подписали петицию, содержавшую требование уволить двух оставшихся на заводе рабочих, носивших немецкие фамилии{156}. Последние являлись российскими подданными, один с 1862 г., а другой был потомком иммигранта, получившим российское подданство в 1711 г. Их уволили для предотвращения забастовки. Хотя управляющий Юлий Штолль был российским подданным, МВД боялось возобновления беспорядков на заводе уже через две недели после московского погрома. В письме Совету министров с требованием ликвидации предприятия (хотя формально оно не подпадало под существующие ограничительные законы) МВД ссылалось на жандармский отчет о студенте, который смущал пассажиров трамвая рассказами о том, что Штолль – немец, и если будут продолжаться поражения на фронте, на заводе начнутся беспорядки. Позже Комитет по борьбе с немецким засильем постановил, что управляющий должен быть уволен в интересах сохранения общественного порядка, несмотря на то что он не подпадает под действующие репрессивные законодательные положения{157}.
Напряженность не спадала не только в Москве. В Екатеринославе жандармы раскрыли целую «организацию» по преследованию «немцев» на русско-бельгийском металлургическом заводе. В серии анонимных доносов утверждалось, что управляющий завода Шлюпп прикрывает активный шпионаж в пользу Германии своим швейцарским гражданством. К тому же жандармы конфисковали «воззвание рабочих партий», распространявшееся среди рабочих и объявлявшее, что пришло время выкинуть немцев-шпионов с завода, не считаясь с мнением инженеров или руководства, даже если для этого нужно будет обратиться к самому Верховному главнокомандующему Николаю Николаевичу{158}.
В Казани агитация против враждебных подданных стала такой настойчивой, что губернатор приказал временно закрыть все магазины, владельцами которых были подданные Центральных держав или российско-подданные немцы{159}. В Киеве, Казани и других городах распространялись слухи о приближающихся массовых немецких и еврейских погромах{160}. Жандармские отчеты из Петрограда на протяжении всего лета 1915 г. отмечали, что подданные враждебных государств обвиняются в каждом пожаре или взрыве на фабриках{161}. Начальник Самарского губернского жандармского управления докладывал, что по всему городу рабочие собирают подписи под петициями с требованием увольнения всех управляющих и мастеров, являющихся вражескими подданными. В случае неудовлетворения своих требований рабочие грозили учинить массовые беспорядки, забастовки и насилие. Самарский губернатор ответил приказом об увольнении нескольких рабочих и служащих, а также увеличением состава полиции в городе на 140 человек. Однако он боялся, что сделал слишком мало для сохранения спокойствия в деревне, где напряженность взаимоотношений русских крестьян, немецких фермеров-колонистов и выселенцев была очень велика. Архангельский губернатор докладывал, что один из городских жандармов был уличен в планировании погрома иностранцев и немцев, и только аресты подозреваемых в сговоре помогли предотвратить крупный погром{162}.
Даже несмотря на жесткие меры, предпринятые полицией, в Астрахани 9—10 сентября все же произошел массовый погром, направленный против иностранных подданных, в результате которого было разграблено несколько больших магазинов, владельцами которых были немцы. Лишь аресты более ста человек помогли подавить выступления, которые, несмотря на вмешательство полиции, продолжались два дня{163}. Отчеты жандармов второй половины 1915, а также 1916 гг. указывали на то, что без энергичных мер, предпринятых полицией, летом и осенью 1915 г. в Астрахани регулярно случались бы события, схожие с московскими{164}.
Однако наиболее успешными акциями по предотвращению беспорядков и погромов стало большое количество превентивных увольнений и высылок вражеских подданных. Отчасти это делалось по приказу местных властей. Но зачастую работодатели увольняли иностранцев в ответ на давление со стороны рабочих. Очевидно, что по всей стране проходила широкомасштабная чистка общества от иностранцев, хотя масштаб ее крайне сложно измерить. Все добровольные и прогрессиональные организации приняли резолюции, которые отменяли членство для вражеских подданных и исключали последних из числа действительных членов. Например, в начале 1915 г. театральные и музыкальные труппы по всей стране исключили из своего состава лиц немецкого происхождения{165}. Требования бастующих рабочих об увольнении подданных враждебных государств часто удовлетворялись немедленно{166}. В сентябре 1915 г., еще до того как Болгария официально вступила в войну, по всей России и особенно Украине проходили столь массовые увольнения болгар, что правительство вынуждено было неоднократно заявлять, что такие увольнения незаконны{167}.
В течение 1915 и 1916 гг. слухи и порождаемая ими социальная напряженность сосредоточились на российских подданных, носящих немецкие фамилии и занимающих значительное положение в коммерции, а также ответственные посты в армии, правительстве и судебной системе{168}. Увольнения отдельных заметных лиц с немецкими фамилиями из государственных учреждений только обострили слухи об измене, гнездящейся на самом верху. Например, в Москве за месяц до беспорядков полковник А. Модль был атакован на улице во время спонтанной манифестации после очередного повышения цен и закидан камнями толпой, кричащей «Бей немца!» (хотя он был выходцем из Франции). Вместо того чтобы сделать публичное заявление, осуждающее действия толпы, власти уволили Модля и еще одного из главных помощников градоначальника, объяснив свои действия тем, что невозможно оставить на посту высших полицейских чиновников, потерявших доверие народа из-за своих иностранных фамилий{169}. Один из свидетелей показывал, что во время московских беспорядков было много возмущений по адресу «немца» Владимира Карловича Саблера, занимавшего пост обер-прокурора Святейшего Синода. У московской синодальной конторы прошла крупная манифестация, требующая увольнения «немца»{170}.
Губернаторы ряда губерний увольняли служащих с немецкими фамилиями, а чиновники с иными иностранными фамилиями повсеместно попадали под сильное и постоянное общественное давление[52]52
Среди наиболее радикальных чисток можно назвать проведенные в Тверской и Рязанской губерниях. Императрица Александра Федоровна упоминала в письме Николаю II в августе 1915 г. об изданных там приказах об увольнении всех чиновников, носящих немецкие фамилии. Letters of the Tsaritsa to the Tsar, 1914-1916 / Ed. B. Pares. London, 1923. P. 118 [Переписка Николая и Александры Романовых (1914—1915 гг.). М.;Л., 1925. Т. 2. – Прим. пер.].
[Закрыть]. Типичным был случай Эмиля Штемпеля, который работал экспертом-юристом в Министерстве юстиции на протяжении десяти лет. Он предоставил письма с положительными характеристиками от многих вышестоящих лиц, удостоверяющих его значимость как специалиста для московского прокурорского надзора, однако его увольнение не было отменено министром юстиции из-за более позднего германского подданства Штемпеля (он стал российским подданным в 1881 г.){171}.[53]53
Тот факт, что его отец был австрийским евреем, особо подчеркнут в комментариях к данному делу. Его брат Элиас, также российский подданный, был в начале войны выслан «по подозрению в шпионаже», и представители 6-й армии настоятельно требовали признать, что одного этого факта достаточно для увольнения Эмиля Штемпеля.
[Закрыть]
Полиция и либеральные политики были обеспокоены тем, что официальная кампания против немецкого засилья порождала «погромную атмосферу» не только на фабриках и в городах, но также среди солдат и крестьян. Доклады о том, что такие настроения просачиваются в армию, вызывали определенное беспокойство. Жандармы выражали тревогу, что нижние чины положительно отнеслись к московскому погрому. Например, солдат К.И. Воган писал, что, когда солдаты прочитали в газетах о беспорядках в Москве, они говорили: «Слава Богу, наконец-то народ нас поддерживает»{172}. По имевшимся достоверным сведениям, в июне 1915 г. солдаты 177-го батальона, входящего в состав гарнизона Новгорода, выражали сильное неудовольствие деятельностью все еще остающихся в России немецких «шпионов». Судя по отчетам жандармов, на своих сходках они говорили, что погром немцев в Петрограде может начаться со дня на день, а так как войска сочувствовали погромщикам, полиция опасалась, что мятеж может распространиться на все города империи. На одной из встреч солдаты решили стрелять в командующего гарнизоном и губернатора, если они прикажут усмирять народ для предотвращения планируемого в Новгороде погрома{173}.
Московские беспорядки четко иллюстрируют дилемму власти и социальную напряженность, с которыми столкнулось правительство во время войны. Тотальная война требовала беспрецедентной мобилизации всех сил страны и повышала значимость и безотлагательность требований сделать имперское государство более национальным. Но московский погром показал, насколько изменчивой и дестабилизирующей может стать «патриотическая» кампания против вражеских подданных, наглядно продемонстрировав опасность сползания имперского государства в хаос неудержимого межнационального и классового насилия. Некоторые чиновники правильно понимали данную проблему и убеждали остановить кампанию против подданных враждебных государств, но большинство протестующих к осени 1915 г. были смещены со значимых постов в правительстве и заменены чиновниками, поддерживающими всеобъемлющую репрессивно-ограничительную политику.
Глава 3.
НАЦИОНАЛИЗМ В ТОРГОВЛЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Широко распространенное враждебное отношение к подданным неприятельских государств достигало пика в вопросе о решающей роли отдельных иностранцев и целых национальных меньшинств в модернизации экономики империи. Так как деятельность вражеских подданных, и особенно немцев, составляла большую часть непосредственного иностранного участия в имперской экономике и значительную долю всей передовой экономической деятельности в империи, пропагандистская кампания против них имела чрезвычайно широкие и далекоидущие последствия. Сначала правительство действовало осторожно, но в конце концов одобрило националистическую программу и начало претворять ее в жизнь с целью освобождения России и государственного аппарата от иностранного влияния, тем самым выходя за рамки временных мер и стремясь к систематическому и долговременному ослаблению роли немецкого и вообще иностранного предпринимательства в экономической жизни империи. Эта шовинистическая кампания показывает, насколько сильно старый режим тем самым подрывал основы, защищавшие частную собственность и правопорядок, и способствовал обострению социальной напряженности на уровне как классовых, так и национальных отношений, хотя стремился лишь к тому, чтобы в военное время создать российскую национальную экономику.
Роль иностранных и натурализовавшихся меньшинств в имперской экономике
Для понимания степени накала страстей и общественного резонанса, вызванного кампанией военного времени против вражеских подданных в экономике, необходимо дать краткий обзор роли иностранцев и нерусских коммерческих диаспор в модернизации имперской экономики. Индустриализация Российской империи конца XIX – начала XX в. совершалась при участии большого числа иностранных предпринимателей, специалистов, рабочих, а также за счет значительного притока иностранного капитала. В большинстве исследований, посвященных иностранному участию в экономике России, особое внимание уделяется именно поразительному количеству привлеченного иностранного капитала. Между 1893 и 1914 гг. иностранные инвестиции составляли примерно половину всего вновь привлеченного капитала в производственных акционерных компаниях, а в 1914 г. иностранцам принадлежало по меньшей мере 40% совокупного акционерного капитала торгово-промышленных предприятий, действовавших в России{174}. Среди противников России в Первой мировой войне на долю Германии приходилась наибольшая часть иностранного капитала (20% всех прямых иностранных инвестиций в 1914 г.). В 1914 г. в России насчитывалось 29 акционерных предприятий с капиталом в 38,5 млн. руб., а также 256 неакционерных фирм с совокупным капиталом в 42 млн. руб., основанных по германским законам и полностью принадлежавших германским подданным{175}. Австрийские подданные, хотя и весьма многочисленные в России, были менее активны, а их инвестиционные вложения менее значительны. Роль Турции и Болгарии в передовой экономической деятельности была довольно слабой. Таким образом, во время войны враждебное отношение вызывали преимущественно немцы.
Отдельно взятое количество иностранных инвестиций не отражает в полном объеме степень участия иностранцев и инородцев в передовой экономической деятельности. Как иностранные, так и русские фирмы нанимали немало иностранцев, преимущественно немцев, в качестве управляющих, на административные и инженерные должности. Так, статистические данные по фирмам, принадлежавшим исключительно немцам, провоцируют серьезную недооценку степени включенности последних и других иностранцев в российскую экономическую систему. Некоторые приведенные ниже данные указывают на многонациональный или даже интернациональный состав экономической элиты. Приблизительно десятую часть всех основателей акционерных обществ в Российской империи в течение XIX в. и непосредственно перед Первой мировой войной составляли подданные зарубежных государств{176}.[54]54
Эти статистические данные основаны на анкетах 14 131 основателя акционерных предприятий в России за 1821– 1913 гг.
[Закрыть] На рубеже веков почти 1/3 всех технических специалистов в российской промышленности и 1/10 управленческого персонала являлись иностранными подданными{177}.[55]55
Абсолютное количество иностранцев на этих должностях к 1914 г. выросло, однако относительная доля иностранных подданных продолжала постоянно падать.
[Закрыть] К тому же российские подданные немецкого, еврейского и польского происхождения составили, соответственно, 20% и по 11% от общего числа основателей акционерных предприятий (в 1896—1900 гг.). Среди этих последних, а также среди управляющих акционерными компаниями процент российско-подданных немцев или иностранцев в двенадцать раз превосходил аналогичное соотношение в составе населения империи в целом. И наоборот, число русских предпринимателей составляло только 75% для подобного соотношения ко всему населению, а украинских – лишь 9%{178}. Подобное исследование управленческих кадров меньших по размеру, но более многочисленных неакционированных предприятий за 1903 г. обнаруживает сходную структуру, показывая, что 9% от 16 400 управляющих ими лиц были иностранцами{179}.
Советские историки начиная с 1920-х и по 1960-е гг., как правило, утверждали, что императорская Россия в рассматриваемый период находилась в колониальной зависимости от Запада{180}. Однако несколько западных ученых, а начиная с 1960-х гг. и некоторые их советские коллеги представили серьезные аргументы, ставившие под сомнение подобные утверждения. Длительный период относительного мира с 1815-го по 1914 г. помог создать условия для беспрецедентной в мировой истории циркуляции товаров, капитала и людей между множеством стран. Почти каждое значительное промышленно развивавшееся общество в XIX в. широко использовало зарубежные источники капитала, привлекало иностранных предпринимателей, управленческие и технические квалифицированные кадры. Иностранное участие в российской индустриализации не выглядит таким уж экстраординарным, если сравнивать его с ролью иностранцев в промышленном развитии Франции, Германии, Австрии, Соединенных Штатов, Австралии и Канады в XIX в.
Действительно, оптимистичные современники и последующие историки указывали, что Россия уже была на пути к подобной «натурализации» (nativization) иностранцев и иностранных фирм, присущей всем перечисленным странам в то время, когда индустриализация в них достигла определенной стадии. Оптимисты предпочитали думать, что роль иностранцев в России не столько создавала условия для «влияния», сколько ускоряла промышленный рост, который в конечном итоге сделает Россию сильнее и независимее. В 1913 г. один из таких экономистов писал, что ситуация в России коренным образом отличается от положения в колониях европейских держав. В России «процесс национализации иностранной промышленности начался и продвигается гораздо быстрее, чем где бы то ни было…, включая натурализацию и ассимиляцию иностранного персонала»{181}.
Тот же автор на примере немецкой фирмы «Фицнер и Гампер» объяснял, как этот процесс обычно происходит, показывая, что доля иностранного персонала в администрации данного предприятия снизилась с 81% в момент его основания в 1880 г. до 9% в 1898 г. Незначительное количество детальных исследований деятельности отдельных иностранных фирм в России не позволяет с уверенностью утверждать, что этот процесс носил всеобщий характер, но работы ряда исследователей по истории некоторых предприятий показывают, что во многих ведущих иностранных фирмах наблюдались схожие процессы постепенной замены иностранного персонала и руководства русским[56]56
Все четыре исследования Джона Маккея, посвященные конкретным фирмам, показывают довольно масштабный переход административной власти управляющих к русскому персоналу. Вольфганг Сартор заключает, что семья Шпис, проживавшая в России к 1914 г. уже в четвертом поколении, полностью вросла в жизнь империи. Исследования Карстенсена об английском предпринимательстве показывают более прохладное отношение британских фирм к русскому административному и техническому персоналу, но он утверждает, что британские предприятия склонялись к некоторой активности в подготовке русского персонала и позволяли русским со временем подниматься по карьерной лестнице до самых высоких постов. Эрик Амбургер обнаружил, что его предки, управлявшие в России целым рядом фирм разных типов, натурализовывались медленнее, но накануне войны ассимиляция уже шла полным ходом. Многие члены этой семьи служили в русской армии и состояли в браке с русскими православного вероисповедания. Фурсенко в одном из своих редких отступлений от официальной советской историографической доктрины всерьез утверждал, что русская (хотя и с иностранными пайщиками) нефтяная компания Нобеля была действительно русской и принимала вполне самостоятельные решения и что ничего подобного нельзя было увидеть в фирмах, подконтрольных Дж.Д. Рокфеллеру и другим «враждебным иностранцам». См.: McKay J. Pioneers for Profit.; Сартор В. Торговый дом «Шпис»: Документальное наследие династии немецких предпринимателей в России (1846—1915 гг.)//Отечественная история. 1997. № 2. С. 174—183; Carstensen F. Foreign Participation in Russian Economic Life: Notes on British Enterprise, 1865—1914 // Entrepreneurship in Imperial Russia and the Soviet Union / Eds. G. Guroff, F. Carstensen. Princeton, 1983. P. 140– 158; AmburgerE. Deutsche in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Russlands: Die Familie Amburger in St. Petersburg, 1770-1920. Wiesbaden, 1986. S. 178– 185; Фурсенко А.А. Можно ли считать компанию Нобеля русским концерном?//Труды АН СССР. Л., 1971. Т. 12. С. 352-361.
[Закрыть]. Данные о российских акционерных предприятиях, собранные Томасом Оуэном, наводят на мысль, что именно такой анализ ситуации правомерен для последнего предвоенного десятилетия. Эти данные свидетельствуют об относительно резком снижении доли иностранцев среди руководителей предприятий с более чем 10% в 1905 г. до менее чем 6% в 1914 г.{182} Конечно, большая часть этой статистической «замены» была результатом натурализации иностранных подданных. Но подавляющее большинство имеющихся данных позволяет предположить, что натурализация подразумевала нечто большее, чем просто обретение нового паспорта. Иностранцы, в особенности немцы, были склонны к быстрой ассимиляции в российском обществе. Недавнее исследование Санкт-Петербургского промышленного района, с наибольшим числом немецких и других иностранных предприятий, подтверждает этот вывод, показывая, что имперская российская культура оказывала мощное ассимилирующее влияние как на иностранцев, так и на российских немцев. Автор этой работы пришел к заключению, что уровень натурализации, познаний в русском языке и культурной ассимиляции среди этих коммерческих диаспор был очень высок{183}.
В российском обществе существовали отдельные оптимисты и даже целые организации, содействовавшие распространению терпимости к иностранцам, иммигрантам и вообще нерусским участникам народного хозяйства и выступавшие в защиту космополитической экономической системы в целом даже во время войны. Например, влиятельная организация российских предпринимателей в относительно космополитичном Петроградском промышленном районе, Совет съездов представителей промышленности и торговли, оказывала мощную поддержку свободной торговле и выступала против ограничений экономической деятельности иностранцев в пределах империи в течение войны{184}. В записке, направленной министру торговли и промышленности, Совет съездов утверждал, что хотя Германия действительно осуществляла сознательную политику экспорта капитала с целью внедрения в зарубежные страны с политическими целями и с 1904-го по 1914 г. немцы и немецкие выходцы закупили российских акций на 147 млн. руб., однако германские планы подчинить Россию собственному влиянию потерпели неудачу. Германский капитал лишь укрепил рубль и российскую государственную власть, увеличив производственные мощности страны{185}.
Некоторые наблюдатели, такие как П.Б. Струве, подчеркивали, что единственным способом для России превратиться в современную великую державу, оставаясь империей, было найти либерально-конституционные методы для привлечения иммигрантов в русское подданство и признать всех натурализовавшихся иностранных выходцев в качестве полноправных граждан. По мнению одного из обозревателей, квазиконституционная Россия успешно продвигалась в этом направлении. Он считал, что иностранцы уже начали «отказываться от своего иностранного гражданства и становились неотъемлемой частью нового либерального российского гражданского общества». Кроме того, вклад иностранцев в развитие экономики помогал России становиться сильнее и независимее в ее отношениях с более мощными экономиками мира{186}.
Существование подобных взглядов в 1914 г. уравновешивалось наличием прямо противоположного отношения к этому вопросу в официальных и широких общественных кругах, зародившегося еще в самом начале индустриальных реформ. Министерство внутренних дел возглавляло официальную оппозицию Министерству финансов и его стратегии индустриализации в конце XIX – начале XX в.{187} МВД и правительство в целом установили ряд ограничений для иностранцев и отдельных меньшинств в экономической сфере, выступая в некоторых случаях в патриархальной роли защитника крестьянства против вторжений иностранцев, современного капитализма и развращающего влияния иноверцев-посредников, ростовщиков и трактирщиков. Подыгрывая предполагаемым крестьянским представлениям о том, что оптовая и розничная торговля являются «непроизводительной» деятельностью, подвергающей крестьян суровой эксплуатации, многие чиновники МВД стремились представить коммерцию и капитализм в целом воплотившимися в личностях евреев и других инородцев, занятых «эксплуататорскими» видами деятельности. Здесь официальная политика объединялась с общераспространенным антисемитизмом и ксенофобской риторикой, что создавало соответствующий фон для погромов 1880-х гг., изгнания евреев из Москвы и Петербурга в 1890-х гг., а также погромов и насилия периода революции 1905 г. Несмотря на ограничения в сфере предпринимательства и квоты на поступление в университеты, количество евреев в рядах экономической и прогрессиональной элиты продолжало расти{188}. Власти испытывали все возрастающую обеспокоенность по поводу не только выдающейся роли евреев в коммерческой деятельности, но и участия в ней других инородцев. Например, МВД вело подробный статистический учет числа служащих банков и акционерных предприятий по национальному признаку в течение последних десяти предвоенных лет. Основываясь на подобных данных, чиновники МВД с тревогой констатировали, что в северо-западной части империи немцы составляли 26%, евреи – 35%, поляки – 19%, а русские – лишь 8% от числа банковских служащих, и настаивали на введении еще более строгих ограничений для иностранцев с целью изменения данного соотношения{189}. Борьба мировоззрений между МВД и Министерством финансов продолжалась вплоть до 1914 г.
Несмотря на то что Совет министров и царь нередко поддерживали Министерство финансов, в правительстве постоянно сохранялось напряжение между сторонниками модернизации и «полицейской точки зрения». В результате был установлен ряд правил, которые ставили иностранцев и представителей некоторых национальных меньшинств в весьма неопределенное положение. Даже сами принципы частной собственности и правового статуса предприятия в 1914 г. все еще составляли предмет спора, и не только по отношению к иностранцам или подозрительным меньшинствам, но и ко всем акционерным обществам, действовавшим в Российской империи. В деловой сфере наиболее важным отражением этого спора стала концессионная система учредительства{190}. Чтобы зарегистрировать предприятие, нужно было получить разрешительный документ, в котором был прописан ряд условий дальнейшей деятельности предприятия. Подобные документы часто содержали условия, запрещавшие фирмам принимать на работу евреев, поляков и/или иностранных администраторов, а также не допускавшие, чтобы акциями владели лица ряда национальностей. Кроме того, эти документы часто оговаривали в качестве особого условия, что фирмы с определенным числом евреев, поляков и/или иностранцев в составе их собственников и совладельцев не имеют права приобретать недвижимое имущество{191}.[57]57
Подобные ограничения землевладения применялись в различных регионах империи, но вне пределов западных губерний, где действовали ограничительные земельные законы, анализируемые нами в следующей главе данного изд.
[Закрыть] Концессионная система учредительства также имела теоретико-правовой аспект чрезвычайной важности, особенно для военного времени, заключавшийся в том, что и российские, и зарубежные акционерные предприятия не становились субъектами права с соответствующим статусом, а лишь удостаивались некой условной привилегии работать в России, которой они могли лишиться по воле правительства в любое время. Во время войны правительство прямо использовало этот правовой принцип, чтобы оправдать отзыв разрешений на деятельность в России для определенных фирм[58]58
Например, подобный аргумент использовался в ответ на жалобы шведского посла на ликвидацию фирмы с совместным шведско-германским капиталом и акционерами. Министерство торговли и промышленности победило в споре с Министерством иностранных дел при помощи аргумента, что право работать в России не есть автоматически даруемая привилегия, а национальная принадлежность фирмы может стать дополнительным фактором при решении судьбы ее дальнейшей деятельности в России. См.: РГИА. Ф. 1276. Оп. 12. Д. 1472. Л. 3 (Особый журнал Совета министров, 5 и 9 июня 1915 г.) [Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909—1917 гг. / 1915 год. М., 2008. С. 289– 291. – Прим. пер.]. Первым акционерным обществом, пострадавшим от подобного решения, стало общество «Вайс и Фрейтаг»; в 1915 г. разрешения были отозваны у 14 фирм ив 1916 г. еще у 18.
[Закрыть].
Именно такая политика официальных кругов встречала широкую поддержку у сторонников истинно русского экономического развития России. Общественное противодействие слишком большой роли, которую играли иностранцы в экономике России, появилось уже в 1860-х гг., когда наплыв заграничных дельцов только начинался. Реакция российской буржуазии на иностранное вмешательство разнилась в зависимости от региона{192}. Так, предпринимательские организации Петербурга и польских губерний демонстрировали сравнительно космополитичный подход, поддерживая свободную торговлю и либеральную политику по отношению к иностранцам и местным национальным меньшинствам, в то время как московские и уральские торгово-промышленные сообщества были более русскими по составу и русофильскими по мировоззрению. Споры между этими экономическими районами по поводу государственных заказов, тарифов, железнодорожного строительства и ряду других вопросов бушевали в печати с 1860-х гг. и вплоть до падения царского режима. В этих спорах именно московские предприниматели особенно часто прибегали к националистическим аргументам, требуя от правительства отдавать предпочтение коренным русским перед иностранцами. Славянофильствующие публицисты и издатели выработали и всячески поддерживали достаточно последовательную идеологию русского экономического национализма, которую и пытались претворять в жизнь в некоторых конкретных ситуациях{193}. Однако сторонникам идей русского национализма в экономике редко удавалось оказывать влияние на правительство до войны. Министерство финансов было в большей степени заинтересовано в использовании всех возможных источников экономического роста для обеспечения ускоренной индустриализации, чем в продвижении русских в состав экономической элиты{194}.
Однако эта идея оставалась чрезвычайно популярной. Если рассматривать национализм как идеологию, то идеи русского экономического национализма представляются весьма схожими с идеями классика национализма Фридриха Листа, прежде всего в отрицании мировой космополитической экономической системы как по сути эксплуататорской и призывах к развитию национальной экономики{195}. Русская национально-экономическая программа обрела значимость, когда на рубеже веков индустриализация вступила в свою более зрелую фазу. По мере того как росло число российских предпринимателей, их капиталы и уверенность в себе, они все больше претендовали на то, чтобы выступать от лица нации, а не только в защиту узких сословно-классовых интересов. Война дала им возможность опереться на государство в экономической конкуренции с иностранцами и местными инородческими меньшинствами и сделать это якобы во имя национальных интересов.

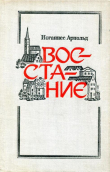




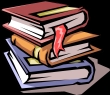
![Книга Шпионаж во время войны [сборник] автора Робер Букар](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shpionazh-vo-vremya-voyny-sbornik-212070.jpg)