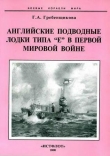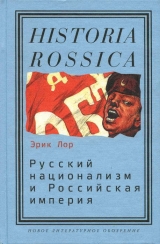
Текст книги "Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны"
Автор книги: Эрик Лор
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
В той мере, в какой эти установки применимы к военному времени, проблема различных враждебных меньшинств затрагивалась и в исследовательской литературе, пребывавшей в основном в парадигме нация—государство и занимавшейся историей каждой из затронутых национальностей в отдельности{26}. Однако при подобном подходе сама природа категорий «враждебный иностранец» или «вражеский подданный» вызывает серьезные вопросы. Невозможно написать историю «неприятельского подданного» в России. Как и «беженец», эта категория внезапно появилась лишь в начале войны{27}. Хотя наиболее влиятельную и многочисленную группу в данной категории составляли немцы, написание истории лишь немецкого меньшинства во время войны не соответствовало бы всей глубине и разнообразию национальных вопросов, возникших вместе с проблемой враждебных подданных. С моей точки зрения, вопрос в целом был гораздо в большей степени проблемой государства, его жизнедеятельности и восприятия войны как «национального события», чем проблемой особого событийного характера в истории немцев, евреев, иностранцев и других этнических меньшинств в России. Именно поэтому композиционное и смысловое ядро данной книги составляет серия исследований конкретных государственных мер по национализации: конфискации земельных владений и городского имущества, ликвидации предприятий вражеских и враждебных подданных и массовых насильственных переселений. Сосредотачиваясь на предпосылках и осуществлении подобных мер, книга исследует способы, при помощи которых государство оценивало и классифицировало собственное население, деля подданных на сторонников и противников, а также рассматривает попытки государства национализировать имперское общество в целом, манипулируя составлявшими его народами и экономическими факторами.
Глава 1.
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ, ИМПЕРСКИЕ ДИЛЕММЫ
В самом начале войны казалось, что Россия будет твердо придерживаться как традиций международного права, так и своей собственной практики и воздержится от определенных мероприятий против подданных вражеских государств на своей территории. Весьма важный циркуляр Министерства внутренних дел (МВД) от 26 июля 1914 г., направленный всем губернаторам, недвусмысленно устанавливал, что мирные «австрийцы и германцы, находящиеся вне всякого подозрения, могут оставаться в своих местах и пользоваться покровительством наших законов или выехать за границу»{28}. В том же ключе выступили и «Русские ведомости», основываясь на анализе российских и международных мер во время предыдущих военных конфликтов и обещая, что права вражеских подданных не будут ограничены: «В отношении подданных неприятельского государства, застигнутых в момент объявления войны на неприятельской территории, никакие меры, которые ухудшали бы их личную или имущественную безопасность, абсолютно недопустимы: они пользуются полной охраной и находятся под покровительством законов страны, как и в мирное время»{29}.
Если первоначальные декларации утверждали, что иностранные подданные будут оставлены в покое, то и первая в России полномасштабная массовая военная мобилизация также сопровождалась дружным хором заявлений с призывами о забвении национальных и социальных различий с целью объединения всего сообщества граждан для общей борьбы. В Высочайшем манифесте об объявлении войны Германии 19 июля 1914 г. царь призывал: «В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение царя с его народом и да отразит Россия, поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага»{30}. Данная сентенция на всем протяжении войны рефреном повторялась в публикациях и речах государственных и общественных деятелей даже весьма различных политических взглядов.
Происходившее на улицах городов по всей стране лишь усиливало ощущение того, что внутренние разногласия действительно должны быть забыты. 19 июля 1914 г. огромные толпы народа по всей стране собрались на патриотические манифестации в поддержку войны до полной победы{31}. Земства, сельские сходы, общественные клубы и объединения активно слали телеграммы с выражением преданности и полной поддержки объединенных усилий для достижения победы{32}. Печать всего политического спектра неустанно твердила о «невиданном в истории единении всех народов России».
26 июля Государственная Дума собралась на весьма важное пленарное заседание. Один за другим представители различных партий и национальностей империи всходили на трибуну и от имени своих избирателей заявляли о полной поддержке начавшейся войны. Людвиг Люц, представлявший общины немецких колонистов, решительно объявил:
Наступил, господа члены Государственной Думы, час, когда немцы, населяющие Россию, верноподданные Его Величества, сумеют защитить достоинство и честь великого государства и снять то оскорбление, которое могло быть нанесено одним предположением, что русско-поддан-ные немцы могут изменить своему отечеству, чести и достоинства которого они никогда не забудут и никогда его не забывали{33}.[13]13
Немецкоязычная пресса Российской империи была единодушна в выражении поддержки войны и энтузиазма по поводу «объединения русского общества». См.: Volkszeitung. 1914. 27 июля. Этот номер содержит выдержки из других немецких газет, издававшихся в России.
[Закрыть]
Н.М. Фридман, выступавший как представитель российского еврейства, заявил, что, хотя «в исключительно тяжелых правовых условиях жили и живем мы, евреи, и тем не менее мы всегда чувствовали себя гражданами России и всегда были верными сынами своего отечества». Барон Г.Е. Фелькерзам провозгласил, что прибалтийские немцы, как и ранее, безусловно выполнят свой долг как верноподданные русского царя. Лидеры конституционно-демократической партии официально объявили о прекращении внутриполитической борьбы и о полной поддержке правительства и царя в общей битве с внешним врагом. Председатель Санкт-Петербургской городской думы либерал В.Д. Кузьмин-Караваев восторженно заявил, что «среди нас теперь ни национальностей, ни партий, ни различия мнений. Россия предстала перед германизмом как один великий человек»{34}. А либеральная газета «Речь» с торжеством утверждала: «Они ошиблись и поверили глупой клевете о неспособности русской интеллигенции и народа проявить чувства пламенного патриотизма для защиты чести и достоинства России»{35}.
Подобная всенародная демонстрация верноподданнических чувств, преданности делу общей борьбы с внешним врагом и отказа от конфликтов со своими давними внутренними антагонистами и правительством произвела глубокое впечатление на все общество. Этот момент стал ярким символом и исходной точкой для российского дискурса, разворачивавшегося на протяжении всей войны, чем-то напоминая состояние «гражданского мира» (Burgfrieden) в Германии и «священного единства» (Union Sacree) во Франции{36}. Как справедливо отметил Джошуа Санборн, мобилизация общества для войны породила настоящее чувство нации и тот самый здоровый национализм, способный, как казалось, преодолеть национальные различия на всей территории империи{37}.
Однако с самого начала войны государство столкнулось с определенной дилеммой. Оно желало поощрить патриотические манифестации и выражения воинственного энтузиазма, но при этом так же необходимо было поддерживать порядок. Даже во время этого великого единения нации проявилась и обратная его сторона. 22 июля в Петрограде толпа в несколько тысяч человек проследовала от Зимнего дворца к германскому посольству, по пути разбивая витрины магазинов с немецкими вывесками, а также разгромив немецкий книжный магазин и несколько контор газеты «St. Petersburger Zeitung»{38}. Придя к посольству, толпа, насчитывавшая по подсчетам полиции уже «несколько десятков тысяч», быстро прорвала полицейское оцепление и принялась громить здание. Не прошло и двух часов, как здание посольства и близлежащая резиденция посла были полностью разгромлены и подожжены{39}.[14]14
Один 58-летний германский подданный был найден в здании посольства после погрома мертвым и изуродованным. См.: Убийство в германском посольстве // Речь. 1914. 24 июля.
[Закрыть] Несмотря на энергичные полицейские меры, включавшие запрет на дальнейшие манифестации, следующим вечером большая толпа разгромила еще четыре немецких магазина{40}.
Петроградский градоначальник А.Н. Оболенский запретил любые уличные манифестации с целью предотвратить распространение насилия; подобный приказ был выпущен и в Москве. Даже министр внутренних дел Н.А. Маклаков, имевший устойчивую репутацию воинствующего реакционера, издал секретное распоряжение всем губернаторам и градоначальникам, указывавшее на необходимость сохранения единства страны и призывавшее избегать распоряжений и ситуаций, способных нарушить внутренний мир в империи, включая покушения на жизнь или имущество подданных враждебных государств[15]15
ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 174. Л. 28 (Циркуляр министра внутренних дел Маклакова всем губернаторам и градоначальникам, 21 июля 1914 г.). Этот важный циркуляр формулировал данную дилемму в том смысле, что правительству необходимо следовать стратегии сохранения единства общества в общем патриотическом порыве, при этом не отдаляя население от властей, чтобы они совместно стремились к поддержанию порядка в империи.
[Закрыть].
На фоне этих событий с участием преимущественно гражданских лиц приказы о мобилизации армии вызвали немалый энтузиазм, а сама мобилизация прошла с меньшими проблемами, чем ожидалось. Это также старательно изображалось как часть великого исторического момента и всеобщего внутреннего единения против внешнего врага. Однако в нескольких городах, куда были собраны новобранцы и резервисты, все же произошли массовые беспорядки. Зачастую они не имели явных причин или целей, по большей части начинаясь с разгрома местных винных и водочных складов и продолжаясь пьяными буйствами и погромами{41}. Но в некоторых случаях (особенно яркий пример – события в Барнауле, где одновременно было собрано 20 тыс. призывников) солдаты сознательно выбирали для разгрома магазины и квартиры немецких и других иностранных граждан. Семь иностранных фирм, работавших в Барнауле, понесли совокупный ущерб, исчислявшийся суммой примерно в 200 тыс. руб.{42},[16]16
Большую часть убытков понесли шесть датских и одна английская фирма. Согласно отчетам, погромщики ошибочно приняли их за немецкие.
[Закрыть] Местные власти, включая находившихся на месте командиров формирующихся армейских частей, в течение нескольких часов не могли остановить насилие. Когда пожарные команды пытались тушить подожженные толпой здания, их били и заставляли покинуть место происшествия. В других районах империи, где войска останавливались в пристанционных поселках и городах по пути на фронт, произошел ряд значительных еврейских погромов и других беспорядков, подавленных с немалыми трудностями{43}.
Общегосударственная дилемма – поддерживать «патриотизм» или порядок – была практически неразрешима в окраинных областях с преобладанием нерусского населения, особенно в Прибалтийском крае. Народные манифестации в первый месяц войны здесь были частыми, многолюдными и довольно бурными. Латыши и эстонцы оказались вполне готовыми к многолюдным маршам и манифестациям, и полиция с тревогой отмечала, что нередко они были в крайней степени антинемецкими, причем без особого различия между внешним врагом и проживавшими в прибалтийских губерниях немцами. Латвийские и эстонские газеты помещали немало статей, обвинявших местных немцев в измене, а местные власти – в запретах или приостановках подобных «патриотических» демонстраций. Русские имперские власти зачастую не знали, как реагировать на ситуацию, желая продлить излияния патриотических чувств местного населения, но при этом избежать нарастания межнациональной и социальной напряженности, которую подобные манифестации часто провоцировали{44}.
Озабоченный докладами об усилении межнациональной вражды, министр внутренних дел послал на место событий ревизора – своего товарища В.Ф. Джунковского, на тот момент успешно делавшего карьеру в МВД. Его отчет о поездке трезво оценивал дилемму властей в Прибалтийском крае. Джунковский писал, что в ходе революции 1905 г. латыши и эстонцы широко участвовали в деятельности революционных партий и поэтому вплоть до июля 1914 г. рассматривались властями в качестве главной угрозы государственному порядку, тогда как прибалтийские немцы, составлявшие большинство высших классов, в основном казались надежным элементом. Война изменила ситуацию. Джунковский докладывал, что патриотический подъем местного населения был действительно силен и выглядел искренним, однако его явная антинемецкая природа вызывала беспокойство. Он делал вывод, что местная немецкая элита не заслуживает прежнего доверия, и подчеркивал необходимость принять меры по противодействию возможной шпионской деятельности местных немцев; он также указывал, что российским властям необходим сбалансированный подход, без явных предпочтений одной из сторон конфликта, могущего перерасти в серьезное межнациональное противостояние. В любом случае приоритетом должно быть сохранение порядка{45}.
И в Прибалтийском крае, и по всей империи правительство в начале войны без особых колебаний сделало выбор в пользу порядка. Нападение на германское посольство в Петербурге было сравнительно энергично ликвидировано полицией и войсками гарнизона, которые успешно предотвратили подобную акцию другой толпы, направлявшейся к австрийскому посольству. Жесткие меры были приняты также для предотвращения возможных дальнейших беспорядков в столице. Полиция по всей стране была проинструктирована относительно важности сохранения порядка, и большинство городов отчитались о принятии успешных мер по предотвращению насилия против немцев{46}.
Однако патриотические манифестации повторялись в течение первого года войны довольно часто, и власти не всегда могли адекватно на них отреагировать. Наблюдались даже крупные спонтанные остановки в работе предприятий с последующими уличными шествиями рабочих с целью отпраздновать новости о любых мало-мальски значительных успехах русской армии в течение первых шести месяцев войны. К подобным манифестациям власти и большинство работодателей относились терпимо, а то и одобрительно[17]17
Кирьянов Ю.И. Демонстрации рабочих. С. 69. Намеренно искаженная интерпретация этих манифестаций советскими историками как «антивоенных» (!) была вскрыта Кирьяновым. Многие из подобных «стачек» требовали лишь убрать из состава служащих граждан враждебных государств. См. также: Кирьянов Ю.И Были ли антивоенные стачки в России в 1914 году? // Вопросы истории. 1994. № 2. С. 43—52.
[Закрыть].
Таким образом, обычай манифестировать на улицах, чтобы отметить новости с фронта, был установлен с благословения полиции, хотя и невольного. Причем касался он не только побед, но и поражений. 9 октября 1914 г., вскоре после новостей о падении Антверпена, огромная патриотическая манифестация, изначально во главе со студентами Московского университета, прежде всего направилась к сербскому консульству, а затем и к французскому – с целью демонстрации солидарности{47}. Тем же вечером толпа, по приблизительным подсчетам превышавшая 10 тыс. человек, прошествовала по разным районам Петрограда, разбивая витрины магазинов, владельцами которых считались немцы. Среди наиболее пострадавших оказалась сеть кондитерских магазинов, действительно принадлежавшая немецкой фирме «Эйнем», возглавляемой германскими подданными и ставшей мишенью широкой антинемецкой кампании в печати, а также фирмы «Мандель» и «Циммерман», обе со смешанным русско-немецким капиталом{48}.
В течение недели после этого события министр внутренних дел Маклаков в письме Адрианову четко указал, что его предпочтения находятся скорее на стороне порядка, чем хаотических патриотических манифестаций, и сделал градоначальнику строгий выговор за недостаточно энергичные меры по предотвращению или остановке беспорядков{49}. В особенности Маклаков критиковал Адрианова за то, что тот не наложил запрета на деятельность патриотической организации «За Россию», организовавшей бойкот германских и австрийских фирм. Маклаков четко указывал, что подобные действия никак не согласуются с основными целями организации по поддержанию авторитета Российской империи и ее правительства, а, наоборот, подрывают его{50}.
Это послание демонстрировало явное желание министра внутренних дел поддержать порядок даже в ущерб патриотическим излияниям. В свете дальнейшей полемики вокруг сомнительной роли Адрианова в последующих майских погромах 1915 г., направленных против граждан враждебных государств, надо отметить, что в действительности последний довольно энергично отреагировал на октябрьские беспорядки, быстро распространив по Москве официальное заявление, в котором он недвусмысленно сформулировал свою позицию:
С глубоким прискорбием я должен сказать, что нашлись люди, не находившие более разумного применения своим силам, чем нападения – в ночное время – на некоторые торговые места, владельцы которых по своим нерусским фамилиям возбуждали ненависть толпы. Пусть же помнит всякий, что на страже интересов родины стоят законные власти Его Императорского Величества, и не случайному праздному человеку подобает решать вопрос о том, что полезно или вредно для государства, а тем более приводить свое решение тут же в исполнение насильственными, противозаконными мерами. В особенности возмутительно, когда толпа прикрывает свои преступные действия патриотическими песнопениями. Народный гимн – это молитва, а сопровождать молитву безобразием – это кощунство{51}.
Данное обращение также подчеркивало, что любой участник дальнейших манифестаций будет преследоваться по всей строгости закона. Соответственно, если в начале войны правительство стремилось к «единению с народом» и одобряло патриотические манифестации, то далее стало очевидным, что оно не желало направлять или поощрять подобные акции, если они превращались в беспорядки и погромы.
Массовое насилие и армия
Если позиция гражданских властей была изначально вполне ясной в стремлении сохранять правопорядок, то позиция военных – абсолютно иной. Уже в сентябре 1914 г. ряд инцидентов показал, что командование всех уровней поощряет участие солдат в погромах, грабежах и насилии над местным еврейским и другим гражданским населением в прифронтовой полосе. Часто местное население собиралось на окраинах городков и поселков с тачками и телегами и вместе с солдатами отправлялось грабить покинутые деревни сразу же после насильственного выселения жителей. Армейское командование редко вмешивалось, а тем более наказывало участников еврейских или немецких погромов на территориях, на которых было объявлено военное положение{52}. Уже 15 августа 1914 г. варшавский генерал-губернатор, описывая масштабный еврейский погром на подведомственной ему территории, информировал Совет министров о широком распространении среди местного населения слухов о массовых еврейских погромах после войны{53}. Генерал-губернатор утверждал, что, несмотря на принятие всех возможных предупредительных мер, он совершенно уверен, что участие местного населения в подобных акциях невозможно контролировать, особенно если к ним присоединятся солдаты. Действительно, провоцирующая роль армии ни в коем случае не ограничивалась прифронтовыми районами и распространялась на всю империю путем опустошительных насильственных выселений, проведением массовых антишпионских кампаний, секвестрованием и конфискацией всех видов имущества.
Армия играла здесь столь важную роль во многом благодаря закону, принятому в первый день войны, который предоставлял широчайшие полномочия военным властям во всех районах, находящихся на военном положении. Это означало, что все военные циркуляры, объявления, распоряжения и приказы становились обязательными для гражданских властей на всей территории под военным управлением, включавшей Польшу, Кавказ, район Петрограда, прибалтийские губернии, Финляндию и обширные районы Центральной Азии и Сибири (см. карту 3){54}.
На самом высшем уровне дела сферы гражданского управления координировала Ставка Верховного главнокомандующего. Уже к октябрю 1914 г. стало очевидным, что задачи гражданского управления весьма запутаны и обширны, и поэтому для согласования различных проблемных вопросов, связанных с гражданскими лицами, было создано специальное управление при Ставке (Военно-политическое и гражданское управление при Верховном главнокомандующем). Это учреждение было наделено широкими полномочиями в сфере гражданского управления далеко за линией фронта, и прежде всего это были права по ограничению влияния «неприятельских подданных». Совет министров имел возможность отменять распоряжения Ставки, только заручившись для подобного вмешательства поддержкой самого царя. Одним из самых важных официальных полномочий военных властей по отношению к гражданским лицам было практически неограниченное право высылать всех «подозрительных лиц» или целые группы населения без суда. Более того, военные пользовались практически неограниченным правом реквизиции (т.е. могли официально требовать получения необходимых товаров и имущества с уплатой вознаграждения) и секвестра (конфискации всех видов имущества для государственных или военных нужд без формальной смены собственника){55}.
Действующая армия использовала свои немалые возможности для организации масштабной кампании против шпионов, которая частично совпала с мобилизацией общественных сил против вражеских подданных, что имело серьезное влияние на общественное сознание, официальную риторику и направленность всей внутренней политики в течение войны. Обеспокоенность шпионской опасностью быстро росла в последнее десятилетие перед войной не только в обществе, но и среди прогрессионалов. Между 1905 и 1914 гг. по всей империи была раскинута обширная сеть разведывательных пунктов, особенно густая в приграничных районах и западных губерниях{56}.[18]18
Весьма примечательная карта 1913 г. содержит места расположения русских разведывательных пунктов по всей территории империи и за рубежом. Только в Киевском военном округе обозначено 57 центров, большинство из которых расположено вблизи границы. Карта демонстрирует 6 секретных разведывательных пунктов на территории Австро-Венгрии, в Галиции. Об отношении армии к слабости собственных органов контрразведки, выявленной в русско-японской войне, и о попытках исправить ситуацию см.: Деревянко И.В. «Шпионов ловить было некому…» // Военно-исторический журнал. 1993. № 12. С. 51—53.
[Закрыть] В армии твердо решили не допустить повторения того, что считалось полным провалом контрразведки во время русско-японской войны. Поэтому армия и полиция империи уже в 1910 г. приступили к сбору данных о численности и местах проживания иностранных граждан в западных приграничных районах, включая информацию о возможности прохождения ими военной службы в Германии или Австрии{57}.[19]19
В 1909 г. варшавский генерал– губернатор потребовал от местных властей начать предоставление ежегодных отчетов о числе иностранцев, проживающих в губерниях бывшего Царства Польского, а также о любых подозрительных действиях в их среде. См.: ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 429. Л. 14.
[Закрыть] Уже в мае 1914 г. российская правовая система подготовилась к войне, лишив судебной защиты лиц, заподозренных в шпионаже{58}.
По мере нарастания международной напряженности в предшествующие мировой войне несколько лет шпиономания стала не только влиять на деятельность военных и полиции, но и захватывать воображение широких общественных слоев по всей Европе{59}. Однако в Российской империи общество оказалось в крайней степени охваченным шпиономанией лишь с началом войны. Начальник штаба Ставки Николай Николаевич Янушкевич четко приказал, чтобы и военные и гражданские власти были максимально бдительны и стремились выкорчевать шпионство не только из среды вражеских подданных, но и среди находящихся в русском подданстве немцев и евреев, предлагая денежное вознаграждение за достоверную информацию о тайных телефонных линиях, радиостанциях, сигнализации, подготовке секретных аэродромов или любом подозрительном поведении{60}. Официальное воззвание, широко распространявшееся в войсках, предупреждало, что любой этнический немец – потенциальный шпион, а военная печать указывала, что подобные предупреждения относятся также и к евреям, и ко всем иностранцам вообще{61}. Положение о полевом управлении войск предоставило военным властям широкие полномочия для высылки как отдельных лиц, так и весьма свободно определяемых групп, «заподозренных в шпионаже». Никаких доказательств и даже постановления военного суда для подобных депортаций не требовалось; как мы увидим, военные власти широко пользовались столь щедро предоставленными полномочиями[20]20
Уже в апреле 1914 г. Совет министров подготовил закон о государственной измене, который предполагал лишение иностранцев прав судебной защиты в случае обвинения в шпионаже. Данный закон обсуждался в Думе в июне 1914 г., но так и не был одобрен большинством до начала войны. РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 106. Л. 1-21.
[Закрыть].
Янушкевич множеством различных способов доказал свое первенство в роли главного вдохновителя целого ряда кампаний против шпионов и вражеских подданных. Несколько членов Совета министров позднее подтверждали, что Янушкевич был одержим идеей тотального изменничества, и как его действия, так и переписка подтверждают твердую уверенность начальника штаба Ставки в том, что евреи, немцы и вообще все поголовно враждебные подданные – предатели и против деятельности этих «внутренних врагов» должны быть приняты строгие предупредительные меры, включая массовые выселения{62}.
Более того, среди армейского командования Янушкевич был в своих взглядах далеко не одинок. Не менее важно, что его непосредственный начальник, Верховный главнокомандующий вел. кн. Николай Николаевич, разделял многие приоритеты своего начальника штаба и лично поддерживал командующего Петрофадским военным округом Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича, одного из самых агрессивных исполнителей кампаний против шпионов и вражеских подданных (а позже – одного из виднейших командиров большевистской Красной Армии и деятелей советского военного образования). Формально власть Бонч-Бруевича распространялась только на район Петрограда, балтийское побережье и Финляндию. На практике же великий князь неофициально наделил его особыми секретными полномочиями по руководству преследованием шпионов по всей империи и приказал быть его особо уполномоченным по вопросам арестов и высылок «подозрительных» подданных вражеских государств и российско-подданных немцев{63}.
В охоту на шпионов оказалась вовлечена не только армия. Нет оснований сомневаться в том, что шпиономания быстро охватила все общество и вызвала целый девятый вал статей в периодической печати. Периодические скандалы, раздуваемые в прессе, весьма серьезно подогревали общественное недоверие к гражданам враждебных государств. Армейские газеты, журналы и издаваемые Военным министерством брошюры содержали массу страшных выдуманных историй о предателях среди немцев, евреев, мусульман и т.д. Например, в конце декабря 1914 г. «Новое время» опубликовало статью, утверждавшую, что немецкие «колонисты», проживавшие в районе города Аккерман в южной Бессарабии, приютили и прячут в своих домах вражеский десант, состоящий из пяти турок и немцев, переодетых турками{64}. Статья подробно повествовала о том, как местные немецкие общины скрывали вражеских солдат от властей и даже устроили праздничный обед в их честь. Статья произвела сенсацию, и в качестве ответных действий МВД дало указание начать расследование. Вся история оказалась сплошным вымыслом, и месяц спустя «Новому времени» было приказано напечатать опровержение{65}. Однако уже в течение этого месяца начались массовые выселения немцев из западных и южных районов империи под влиянием подозрений и обвинений в измене – враждебной атмосферы, созданной отчасти и «аккерманской эпопеей».
В апреле 1915 г. полковник С.Н. Мясоедов был в спешном порядке осужден военным судом и казнен за шпионаж после громкого скандала в печати, подробно освещавшей все данное дело. Многие историки, заново исследовавшие все обстоятельства и материалы дела, пришли к выводу, что он был практически наверняка невиновен{66}. Тем не менее «дело Мясоедова» привело к волне арестов его коллег и других лиц, обвиненных в шпионаже. Данное дело было лишь одним из массы примеров того, как обвинения в шпионстве и измене становились основной частью текущего политического дискурса. Подобные обвинения нередко были направлены и на известных лиц, носивших немецкие фамилии. В январе 1915 г. поражения на Северном фронте вызвали распространение слухов об измене командующего 10-й армией генерала В.Ф. Сиверса и его начальника штаба Будберга, что чуть не довело их до военного суда{67}. Генерал П.К. Ренненкампф был уволен из армии после неудачи осенней кампании 1914 г. в Восточной Пруссии, а также в свете распространившихся слухов и начала официального расследования в связи с обвинениями в измене. Хотя расследование выявило полную невиновность генерала, его результаты не были опубликованы по причинам полной убежденности общественного мнения не только в виновности Ренненкампфа, но и в том, что другие члены «немецкой партии» в правящих сферах покрывают его{68}.[21]21
Секретный доклад делал вывод, что Ренненкампф всегда был одаренным и храбрым военачальником, однако ввиду многочисленных слухов о том, что он бросил свою армию и бежал, его нельзя допустить к продолжению военной службы.
[Закрыть] Слухи и рассказы об измене быстро стали основной чертой российского политического пейзажа. Представители властей и вольные публицисты предпочли превратить кампанию против шпионажа в массовую шпиономанию, воплотившуюся в преследовании целых категорий населения империи.
Приемы российской периодической печати в известной мере повлияли на взрывоопасный характер некоторых шпионских скандалов и вообще способствовали нарастанию угарно-патриотической и шовинистической волны во время войны. В течение первой недели войны власти закрыли целый ряд критически настроенных по отношению к войне органов печати (в большинстве своем – социалистических), однако субсидировали и поощряли все «патриотические» газеты и отдельные статьи, даже если они открыто провоцировали враждебность к представителям национальных меньшинств внутри империи[22]22
Яркий контраст поддержке правой экстремистской печати составляло закрытие властями около 80 социалистических периодических изданий в первые дни войны. См.: Бережной А.Ф. Русская легальная печать в годы первой мировой войны. Л., 1975. С. 25.
[Закрыть]. Это говорит о том, что цензурные органы вполне могли и перестараться. Кампании против вражеских подданных в печати были обычным явлением практически для всех воюющих стран, причем в ряде случаев с гораздо менее строгой военной цензурой. В России даже наиболее терпимые и прогрессивные массовые газеты, как, например, «Газета-копейка», издатель которой до войны ставил своей целью способствовать развитию терпимости, образования и просвещения народных масс, внезапно перешли на весьма своеобразную позицию по убеждению своих читателей в выгодах войны и необходимости мобилизации низших классов общества против врага. Основной задачей цензуры в этом вопросе стало препятствование открытому выражению взглядов немногих противников насильственных мер, применяемых к вражеским подданным[23]23
Подробный разбор способов, при помощи которых цензоры не давали еврейской и либеральной печати возможности опровергать клеветнические обвинения в шпионаже, а также защищали от критики армию в ее антисемитских акциях в течение первого года войны, см.: РГИА. Печатная записка 310: Военная цензура и еврейский вопрос, [нач. 1916 г.].
[Закрыть].

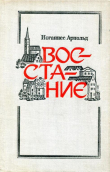




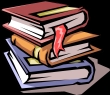
![Книга Шпионаж во время войны [сборник] автора Робер Букар](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shpionazh-vo-vremya-voyny-sbornik-212070.jpg)