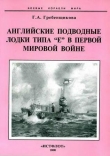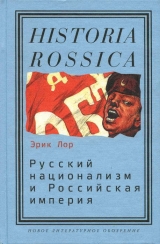
Текст книги "Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны"
Автор книги: Эрик Лор
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Положение выселенных поляков немного улучшилось после того, как 5 марта 1915 г. было принято решение разрешить их проживание в любом месте империи за пределами территорий, объявленных на военном положении. К весне 1915 г. освобождение от принудительного выселения стали получать все славяне, а не только чехи, словаки и сербы. Однако вражеские подданные польской национальности как особая категория так никогда и не получили безусловного освобождения от принудительного переселения из районов, находившихся на военном положении, или из зон безопасности, установленных вокруг ряда заводов, вдоль рек и железных дорог по всей стране. Более того, 25 октября 1916 г. императорским указом польским выселенцам и беженцам было запрещено возвращаться в родные места Привислинского края до окончания войны{569}. Временное правительство изначально выступило против этого закона, но не отменяло его до июля 1917 г. из-за сильного противодействия военных{570}.[175]175
Даже после отмены закона военные продолжали настаивать на обязательном письменном разрешении Ставки в каждом отдельном случае, что существенно замедлило возвращение высланных поляков на родину.
[Закрыть] Эта запоздалая отмена стала лишь формальным fait accompli, поскольку многие выселенцы, воспользовавшись ослаблением государственной власти, к тому времени уже давно отправились домой[176]176
Стихийное возвращение высланных началось весной 1917 г., однако по-настоящему массовым оно стало лишь летом 1918 г., когда имелись первые сообщения о тысячах выселенцев, двигавшихся вдоль железных дорог. ГАРФ. Ф. р-393. Оп. 1. Д. 66. Л. 13-14.
[Закрыть].
При выявлении выселяемых категорий населения, несмотря на его случайный характер, главным нередко считался фактор национального происхождения, а не официальное подданство. Это можно рассматривать как часть общего подъема национального чувства, произошедшего под воздействием тягот тотальной войны. Однако славянское происхождение не для всех групп населения служило достаточным основанием для успешного уклонения от выселения. Для болгар, например, подданство и внешнеполитическая позиция их родины по отношению к войне были гораздо важнее, чем национальность.
Когда возникла вероятность того, что Болгария вступит в войну против России в сентябре 1915 г., российские власти приготовились проявить снисходительность к болгарским подданным, проживавшим в империи. Начальник штаба Ставки генерал Алексеев писал своим подчиненным, что, если Болгария вступит в войну, им не следует планировать высылку болгарских подданных en masse{571}. В сентябре 1915 г. правительство предпринимало некоторые усилия, чтобы сдерживать разраставшиеся в обществе антиболгарские настроения, настоятельно советуя российским промышленникам перестать увольнять болгарских подданных со своих предприятий в Одессе и по всей южной России{572}. Когда 5 октября 1915 г. Болгария наконец вступила в войну на стороне Центральных держав, болгар добавили к списку тех, кого следовало высылать из прифронтовых районов, запретных зон и полос, но лица христианского вероисповедания при этом освобождались от выселения. Поскольку почти все болгарские подданные были православными христианами, это означало, что де-факто освобождались практически все болгары.
Однако вскоре были получены известия, что в Болгарии дурно обращаются с российскими подданными, а в отчетах военной контрразведки утверждалось, что болгары особенно опасны как потенциальные шпионы ввиду близости болгарского и русского языков и культур. В результате Совет министров разработал новое законоположение, аннулировавшее все прежние льготы и исключения для болгарских подданных. Закон требовал депортации всех болгарских подданных с территорий, находившихся на военном положении, из районов расположения оборонных предприятий и других запретных зон по всей империи без каких бы то ни было исключений{573}.[177]177
Также были изданы приказы о высылке всех болгарских подданных из Москвы и Петрограда. См.: Речь. 1916. 23 июля; Русские ведомости. 1916. 29 авг.
[Закрыть] Таким образом, менее чем за год болгары, проживавшие в Российской империи, превратились из привилегированных друзей во вражеских подданных.
В ходе применения насильственного переселения и других практик военного времени значение национального фактора выросло как на макроуровне, так и в тысячах отдельных случаев. Одной из причин, по которым царский режим предпочел рассматривать национальное происхождение как более основательный признак, чем официальное подданство, была слабость института подданства в российской имперской традиции. После целого века великой интернационализации Европы в условиях долгого мира Первая мировая война заставила все страны резко перейти к введению паспортов, виз, пограничного контроля и надзора за иностранцами{574}. Россия не стала и не могла стать исключением{575}.[178]178
Помимо других изменений, данный закон впервые предусматривал обязательное наличие фотографии в заграничном паспорте. АВПРИ. Ф. 157. Оп. 455а. Д. 21а. Л. 1—325 (Жалобы и переписка частных лиц, въезжающих и выезжающих из пределов империи, 1915 г.).
[Закрыть] Но, налагая санкции на российских подданных немецкого и еврейского происхождения и освобождая от них вражеских подданных славянского происхождения, царский режим демонстрировал, что подданство не стало основным решающим фактором, определяющим членов единого национального общества и внутренних врагов. Здесь можно выявить несколько основополагающих проблем. Царь и его приближенные настаивали на сохранении понятия личной преданности царю и Богу в тексте законов о натурализации как ключевом факторе для получения российского подданства. Либералы, напротив, выступали за гражданство европейского типа и такую натурализацию, когда индивид присягал бы на верность государству, нации и конституции, а не лично царю. Эти противоречия не были преодолены даже во время войны, когда согласие по важнейшему вопросу о патриотизме было столь необходимо. В результате в России так и не было принято законов о подданстве и натурализации вплоть до Февральской революции{576}. К июлю 1915 г. Россия фактически была единственной воюющей страной, которая запретила всякую натурализацию на время войны{577}. Отчасти по той причине, что подданство так и не стало тем общепринятым критерием, по которому можно было отличать своих от чужих, царский режим полагался прежде всего на национальную принадлежность.
Выбор немцев, евреев и иностранцев в качестве первоочередных объектов для массовых депортаций изменил традиционные принципы национальной политики по нескольким направлениям. Во-первых, в одночасье изменилось восприятие и осознанная классификация друзей и врагов внутри империи. Старый польский враг вдруг стал союзником, в то время как ранее привилегированные этнические немцы стали чуть ли не главными врагами[179]179
В марте 1915 г. Комитет польских протестантов подчеркивал, что российское правительство в конце XIX в. противодействовало полонизации этнических немцев-протестантов и оказывало давление на последних с целью сохранения ими германской культуры, поскольку считало их более лояльными, чем поляков. Во время войны именно немцы неожиданно были высланы, а поляки оставлены вне подозрений. РГВИА. Ф. 2005. Оп. 1. Д. 29. Л. 60—65 (Отчет вел. кн. Николаю Николаевичу о высылке евангелистов из Варшавской губернии, 17 марта 1915 г.).
[Закрыть]. Латыши, литовцы и эстонцы, с 1905 г. считавшиеся опасными революционерами[180]180
Генерал П.Г. Курлов в начале войны формулировал этот вскоре устаревший взгляд в виде фразы: «Латыши – все поголовно революционеры». Летом 1915 г. он был уволен в отставку после продолжительной критики в Думе и периодической печати его «прогерманской» политики на всех занимаемых им постах. ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 676. Л. 9 об.
[Закрыть], стали соратниками государственной власти в борьбе против прибалтийских немцев, с помощью которых имперский режим в течение двух столетий управлял этим краем. Столь внезапные изменения показывают, насколько важен фактор войны и вообще монопольное право государства произвольно определять своих внутренних врагов и менять собственные установки. В этом контексте было бы неверно рассматривать репрессии военного времени против немецкой и еврейской диаспор как естественный результат назревавшего в течение долгого времени конфликта последних с имперским центром{578}. Выбор внутренних врагов, пожалуй, за исключением евреев, ни в коем случае не был предопределен довоенными схемами. Пример болгар в центральной России и мусульман Карсской и Батумской областей показывает, как государство могло и на деле переводило по своему усмотрению целые группы населения из категории друзей в категорию врагов. Этот момент важен при рассмотрении вопросов последовательности применения политики «внутренних врагов» в период всеобщего противостояния 1917 г. Как и царский режим, большевики были вполне способны формировать собственные категории внутренних врагов и неожиданно менять одних на других декретом сверху.
Выбор первоочередных «жертв» тем не менее не был произвольным и объяснялся не только соображениями обеспечения безопасности в военное время. Диаспоры вражеских и враждебных подданных (как, например, еврейская) в целом были более успешными в торговле, специализированной прогрессиональной деятельности или сельском хозяйстве, чем русские и представители других национальностей империи, давая тем самым повод русским националистам, считавшимся представителями титульной нации, изображать из себя несправедливо ущемленных и обездоленных. Таким образом, существовали серьезные социально-экономические основания и определенная логика в развитии шовинистических кампаний военного времени, уходивших корнями в программы по защите и поддержке «русских» и «России» в противовес враждебным инородцам, занимавшим вожделенные «важные» статусные позиции в экономике и обществе.
Этот процесс распространился и на территории, занимаемые самими национальными общинами. Почти во всех районах массового насильственного переселения русские составляли меньшинство, как, впрочем, и группы высылаемых. И в каждом из этих районов враждебные подданные стояли на пути у представителей других национальностей, желающих воспользоваться неожиданно открывшейся возможностью вертикальной социальной мобильности. Например, многие литовцы, латыши и эстонцы могли найти взаимопонимание с русскими националистами в попытке устранить немцев и евреев, которые представляли доминирующие в социально-экономическом плане диаспоры, стоявшие на пути национализации коренных прибалтийских национальных общин. В Польше такие взгляды были весьма развиты, и конкуренция между поляками, евреями, немцами и иностранцами до войны была серьезной. Быстрорастущий польский средний класс вступил в еще более острый конфликт и открытую конкуренцию с евреями, немцами и иностранцами в городах, что привело к обострению антисемитских настроений в Польше в 1913 г.{579} Один из польских национальных лидеров откровенно заявлял, что высылка немцев полностью оправданна, поскольку они не смогли или не захотели ассимилироваться с польской культурой{580}.
Это скрытое взаимодействие между программами русских националистов и окраинных народов заставило многих российских лидеров призадуматься. Например, когда один известный польский общественный деятель в письме к Янушкевичу просил освободить некоего враждебного подданного от высылки на основании того, что он является одним из лучших выразителей «польской национальной идеи», Янушкевич пометил на полях: «Но не русской же?»{581},[181]181
Как ни странно, Янушкевич и сам имел польские корни.
[Закрыть] Главы губерний Польши и Волыни докладывали, что поляки продолжали оставаться там для местного населения подлинными и традиционными внутренними врагами; высылка немцев и других иностранцев будет им только на руку и в долгосрочной перспективе возымеет пагубные последствия. Губернаторы прибалтийских губерний указывали, что Россия на протяжении долгого времени проводила политику нейтралитета в межнациональных спорах, выступая как беспристрастный имперский судья, стоящий над схваткой{582}. Массовые переселения и другие репрессии по отношению к одной группе населения с выгодой для другой, как указывали губернаторы Курляндской и Лифляндской губерний в начале 1915 г., могли лишь усилить напряженность межнациональных отношений, привести к общественным беспорядкам и разрушить устоявшиеся основы российского имперского правления. В какой-то степени насильственное переселение и другие мероприятия против враждебных подданных странным образом оказались направлены как раз против того типа личности, который больше других подходил для сохранения имперской системы{583}.
Очищение территорий вдоль западных и южных границ империи от враждебных инородческих диаспор привело к совершенно непредвиденным последствиям: прибалтийские губернии стали более «латышскими и эстонскими», Польша – более «польской», Украина – более «украинской», Грузия – более «грузинской» и т.д. Массовые выселения также повлекли за собой новые проблемы и рост напряженности в Центральной России, связанные с наплывом чужаков, для которых репрессии стали импульсом к обновленному самосознанию обособленных национальных меньшинств.
В результате царский режим и армия буквально прокладывали путь для формирования и самоутверждения национальных групп на определенных территориях, в том числе и для русских. Массовые выселения вначале применялись как временная мера, используемая в интересах безопасности государства, однако вскоре они стали частью националистической программы, включавшей передачу земель, имущества и социального статуса депортируемых лиц представителям коренной или привилегированных национальностей. А это была уже программа радикальной национализации империи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выбор старого режима в пользу масштабной шовинистической кампании против вражеских подданных может отчасти рассматриваться как попытка получить массовую народную поддержку с целью превратить имперское государство в более «национальное» и максимально успешно мобилизовать все силы для продолжения войны до полной победы. Эта попытка безнадежно провалилась по целому ряду причин. Прежде всего, хотя кампания велась достаточно радикально и по духу, и по букве, она не могла удовлетворить многих ее активных сторонников по причинам довольно мягкого отношения к прибалтийским немцам и ряда льгот, неожиданно предоставленных представителям придворной и бюрократической элиты, многие из которых носили немецкие и другие иностранные фамилии. Лидеры крайних правых организаций заполняли страницы периодических изданий критическими антиправительственными материалами с прозрачными намеками на то, что придворная клика изменников покрывает прибалтийских немцев. Ведущие представители генералитета, такие как Н.В. Рузский, М.Д. Бонч-Бруевич и А.А. Брусилов, в один голос выражали свое горькое разочарование в нежелании правительства и Ставки Верховного главнокомандующего развернуть предельно жесткую кампанию против прибалтийских немцев{584}. Более умеренные сторонники репрессивных мер также были разочарованы. Одним из самых известных среди них был член фракции прогрессистов IV Думы князь С.П. Мансырев, избранный депутатом от города Риги. В июне 1916 г. он эффектно отказался от поста председателя думской комиссии по борьбе с немецким засильем, обвиняя правительство в сосредоточении усилий на конфискации движимого и недвижимого имущества мелких немецких землевладельцев, тогда как огромные родовые поместья и социальный статус прибалтийских немцев в большинстве случаев оставались в неприкосновенности{585}.
Читая в периодической печати того времени обвинения начальствующих лиц в фаворитизме по отношению к прибалтийским немцам, легко поверить в то, что война вообще никак не затронула последних. Однако это весьма далеко от действительности. В августе 1916 г. царь подписал исторический указ об отмене всех традиционных привилегий прибалтийских немцев как в городах, так и в деревне, по сути уничтожив различия в законодательстве Прибалтийского края и остальной империи{586}. Чистки имперской администрации края удалили губернаторов и чиновников немецкого происхождения из рядов местной бюрократии, и центральная власть постаралась заменить их представителями других национальностей – русскими, эстонцами, латышами и литовцами{587}. Тем не менее элита прибалтийских немцев смогла избежать жестких мер, уготованных для других категорий вражеских и враждебных подданных, и действительно, официальные репрессивные мероприятия против нее оказались слишком запоздалыми и мягкими, чтобы удовлетворить агрессивных сторонников подобных мер.
Если режим колебался при окончательном одобрении масштабной кампании против немецкой элиты Прибалтийского края, то тем более неохотно он шел на вычищение лиц немецкого происхождения из придворных кругов, высшей бюрократии и армейского командования. Не только более 15% офицерского корпуса носили немецкие фамилии, но и все ведущие отрасли управления, бюрократическая и экономическая элита были заполнены лицами нерусского, в частности немецкого происхождения. Например, около 30% членов Государственного Совета и более половины чинов императорского двора были носителями изначально немецких фамилий{588}. Представители имперской элиты не могли не чувствовать нарастающее давление. Обер-прокурор Святейшего Синода В.К. Саблер в мае 1915 г. официально сменил фамилию на Десятовский и стал одним из десятков чиновников, «русифицировавших» свои фамилии во время войны{589}. Иногда бюрократы разыгрывали карту «немецкого предательства» в борьбе со своими соперниками по службе, совсем так же, как это делали некоторые предприниматели в борьбе с конкурентами{590}. Однако хотя кампания против вражеских подданных привела к удалению из «образованного общества» некоторых из наиболее заметных «немцев», большинство сохранило свои посты и постепенно становилось центральным элементом все нарастающего всеобщего недовольства.
К началу 1917 г. жандармские отчеты отмечали широкое распространение среди всех слоев населения слухов о том, что измена пышным цветом расцвела среди имперской элиты. Многие из этих слухов вращались вокруг якобы «немки» императрицы Александры, министра императорского двора барона В.Б. Фредерикса и председателя Совета министров Б.В. Штюрмера{591}. В деревне разрушительное действие производила легенда о страшной бойне, утверждавшая, что немецкая клика в среде аристократии намеренно посылает как можно больше солдат-крестьян на убой, чтобы после войны некому было требовать земель у помещиков{592}. Солдатские письма, перехваченные цензурой, часто содержали сетования на то, что Россию продали генералы-немцы и их подельники из придворной «немецкой партии», а мемуары офицеров – обладателей немецких фамилий нередко содержат воспоминания о сильнейшей подозрительности в их адрес со стороны нижних чинов и общества в целом. Во многих армейских частях именно это стало основным элементом в разрушении доверия между солдатами и офицерами{593}. Уличные выступления Февральской революции включали значительные по масштабам насилия против немцев и других лиц, обвиненных толпой в измене{594}. Риторика шовинистической кампании таким образом повернулась в итоге против самой имперской элиты.
Однако общественное брожение нельзя объяснить просто ксенофобией или шпиономанией. Многие из повернувшихся против старого режима представителей самых различных политических партий и объединений делали это во имя патриотизма. Правые горько сетовали на нежелание правительства более системно и решительно бороться с вражескими подданными внутри страны, поскольку считали бюрократию неспособной принять истинно русские национальные идеи{595}. Шовинистическая кампания, воспринимавшаяся в начале войны как путь единения правительства с народом в совместном излиянии патриотического негодования против внутренних и внешних врагов, стала яблоком раздора между правительством и его самопровозглашенными крайне патриотичными сторонниками.
Данная ситуация также способствовала переходу либералов и более умеренных политиков от патриотической поддержки правительства к патриотической оппозиции. Наиболее ярким примером значимости этого процесса может служить лидер либеральной оппозиции П.Н. Милюков. К концу 1916 г. широко распространились всевозможные слухи о Распутине, Штюрмере, императрице Александре Федоровне и «немецкой партии» при дворе и в высших правительственных сферах, прежде всего намекающие на их планы по заключению сепаратного мира{596}. 1 ноября 1916 г. в своей драматической речи в Государственной Думе Милюков отдал должное этим слухам, открыто обвинив правительство в измене. Эта речь произвела сенсацию. Цензура запретила ее публикацию, но рукописные копии широко разошлись по всей стране, не говоря уже об устных пересказах, естественно, далеко превосходивших оригинал в сенсационности{597}. Милюков сознательно стремился при помощи своей речи подорвать жизнеспособность тогдашнего правительства и неожиданно впечатляюще преуспел в этом, готовя почву для Февральской революции, одним из важнейших первоначальных мотивов которой был праведный гнев по поводу мнимой измены правительства{598}.
В широком смысле большинство либералов видели в гражданстве основной способ отличия воюющих наций друг от друга. Поэтому они безоговорочно поддерживали все меры, направленные против вражеских подданных. Однако эта поддержка предоставлялась исключительно на том условии, что правительство даст возможность сформироваться настоящей «гражданской нации», основанной на равных правах для всех российских подданных. После того как режим недвусмысленно показал, что именно последнего он и не желает делать, а вместо этого подверг репрессиям собственных подданных немецкой, еврейской и других «подозрительных» национальностей, либералы в полной мере осознали, что правительство намеренно препятствует успешной патриотической мобилизации в соответствии с тактикой «воюющей нации»[182]182
Одним из основных вопросов, обсуждавшихся на закрытой партийной конференции кадетской партии, проходившей в 1915 г., было насильственное выселение военными евреев и представителей других национальных меньшинств, и именно это вскоре заставило партию вернуться к активной оппозиционной деятельности. См.: РГИА. Печатная записка 310; Из черной книги российского еврейства. С. 197—227 [Съезды и конференции конституционно-демократической партии: В 3 т. М., 2000. Т. 3. Кн. 1:1915—1917 гг. С. 52-93. – Прим. пер.].
[Закрыть]. Умеренные октябристы и даже часть националистов резко критиковали правительство за высылку и конфискацию имущества тех российских подданных, чьи родственники находились в действующей армии. Широкая коалиция фракций и отдельных депутатов Думы в середине 1915 г. сформировала Прогрессивный блок, который стал центром единой оппозиции, согласившейся, что старый режим должен быть уничтожен с целью создания действительно единого сообщества граждан и патриотического подъема для победы над внешним врагом. Когда либералы пришли к власти в 1917 г., среди первых постановлений Временного правительства была приостановка действия практически всех ограничительных и репрессивных указов и узаконений, касавшихся российских подданных{599}.
Таким образом, попытка обрести общественную поддержку путем поощрения националистической кампании едва ли стала успешной. Весьма показательно, что эта кампания возымела неожиданные последствия в виде радикализации и мобилизации пострадавших от репрессий групп населения, чему способствовало чувство ущемленной национальной гордости, сознание единства и национальной идентичности. Насильственные переселения и тяготы военных лет способствовали мобилизации немцев, евреев и представителей других национальностей для оказания всесторонней помощи своим соплеменникам, оказавшимся в худшем положении, что создало условия для осознания и возникновения тесной сплоченности национальных общин. Этот процесс проходил особенно драматично среди немцев. До войны они были наименее радикализованным национальным меньшинством империи, и все эти купцы, мещане, дворяне, чиновники и фермеры в составе весьма отличных друг от друга немецких общин сравнительно слабо осознавали собственную национальную идентичность. Однако многие из них неожиданно оказались лишенными всех гражданских прав, выселенными из своих домов и почти нищими, и это быстро сблизило разрозненные группы ради формирования гораздо более сплоченного и сознательного немецкого меньшинства. Радикальные меры правительства подтолкнули значительную часть этого меньшинства (ранее ведомого консервативными и умеренными элементами) к решению о присоединении к революционным партиям{600}. Еврейское меньшинство претерпело сходную трансформацию{601}.
Подобная динамика очевидно просматривается даже для общин привилегированных национальных меньшинств. Чехи, поляки, словаки и др., столкнувшись с выселениями или конфискацией имущества в качестве вражеских подданных, могли рассчитывать на постепенно выработанный набор критериев, исключавших их из сферы действия репрессивных законов. Депортационные и конфискационные меры были лишь частью общего плана по классификации и категоризации индивидов согласно их национальности, статусу иммигранта или гражданству с целью определить, считать ли те или иные категории населения полноправными членами воюющего сообщества или внутренними врагами. Проходя через эти процессы, национальность и этничность в некотором смысле получали официальный статус в качестве незапланированного результата военных практик идентификации.
Приписыванием идентичностей во время войны занималось не только государство, но и сами инородческие общины, и отдельные личности также не менее активно участвовали в этом динамическом процессе. Национальные комитеты взаимопомощи распределяли продовольствие и помощь или отказывали в них, основываясь на национальной принадлежности отдельных лиц. Именно в этом плане меньшинства становились все более сплоченными вокруг общей цели помощи своим соплеменникам и стремления добиться максимума ресурсов и льгот у центра{602}.
По этим и другим причинам опыт участия в Первой мировой войне означал резкий перелом в истории народов в составе Российской империи. Если в предвоенные десятилетия даже самые агрессивные культурно-русификационные практики прежде всего стремились обратить национальные меньшинства в православную веру и ассимилировать их с русской культурой, то война принесла с собой качественные изменения. Административные практики, исследуемые в данной работе, не имеют ничего общего с ассимиляцией или обрусением. Фактически натурализация иностранцев была отброшена как вредоносная, а медлительность различных комиссий и комитетов, рассматривавших жалобы о льготах и исключениях, показывает, что признаки и степень ассимиляции имели малое значение по сравнению с национальной принадлежностью или периодом натурализации иммигрантов. Целью ограничительных и репрессивных мер было не ассимилировать отдельных лиц, но национализировать столь крупные «абстракции», как экономика, земля или население.
В значительной степени все это было частью общего военного расширения функций государства в его стремлении контролировать и напрямую управлять населением и экономикой, т.е. процесса, отмеченного в историографии войны для всех воюющих стран и широко признаваемого важнейшим прецедентом для всесторонних притязаний будущего Советского государства{603}. Кампания против враждебных меньшинств способствовала укреплению мононационального государства посредством расширения бюрократического контроля над населением, ужесточения полицейского и государственного надзора за иностранцами и иммигрантами, создания целого штата инспекторов, управляющих и ликвидаторов для наблюдения и контроля над акционерными предприятиями и сделками, а также привела к масштабной передаче частных фирм и имуществ государственным учреждениям. Это наглядно демонстрирует, как старый режим сам ввел в практику эти и другие государственные меры, в конечном итоге ставшие основными уже в большевистском революционном наборе методов управления: от национализации частной собственности до выявления, чисток или уничтожения враждебных категорий населения.
Все же перед нами не простой пример сильного интервенционистского государства, активно воздействующего на собственное население. Отчасти правительство и армия применяли столь жесткие и чрезвычайные инструменты, как массовая высылка и конфискация, потому что государственная власть была довольно хрупкой и ограниченной в своих возможностях. Это было особенно верно для многонациональных западных пограничных областей империи, где армия часто действовала как оккупационные силы на вражеской территории. Как показали московские погромы, способность властей сохранять общественный порядок была сомнительной даже во второй столице империи – в русском сердце страны. Правители России и лидеры шовинистической кампании против вражеских подданных часто исходили в своих действиях из осознания собственной слабости. Проявления этого можно увидеть в параноидальных склонностях российских военных чинов, которые видели серьезную угрозу безопасности империи в изолированных немецких сельскохозяйственных общинах и серьезно преувеличивали подрывной потенциал евреев. Это было так же очевидно в основном лозунге националистической кампании, которая изображала происходящее как борьбу против засилья немцев и иностранцев, якобы систематически подавлявших русских в экономической деятельности и обществе в целом.
Это базовое подсознательное ощущение слабости – ключ к пониманию роли российского национализма во время войны. Большинство национальных движений во многом опирается на факт или видимость того, что государство сохраняет социально-экономический порядок, систематически ущемляющий коренную национальную группу. Кампания против враждебных меньшинств показывает, что российские националисты были способны ощутить себя как раз в такой ущемленной ситуации и поэтому разработали радикальную национально-освободительную программу, бросавшую вызов легитимности имперских элит, космополитичной и многонациональной имперской экономике и даже непосредственно имперской государственной структуре. Эта кампания с ее освободительным экономико-националистическим содержанием представляла собой, возможно, самую динамичную и внятную демонстрацию активности российского национализма в позднеимперский период, и это предполагает, что к российскому национализму стоит отнестись как к более серьезной силе на финальном этапе существования старого режима.
В этом отношении Османская империя представляется самым близким к российскому варианту государством для сравнительного анализа[183]183
Одна из причин состоит в том, что прежние исследования русского национализма старались подчеркнуть скорее то, чего не было, чем реально происходившие процессы. При этом явные или скрытые сравнения всегда проводились исключительно с западноевропейскими мононациональными государствами, но не с континентальными империями.
[Закрыть]. В обоих случаях имперский режим (время от времени неохотно реагировавший на общественное давление) избирал радикальную экономическую националистическую мобилизацию против иностранных и успевших ассимилироваться коммерческих диаспор. В обоих случаях столь активно проводимая мобилизация подрывала общественный порядок, обостряла межнациональные конфликты и способствовала падению старых режимов{604}.
Практически в каждом аспекте реализации националистической кампании власти стремились передать отчужденное имущество или коммерческие предприятия прежде всего русским владельцам. Но нередко это вело к непредсказуемым последствиям. Фактически общественная мобилизация против широко разбросанных по империи вражеских меньшинств усиливала не общеимперский, а территориальный национализм. Нацеливаясь прежде всего на представителей немецкой, ряда иностранных и еврейской диаспор, более всего активных в окраинных пограничных областях империи, царский режим поощрял другие местные национальные меньшинства за счет их высылаемых соседей, что формировало своеобразную тенденцию в национализации данных районов. Это было так же верно для новых государств Восточной Европы, где национализация и аграрная реформа проходили легче, если местные элиты не принадлежали к «титульной» нации[184]184
Джозеф Ротшильд утверждает, что процессы национализации Восточной Европы после Первой мировой войны были серьезно облегчены именно там, где «имущество иностранных землевладельцев и предпринимателей было экспроприировано в пользу крестьян и чиновников коренной национальности». Rothschild J. East Central Europe between the Two World Wars. Seattle, 1974. P. 12.
[Закрыть]. То же можно констатировать и щя Советского Союза, который оказывал существенную поддержку местным национальностям, но во времена международной напряженности 1930-х гг. и особенно во время Второй мировой войны сменил тактику на репрессивную в отношении многих из тех национальных групп, которые уже подвергались давлению в период Первой мировой войны{605}. Во всех этих случаях национализирующие выступления и устремления соединялись в горючую смесь с международной напряженностью и нестабильной обстановкой военного времени, что способствовало применению радикальных государственных мер. Взрыв российского экономического национализма во время войны не остался без последствий при большевиках. Первая мировая война много поспособствовала слому довоенных мировых финансово-хозяйственных связей и весьма значительно повлияла на переход многих стран к большей экономической автаркии и самоизоляции. В случае СССР этот переход был самым определенным и примечательным. С отказом от идеала мировой революции и поворотом к «социализму в отдельно взятой стране» в качестве идеологии промышленного развития советский режим избрал чрезвычайную форму экономической автаркии, ликвидировал последние иностранные предприятия, работавшие на советской территории, произвел чистки иностранцев, технического персонала, управляющих и инженеров, обвинив их в шпионаже, и вообще начал практически военную мобилизацию местных сил с целью ускоренной индустриализации{606}. С тех пор утверждалось, что марксизм-ленинизм завершил диалектическую трансформацию марксизма от идеологии, провозгласившей международный пролетариат основной движущей силой исторического процесса, к новой идеологии, прежде всего стремящейся к освобождению и развитию сравнительно отсталых наций, т.е. фактически «марксизм-ленинизм стал одним из вариантов национализма»{607}. Вовсе не является аномальным то, что коммунизм XX столетия имел наибольший эффект не в промышленно развитых, а скорее в отстающих странах, выступая в качестве идеологии антиимпериалистического национального освобождения, т.е. программы мобилизации развивающихся стран против натиска международного капитала и транснациональных корпораций и модели изоляционистского развития экономики. Корни этой фундаментальной черты советской системы гораздо легче обнаружить в российском славянофильстве и народнических традициях с их постоянной оппозицией экономически развитому капиталистическому Западу, чем в классическом марксизме{608}. Если советская система гораздо в большей степени, чем принято считать в историографии, обязана экономическому национализму, то появление этого вида национализма во время Первой мировой войны становится важнейшим формообразующим эпизодом, демонстрирующим всю его разрушительность. В любом случае теперь, когда Советский Союз уже стал историей, а современная Россия изо всех сил пытается снова интегрироваться в международную экономику, становится еще более очевидным, что один из переломных моментов XX столетия наступил именно тогда, когда эти связи были оборваны.

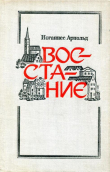




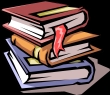
![Книга Шпионаж во время войны [сборник] автора Робер Букар](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shpionazh-vo-vremya-voyny-sbornik-212070.jpg)