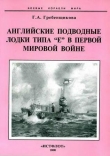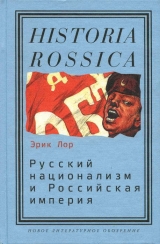
Текст книги "Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны"
Автор книги: Эрик Лор
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
Либеральные и националистические программы и организации
В то время как армия и периодическая печать старались достойно ответить на призыв правительства к бдительности по отношению к враждебным национальным меньшинствам, политические партии и общественные организации также формировали серьезные националистические программы, причем в самых различных вариантах. Одна из наиболее важных проблем была сформулирована либералами и рядом представителей умеренных кругов, рассматривавших «прекращение внутренних распрей» и объединение всех народов России против общего врага в рамках собственной системы политических взглядов. Для лидера конституционно-демократической партии (кадетов) П.Н. Милюкова русская нация определялась не этническими или конфессиональными признаками, а гражданством{69}. Для него и большинства либералов консолидация и уравнение как в обязанностях (военная служба), так и в правах всех граждан были центральной идеей воюющей нации. Многое в политических устремлениях либералов может рассматриваться как часть усилий по созданию современного сообщества граждан, и многие либералы стремились к тем же целям, что и якобинцы в период Французской революции, определявшие свою цель так: «Гарантировать равенство граждан и объединить всю нацию в восторженной преданности республике»{70}. Естественно, основная проблема здесь заключалась в том, что Россия была не республикой, а квазиконституционной монархией. Российскую империю пока никак нельзя было назвать страной, населенной в полном смысле гражданами, осознающими свое гражданство, потому что перед лицом закона индивидуумы по-прежнему более зависели от своей сословной и конфессиональной принадлежности. Однако в начале войны многие либералы надеялись, что царь и правительство предоставят больше прав и простора для вовлечения всего общества в то, что довольно быстро стало именоваться «народной войной». Действительно, согласно концепции либералов, народная война требовала если не провозглашения республики, то по крайней мере укрепления осознания гражданства – другими словами, расширения круга прав, наряду с обязанностями. С этой точки зрения в мировом масштабе война выглядела как противоборство общностей граждан (или, в случае с Россией, формирующегося общества).
Это объясняет, почему либералы далеко не всегда выступали против мер, направленных против граждан вражеских государств. На самом деле идея освобождения России от германского торгового и финансового капитала была популярна среди многих кадетов. Пока подобные меры не затрагивали российских подданных, они могли считаться частью «здорового русского национализма», активно взыскуемого видными либеральными мыслителями в течение войны{71}. Более того, многие кадеты во время войны поддерживали меры по отмене «привилегий» прибалтийских немцев, поскольку в этом можно было усмотреть шаги по направлению к установлению равенства прав и обязанностей, присущего универсальному гражданству{72}.
Июль 1914 г. стал знаковым для либералов: идеализированный момент возможного создания гражданского и национального единства, укрепление универсальной гражданственности, создание «воюющей нации»… Таким образом, поддержка либералами правительства, военных усилий и даже мер против вражеских подданных может рассматриваться как предложенная на условиях «национализации» империи – в смысле консолидации государства, основанного на гражданском национализме и ограниченного гражданственностью.
Правые партии
Если либералы призывали к национализации государства по образцу национальной гражданственности Французской революции, то члены фракции правых Государственной Думы и крайне правых организаций стремились к совершенно другой «национализации». Правая агитация против евреев, поляков, немцев, вообще иностранцев и других «инородцев» имела солидную довоенную историю. Война, естественно, привела к усилению этой риторики; она также трансформировала структурные взаимоотношения как своих, так и иностранных врагов и союзников в представлении правых.
Например, в предвоенные годы среди правых политиков не было полного согласия в том, стоит ли включать немцев в список подозрительных национальных меньшинств. Многие из них разделяли то мнение, что немецкие колонисты являются опорой самодержавия в деревне, что прибалтийские немцы более лояльны и достойны доверия, чем представители меньших этнических групп – эстонцы, латыши и литовцы, а союз с Германией более соответствует консервативно-монархическим принципам Российской империи, чем союз с республиканской Францией и демократизированной Великобританией[24]24
Один из лидеров Союза русского народа В.М. Пуришкевич даже сотрудничал с немецкими колонистами во время предвыборной кампании в IV Думу в Бессарабии. См.: Schmidt С. Russische Presse und Deutsches Reich 1905-1914. Cologne; Vienna, 1988.
[Закрыть]. Подобная консервативная ориентация во внешней политике часто открыто называлась «прогерманской»{73}. Рост напряженности в отношениях с Германией и Австрией вынудил многих правых политиков перейти на позиции открытой враждебности к российским немцам. Однако германофильская ориентация по-прежнему имела влиятельных сторонников даже накануне войны. Характерно, что именно бывший министр внутренних дел П.Н. Дурново в феврале 1914 г. направил царю пророческую записку, в которой утверждал, что война с Германией приведет к серьезному общественному недовольству и падению режима. Он настаивал, что многие немцы верно служат царю и, в отличие от других иностранных инвесторов, постоянно живут в России, становясь вместе со своими предприятиями частью народного хозяйства, а враждебное отношение к ним лишь подрывает государственную власть{74}.
Однако как только началась война, подобные речи никто более не желал слушать. Война вызвала буквально взрыв энергии правых, а также целый шквал обращений к царю, исходивший от вновь созданных в первую неделю войны отделений различных правых организаций{75}. Многие из них призывали самодержца и весь народ к решительной борьбе против всех внутренних врагов. Если либералы надеялись достичь единства путем создания универсальной гражданственности, то многие правые выражали противоположный взгляд. Их идеалом стала сравнительно небольшая народная общность, сплотившаяся вокруг русского национального ядра и объединяющая всех ей сочувствующих в общей борьбе как с внешними, так и с внутренними врагами{76}. Основными внутренними врагами перед войной считались поляки и евреи, поэтому с ее началом и немцы в правых декларациях и агитации в печати закономерно и оперативно были зачислены во вражеский лагерь и стали предметом особого внимания[25]25
Тема борьбы с немецким засильем была центральной в попытках правых объединить свои столь разрозненные организации в течение войны. См.: ГАРФ.Ф. 116. Оп. 1.Д. 38. Л. 28-31.
[Закрыть]. Для крайне правых организаций, таких как Союз русского народа и его печатный орган «Русское знамя», традиционная антисемитская и полонофобская риторика была просто и цинично перенацелена на новую, германофобскую тему. Часто немцы и евреи числились партнерами в тайных сговорах с целью саботажа, финансового господства и шпионажа. Вскоре после начала войны «Русское знамя» стало раздувать вопрос о том, что главные враги России – внутренние, и прежде всего это «жиды», немцы, поляки и иностранное засилье, что во многом совпадало в подобном контексте с отрицанием в широком смысле агентов модернизации, коммерциализации, посредничества и т.п.{77} Весьма распространенной темой, которую столь любил развивать в своих речах лидер думской фракции правых А.Н. Хвостов, были тайные заговоры и засилье международной олигархии в банковском деле, финансах и международной торговле, возглавляемой евреями и вообще иностранцами. Когда в сентябре 1915 г. он был назначен министром внутренних дел, подобные идеи стали основанием и для государственной политики[26]26
После своего назначения Хвостов сразу провозгласил борьбу против немецкого засилья и инфляции в качестве двух из трех главнейших проблем, угрожающих существованию России и русским как нации. РГИА. Ф. 1483. Оп. 1. Д. 29. Л. 12 об. – 15; Суворин М. Из недавнего прошлого: Беседа с министром внутренних дел А.Н. Хвостовым // Былое. 1917. № 1. С. 62; Семенников В.П. Романовы и германские влияния во время Первой мировой войны. М., 1929. С. 80—94; Lincoln W.B. A Passage Through Armageddon: The Russians in War and Revolution. New York; Oxford, 1994. P. 206—207.0 теориях заговора банкиров и евреев см.: Aronsfeld СС Jewish Bankers and the Tsar // Jewish Social Studies. 1973. Vol. 35. P. 87—104.
Подобные теории далеко не во всем противоречили идеям крайних левых во время войны. Значимость данной проблемы была подтверждена решением Ленина именно в 1916 г. опубликовать свою основную работу по империализму, в которой он разоблачал эксплуататорскую сущность международного финансового капитала и монополий практически в тех же выражениях, что и Хвостов, за вычетом антисемитизма. См.: Lenin V.I. Imperialism: The Highest Stage of Capitalism. New York, 1985. С 64 [Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма: (Популярный очерк) // Ленин В.И. Избранные произведения: В 3 т. М.: Политиздат, 1971. Т. 1. С. 638—742. – Прим. пер.].
[Закрыть]. Лидер одной из наиболее крайних правых групп А.И. Дубровин выразил свои взгляды в записке, направленной царю в мае 1915 г., где он утверждал, что основной внутриполитической проблемой России стало «немецкое засилье». В качестве мер борьбы с этим злом он предлагал царю выслать 9/10 прибалтийских немцев, а заодно и евреев, в Якутию, запретить лицам немецкого происхождения (независимо от гражданства) занимать какие бы то ни было посты на государственной службе, конфисковать земельные владения немецких «колонистов» и прибалтийских немцев и оставить в силе все ограничения для евреев{78}. Крайне правый Русский монархический союз формулировал концепцию своей роли в войне довольно лаконично: мол, «коренники» (коренные русские) должны объединиться вокруг царя и православной церкви и в неустанной борьбе с внутренними врагами{79}. Наиболее поразительно не то, что подобные мнения существовали, а то, что режим, в полном противоречии с декларативно поддерживаемой темой патриотического единения всего населения в общей борьбе, не только позволял вести в печати злобно-клеветническую агитацию против национальных меньшинств, но даже поддерживал и субсидировал подобные шовинистические группы и их печатные органы{80}.
Всероссийский национальный союз
Партия русских националистов была более серьезной и массовой организацией, чем Союз русского народа или фракция правых Государственной Думы, и пользовалась до определенной степени более широкой и активной поддержкой населения. Она сосредоточила свои усилия на более конкретном предмете – кампании против вражеских подданных[27]27
Консерваторы-традиционалисты, конечно, не симпатизировали евреям, немцам, иностранцам и другим чужеродным элементам, и многие из них демонстрировали явно антисемитские и ксенофобские взгляды в своих воспоминаниях и переписке. Однако в основном лишь у крайних правых антисемитизм открыто выставлялся напоказ. У некоторых членов правых организаций еврейские заявления о лояльности и поступлении на военную службу вызвали даже недолговечные ответные декларации единения с евреями в общей борьбе. Газета «Volkszeitung» (Саратов) 31 августа 1914 г. утверждала, что лидеры ярых правых антисемитов в Думе, Пуришкевич и Замысловский, выражали подобные взгляды в первый месяц войны. Летом 1915 г. В.В. Шульгин возглавил отколовшуюся от партии националистов группу, назвавшуюся «прогрессивными националистами», которая среди прочего провозгласила поддержку русским подданным евреям и немцам при условии, что они верно служат России в действующей армии. См.: Edelman R. Gentry Politics on the Eve of the Russian Revolution: The National-ist Party 1907-1917. New Brunswick, N.J., 1980. P. 228-229.
[Закрыть]. Члены партии присоединились к общему патриотическому порыву в начале войны и «быстро забыли свои внутренние разногласия и равно присущее всем членам партии недовольство правительством», которое никак не желало принять на вооружение программу русских националистов. 21 июля Всероссийский национальный клуб распространил заявление с призывом прекратить все внутренние распри и объединиться с правительством и всем обществом в борьбе против внешнего врага{81}.
Партия националистов получала большую часть поддержки из юго-западных губерний, где главной проблемой до войны была борьба с «польским засильем». Теперь же империя стремилась заручиться поддержкой поляков в войне, которая в значительной мере шла на польской земле. Лишенная своего традиционного внутреннего врага, партия с энтузиазмом перешла к вопросу о немецком и вообще иностранном влиянии.
Хотя партия националистов поддерживала данную кампанию во всех деталях, свои усилия она сконцентрировала на проблеме земельных владений немецких колонистов, довольно обширных и многочисленных в юго-западных губерниях. Данный вопрос поднимался и активно обсуждался в рядах партии еще до войны, причем как среди дворянства, так и среди крестьян; его решение предполагало усиление русского и украинского крестьянского землевладения за счет немецкого, и при этом без всяких материальных жертв со стороны помещиков.
В своих статьях и речах националисты часто осуждали существующее бюрократическое государство как неспособное и не желающее взять на вооружение истинно русский национальный курс и, следовательно, неспособное вступить в масштабную схватку с иностранным засильем. Согласно одной из агитационных брошюр партии националистов, правительство никогда не справится с данной задачей, поскольку так называемые «русские» (а на самом деле тевтонские) элементы бюрократии готовы уничтожить последние остатки здорового национализма в стране{82}. Правые и националисты объединились в предъявленном правительству весьма серьезном требовании – преобразоваться в националистическое правительство, стоящее во главе очищенного от иностранных влияний государства. Этот вызов излагался неровным, довольно эмоциональным тоном, да еще и с тем подтекстом, что неспособность государства справиться с задачей будет расцениваться не иначе как измена.
Но главной движущей силой кампании против вражеских подданных в большинстве случаев были не традиционные правые монархические или русские национальные организации и группы, а мощная кампания в печати и всенародное движение, привлекавшее в свои ряды видных сторонников из общественных кругов широкого политического спектра, от крайне правых до умеренных либералов. Если крайние правые валили в одну кучу агитацию против евреев, социалистов, либералов и т.д. и приправляли все это агитацией против вражеских подданных, то более широкое движение уделяло особое внимание важнейшей теме из раздела о враждебных иностранцах: различным группам этнических немцев, проживавших в империи. Наиболее важными из всех аспектов мобилизации против вражеских подданных была «внутренняя германская угроза», захватившая общественное воображение и создавшая дискуссионное поле огромного напряжения.
Издатель влиятельной и массовой консервативной газеты «Новое время» Борис Суворин задал тон кампании в печати, ведущейся под лозунгом «борьбы с немецким засильем». Его передовицы высмеивали то представление, что к русским немцам нужно относиться лучше, чем к германским подданным, и предлагали убрать немцев со всех ответственных постов, особенно в административной сфере, даже если они их занимали «сто лет»{83}. В течение первых месяцев войны «Новое время» ежедневно помещало в среднем по две статьи о немцах, проживающих на территории империи, и данная кампания продолжалась в течение всей войны. Это был буквально поток публикаций, обвинявших немецкое меньшинство в шпионаже, расселении на русской земле согласно заранее составленному германскому колонизационному плану, захвате всех значительных постов в экономике, угнетении русских рабочих и открытых симпатиях к врагу.
Поворот «Нового времени» против «внутренних немцев» и его резкая критика правительства в данном вопросе четко отражали то, что Дэвид Костелло назвал «консервативной дилеммой» этой газеты, а можно добавить, и режима в целом. Беря на вооружение русскую националистическую программу по отношению к вражеским подданным и иным проблемам, «Новое время» исподволь, а иногда и напрямую подвергало сомнению легитимность имперской монархической системы. Редакторы прекрасно осознавали данную дилемму до 1914 г. и часто довольно неуклюже осаживали русофильствующих публицистов. Однако с началом войны газета бросила все силы на поддержку кампании против вражеских подданных и часто остро критиковала правительство при любых признаках сдержанности в мерах против враждебных инородцев{84}.
Националистические вызовы имперской экономике
Один из явных и серьезных националистических вызовов имперскому государству исходил от сторонников идеи сделать экономику менее космополитичной и более национальной, т.е. более «русской». Наиболее активные сторонники данной идеи нашлись в русских деловых кругах, особенно в Московском купеческом обществе, которое уже давно поддерживало программу экономического национализма с сильным ксенофобским оттенком. Если до войны подобная агитация в поддержку русской коммерции и русских предпринимателей в противовес иностранным не встречала сочувствия или поддержки у бюрократии, то война внезапно изменила ситуацию, выдвинув новые, эмоционально насыщенные патриотические аргументы{85}. Уже в последние предвоенные годы, во время балканского кризиса, Московское купеческое общество использовало международную ситуацию для пропагандирования своей внутриполитической программы. В 1913 г. оно профинансировало публикацию полного списка всех австрийских и германских подданных (а также иммигрантов из этих двух стран), ставших российскими подданными три и менее поколения назад, и призвало бойкотировать их предприятия и товары{86}.[28]28
Крупная антиавстрийская манифестация 1913 г. в Петербурге закончилась тем, что толпа разбила витрины ряда немецких и австрийских магазинов. ГАРФ. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 1008.
[Закрыть]
Московское купеческое общество энергично возобновило свой бойкот австрийских и германских фирм вскоре после объявления войны в 1914 г., и источники, повествующие об организации данной акции, указывают на значительный общественный интерес и охотное участие в ней{87}. Вскоре была сочинена декларация принципов и список мер, необходимых для «борьбы с немецким засильем» и для создания «истинно русской» экономики, которые общество разослало другим торгово-промышленным организациям империи и солдатам действующей армии[29]29
Доклад Комиссии по выяснению мер борьбы с германским и австро-венгерским влиянием в области торговли и промышленности. Октябрь 1914 – апрель 1915 гг. М., 1915. Бесплатные экземпляры этого доклада широко распространялись в редакциях печатных изданий, среди членов Думы, чиновничества в центре и на местах, а также были направлены более чем в 100 биржевых комитетов и купеческих организаций по всей стране. Данный документ содержит длинные списки бойкотируемых товаров, а также подробное объяснение причин бойкота, прежде всего создание более «русской» экономики.
[Закрыть]. Общество вело обширную переписку с купеческими организациями по всей империи и помогало им организовывать подобные бойкоты в Нижнем Новгороде, Костроме, Ярославле и других городах{88}.[30]30
Общество разослало и получило заполненными как минимум 95 анкет от местных биржевых комитетов с уточняющей информацией об уровне австро-германского и вообще иностранного влияния на местную экономическую жизнь и поощряло комитеты начать собственные аналогичные кампании. РГИАМ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 4268. Л. 2.
[Закрыть] Бойкотировались вовсе не импортируемые товары (с началом войны весь импорт из Германии был прекращен), а произведенные внутри России и российскими подданными, но немецкого происхождения. Московские торгово-промышленные группы пропагандировали «борьбу с немецким засильем» не только усилиями Московского купеческого общества, но и при помощи выпуска брошюр и периодических изданий, посвященных данной проблеме{89}.
На общенациональной политической сцене кампанию громогласно и постоянно поддерживала Прогрессивная партия, пользовавшаяся особой популярностью у русских предпринимателей Москвы. Вскоре после начала войны член этой партии, московский городской голова М.В. Челноков, при мощной поддержке московской печати лично возглавил поход против компании «Общество электрического освещения 1886 года» – основного городского поставщика электроэнергии. Он утверждал, что она контролируется немцами и должна перейти под управление городских властей[31]31
Челноков наряду еще с несколькими довольно известными кадетами примкнул к партии прогрессистов в основном из-за проблемы немецкого влияния. Обзор кампании против «Общества 1886 года» см. в работах: Германия и русская электротехническая промышленность// Голос Москвы. 1914. 2 сент.; Дякин B.C. Германские капиталы в России: Электроиндустрия и электрический транспорт. Л., 1971.
[Закрыть].
Важно отметить, что московское купечество и партия прогрессистов ни в коем случае не собирались ограничиваться пределами Москвы или чисто экономическими проблемами и вполне сознательно выстраивали свои аргументы по вопросам освобождения России от немецкого и иностранного влияния именно как требования всей русской нации. Исходя из подобных убеждений, они проявили живой интерес к дальнейшему успешному развитию мероприятий, направленных против вражеских подданных по всей стране и во всех сферах – землевладении, культуре и образовании, не говоря уже о проблемах, подобных межнациональным трениям в Прибалтийском крае. Единодушие на почве полной поддержки полномасштабной борьбы с немецким засильем в экономике росло по мере того, как война затягивалась. Например, в сентябре 1914 г. лидер умеренной партии «Союз 17 октября» (октябристов) Александр Иванович Гучков протестовал против бойкота немецких товаров «только потому, что они немецкие». Однако к маю 1915 г. он и его партия уже были в значительной степени убеждены в необходимости всесторонней борьбы с немецким экономическим влиянием и полностью поддержали бойкот{90}.
Националистическая экономическая программа Московского купеческого общества нашла особенно сильную поддержку у ряда общественных организаций, появившихся во время войны. Наиболее активной из последних было «Общество 1914 года: Борьба с немецким засильем», основанное в декабре 1914 г. и к 1916 г. выросшее из небольшой петроградской группы в сравнительно крупную организацию с шестью тысячами активных членов и девятнадцатью отделениями по всей стране[32]32
«Общество 1914 года» работало в тесном контакте с другими общественными организациями. «Общество экономического возрождения России» имело сходное происхождение и столь же определенные цели, но специализировалось в большей степени на экономических проблемах и исследованиях научного характера. Общество «Самодеятельная Россия», основанное в феврале 1915 г., специализировалось на немецком влиянии в сфере образования и культуры.
[Закрыть].{91}
Многие из основателей и руководителей общества, включая его первого председателя Михаила Александровича Караулова (депутата Думы и члена партии прогрессистов), были представителями кадетской и прогрессивной партий и потому настойчиво отделяли себя от правых, отвергая практику погромов и насилия. В члены общества входило немало средних и мелких предпринимателей, что заставляло общество сосредоточиться на экономических аспектах кампании борьбы с «немецким засильем». Однако оно не собиралось ограничиваться экономическими проблемами и формировало комиссии для разработки всех аспектов кампании, включая торговлю и промышленность, защиту потребителей, образование и землевладение. Принятый при основании общества устав очерчивал его цели в широком смысле как «поставившего своей задачей содействие самостоятельному развитию производительных и творческих сил России, ее познанию, просвещению и освобождению русской духовной и общественной жизни, промышленности и торговли от немецкого засилья»{92}.
Прежде всего общество занялось лоббированием своих идей во властных структурах и распространением их в народе. Оно оплачивало различного рода публикации и общедоступные лекции с целью поднять уровень осознания немецкого влияния, а также, наряду с подчеркиванием проблем общенационального масштаба, расследовало и раздувало страсти вокруг специфических местных вопросов. Например, одно местное отделение общества целиком посвятило свое очередное собрание обсуждению того, что свечи для местной церкви поставляет этнический немец{93}. Публикации общества содержали множество горьких сетований в адрес правительства за его «антинациональную» политику и нежелание полностью принять истинно патриотическую программу{94}. Правительство, в свою очередь, в течение первого года войны держало осмотрительную дистанцию по отношению к данной организации. Полиция не позволила ей расклеивать свои агитационные плакаты в Петрограде и восприняла публикации общества с призывами расправиться с носителями немецких фамилий в государственном аппарате как особое правонарушение{95}.
Согласно его первому годовому отчету, «Общество 1914 года» потратило немало времени на своих собраниях на обсуждение проблемы «государственного национализма». В войне общество видело шанс для правительства наконец взять на вооружение истинно русскую националистическую экономическую программу, с помощью которой можно не только надолго избавиться от вражеских подданных, но и выдвинуть на их место русских, причем, что особенно важно, – владельцев малых и средних предприятий. Эта форма экономического национализма во многом напоминала взгляды московского купечества, утверждавшего, что Россия превратилась в колонию немецкого и вообще иностранного капитала и потому тем более необходима масштабная кампания по созданию независимой России{96}. В основном эта аргументация строилась на том, что мировая экономическая система воспроизводит неравенство среди государств, и российской державе необходимо порвать с такой системой с целью высвободить собственный производственный потенциал. Таким образом, общество представляло войну как возможность осуществить далекоидущие планы, а его программа в конечном счете подразумевала снижение значимости иностранного (и не только немецкого) фактора вообще, замену импорта товарами собственного производства и создание самодостаточного сильного национального государства.
Эта программа, обойденная молчанием во всех крупных работах по истории русской революции, представляла серьезную опасность для старого режима. Перед нами наиболее ясная, последовательная и динамичная программа русского национализма, появившаяся в позднеимперской России, а ее основополагающие идеи импонировали весьма многим представителям всего российского политического спектра. Хотя обиды от экономических притеснений играли определенную роль в кампаниях против граждан враждебных стран в Великобритании, Франции и других мононациональных государствах, данная проблема нигде не достигала такой остроты и значимости, как в России. Как и в случае националистической мобилизации в Турции против «иностранцев» – армян, греков и других представителей иностранных коммерческих диаспор, а также в китайском национальном движении против иностранцев и зарубежных товаров, глубинный националистический вызов имперскому статус-кво основательно подпитывался ощущением, что и международная экономика, и многонациональное местное хозяйство ставят коренную нацию в положение эксплуатируемой и нуждающейся в освобождении. Преобладание подобных настроений создавало напряженную атмосферу и породило бурю, разыгравшуюся в мае 1915 г. на улицах Москвы.

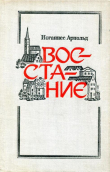




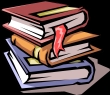
![Книга Шпионаж во время войны [сборник] автора Робер Букар](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shpionazh-vo-vremya-voyny-sbornik-212070.jpg)