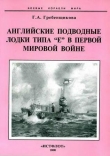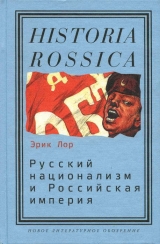
Текст книги "Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны"
Автор книги: Эрик Лор
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Поскольку в начале 1890-х гг. отношения с Германией ухудшились, взгляды на иммигрантов и их поселения приобрели определенно германофобский характер, особенно среди военных, которые подняли вопрос о безопасности в связи с подозрительной плотностью сети немецких поселений в стратегически важных приграничных районах.
Не менее важным фактором стал быстрый рост крестьянского населения в Российской империи. В то время как размер земельного надела для большинства крестьян уменьшался по мере роста населения, немцы продолжали расширять свои земельные владения, в основном благодаря сравнительной эффективности хозяйствования и особой практике наследования недвижимого имущества{289}. Только один сын получал наследство, а поскольку средняя семья состояла по крайней мере из восьми человек, то многие из младших сыновей оставались без земли. Наследник должен был выплатить своим братьям компенсацию наличными деньгами, которые они часто использовали для покупки новых земель у соседних дворян-помещиков или крестьян. Быстрое развитие обществ взаимного кредита, обслуживавших немецкие общины в конце XIX – начале XX в., давало возможность безземельным сыновьям получить кредит на приобретение земли{290}. Эти факторы привели к значительному росту немецкого землевладения. Например, в губерниях Новороссии (Херсонской, Екатеринославской, Таврической и Харьковской) доля немецкого землевладения выросла с 10% (2,3 млн. дес.) от общего числа в 1890 г. до более чем 17% (3,8 млн. дес.) в 1912 г. В Волынской губернии доля немецкого землевладения выросла с 0,6% (96 тыс. дес.) в 1871 г. до 4,6% (685 258 дес.) в 1909 г. относительно всей земельной площади губернии[90]90
Одна десятина = 1,093 га. Neutatz D. Die “deutsche Frage”. S. 86, 160, 261, 265. Формы землевладения и правила наследования земли у немецких колонистов способствовали их сравнительно успешному экономическому развитию по всей империи, т.к. средний размер земельного участка немецкого колониста был в 2—3 раза больше среднего земельного надела в Европейской России. Поучительный контраст с этой ситуацией являли собой Самарская и Саратовская губернии, где немецкие колонисты в начале XIX в. переняли общинные правила раздела и наследования земли. Колонисты Поволжья, в отличие от других колонистов империи, страдали от быстрого сокращения среднего размера земельных участков по мере роста населения колоний в конце XIX – начале XX в. См.: Long J. From Privileged to Disposessed. P. 110—137.
[Закрыть]. В Поволжье число немцев-колонистов выросло с 400 тыс. до 600 тыс. в период с 1897-го по 1914 г., а размер их земельных владений увеличился с 1,2 млн. до 2 млн. дес. К 1914 г. немецкие фермеры владели почти 9 млн. дес. (около 9,8 млн. гектаров) земли в Российской империи. Значимость этих цифр усиливалась тем фактом, что большинство земель считались одними из самых плодородных в империи[91]91
Имеющиеся данные указывают на то, что около 70% всех новых земельных участков было приобретено немцами у дворянства, а не у крестьян славянского происхождения. Исключение составляла Сибирь, где практически все из приблизительно 1 млн. дес. земли немецкие поселенцы получили от Главного переселенческого управления посредством купли или в долгосрочную аренду. См.: РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 316 (О ликвидации немецкого землевладения в Сибири, 1911 – 1917 гг.).
[Закрыть].
Когда в конце XIX в. масштаб немецкого землевладения стал очевидным, проблема сразу же оказалась в центре разрастающейся полемики вокруг немцев. К этому времени ситуация в России изменилась. Государство уже не было озабочено тем, как заселить свои земли; напротив, теперь проблема заключалась в том, чтобы обеспечить землей быстрорастущее население. Вместе с тем, по мере того как отношения с Германией в конце века ухудшались, немецкие поселенцы подвергались все более придирчивому критическому изучению со стороны общественности и властей. В результате закон 1892 г. впервые установил ограничения на приобретение земли российскими подданными «немецкого происхождения» в Киевской, Подольской и Волынской губерниях. Этот закон был несколько смягчен в 1895 и 1905 гг.[92]92
В 1895 г. ограничения были применены только к лицам, вступившим в российское подданство после 1895 г. Важный закон, принятый 1 мая 1905 г., лишил местных чиновников права препятствовать приобретению земли иностранцами, если не существовало иного особого закона, запрещавшего подобные сделки. РГИА. Ф. 1284. Оп. 190. Д. 307. Л. 72.
[Закрыть], но с его помощью удалось существенно затормозить рост немецкого землевладения в этих трех губерниях.
Некоторые представители правительственных кругов считали, что реальной проблемой сельского населения империи с определенного момента стало положение крестьян славянского происхождения. Во-первых, бывшие крепостные, в отличие от немецких колонистов, были обременены обязательствами по уплате выкупных платежей в течение 49 лет, пока их наконец не отменили в 1907 г. Во-вторых, традиционная общинная форма землевладения давала мало стимулов для накопления капитала и приобретения земли. Попытки оживить и укрепить крестьянскую общину в 1890-х гг. обострили эти структурные недостатки. Широкое распространение правила единонаследия в большинстве немецких поселений создавало сильную мотивацию для накопления средств в семье для того, чтобы младшие сыновья могли приобрести дополнительные земельные участки. Подобная мотивация отсутствовала при подлежавшем разделу наследстве и в общинной системе, имевшей распространение на большей части Европейской России. Таким образом, проблему приобретения немцами земли можно рассматривать как часть более общей проблемы российского сельского хозяйства. В конечном счете, как утверждали многие немецкие фермеры и российские реформаторы, решение лежало не в ограничении немецкого землевладения, а скорее в реформировании общинного землевладения, преобладавшего среди крестьян славянского происхождения. Сравнительная эффективность методов ведения хозяйства немецких фермеров была принята во внимание чиновниками, готовившими реформы, позднее осуществленные П.А. Столыпиным{291}.
Тяжелые последствия крестьянских волнений 1905—1907 гг. заставили правительство отказаться от веры в то, что община есть главное средство сохранения порядка в деревне. Столыпинские реформы были направлены на создание консолидированного землевладения и независимых землевладельцев, что уже давно присутствовало в немецких общинах в гораздо большем объеме, чем среди других групп населения империи[93]93
Это скорее касалось немецких поселений на западе и юге империи, чем в Поволжье, где среди колонистов были распространены общинные формы землевладения.
[Закрыть]. Если столыпинские реформы имели своей целью пробудить сознание частной собственности, чтобы бороться с самовольным захватом земли, активно практикуемым общинниками в 1905—1907 гг., то немецких поселенцев с их крепкими едиными хозяйствами и гораздо более высоким процентом хуторского землевладения можно было считать основными союзниками в решении этой задачи{292}.[94]94
Можно провести интересную параллель между разбросанными немецкими колониями, обеспечивающими распространение агрикультурных нововведений посредством их фактической демонстрации, и поддержкой через столыпинские реформы индивидуальных хуторских хозяйств с той же целью —разбросать их по всей сельской России и показать крестьянам преимущества частной собственности на землю. См.: Fallot J. Land Reform in Russia, 1906—1911: Peasant Responses to Stolypin's Project of Rural Transformation. Oxford, 1999. P. 64, 103—104; Bartlett R.P. Colonists, «Gastarbeiter».
[Закрыть]
Вскоре, однако, стало очевидно, что попытка заменить традиционную русскую модель землевладения на такую, которая бы напоминала давно существовавшую в немецких общинах, не принесет быстрого успеха{293}. Накануне войны проблема роста немецкого землевладения снова стала главным предметом общественных дискуссий и основной заботой властей. Несколько губернаторов в районах с большим числом немецких поселений и высокой долей иммигрантов среди населения снова и снова требовали от МВД ограничить иммиграцию немцев и возможности приобретения ими земли. В ответ на эти требования в 1909 г. Главное управление землеустройства и земледелия запретило немецким иммигрантам осуществлять покупки через государственные земельные фонды (особенно посредством Крестьянского банка) и ограничило заключение новых арендных договоров с государством шестилетним сроком{294}.
В 1910 г. МВД предложило более жесткий законопроект с целью остановить приобретение земли немецкими иммигрантами (включая и уже натурализовавшихся) в трех губерниях, затронутых законами 1887 и 1895 гг.: Волынской, Киевской и Подольской. Дума отклонила законопроект. Некоторые правые депутаты выступили против подобных мер, потому что они ограничивали помещиков в их естественных устремлениях продавать и отдавать землю в аренду. Но гораздо важнее был тот факт, что умеренная фракция октябристов выступила резко против этих мероприятий, поскольку она всегда протестовала против любых ограничений прав собственности по национальному признаку{295}.[95]95
Практически все депутаты Государственной Думы, избранные от немцев-колонистов и прибалтийских немцев, были членами партии октябристов и ее думской фракции.
[Закрыть] После избрания новой, IV Думы в декабре 1912 г. МВД снова вынесло на рассмотрение отклоненный законопроект 1910 г. в еще более жесткой редакции, включив в него Бессарабию. Законопроект предполагал запретить приобретать в собственность или арендовать землю всем иммигрантам, получившим российское подданство после 15 июня 1888 г., а также лицам польского происхождения, эмигрировавшим из Царства Польского после этой даты, наряду с их прямыми потомками мужского пола, так и не получившими российского подданства{296}.
И снова, даже несмотря на то что в IV Думе стало больше правых депутатов, законопроект не получил поддержки и вызвал резкое осуждение как октябристов, так и более беспристрастных, хотя и малочисленных ораторов правых и националистов. Например, лидер фракции националистов А.И. Савенко продолжал защищать немецких фермеров, утверждая, что Россия «не должна превращать своих инородцев во врагов». Он предложил запретить дальнейшую иммиграцию, но не ограничивать права тех, кто уже находится в России{297}.[96]96
Даже в конце 1913 г. основные правые газеты, включая такие издания, как «Голос России» и «Киевлянин», продолжали защищать колонистов. РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 316. Л. 103.
[Закрыть]
Провал законопроектов, разработанных МВД, свидетельствует о том, что до войны Дума не пошла даже на то, чтобы ограничить приобретение земли немецкими иммигрантами хотя бы в четырех приграничных губерниях. Тем не менее эти законопроекты сделали данный вопрос предметом огромной значимости в общественных дискуссиях на общенациональном уровне. Некоторые члены фракций октябристов и правых начали склоняться к поддержке ограничений на право владения землей немцами уже перед войной под воздействием в том числе и этих законопроектов, и агитация в прессе против немецких колонистов заметно усилилась{298}.
Комитеты, разрабатывавшие эти предложения для МВД, собрали обширный материал о землевладении немцев и других иностранных подданных в западных губерниях. Губернаторы по всей стране начали собирать статистические данные и составлять подробные карты немецкого землевладения. Военные в своих докладных записках и на картах все чаще обозначали иммигрантов и любое иностранное население как источник всевозможных стратегических проблем[97]97
Подобные карты стали темой горячих общественных дискуссий сразу после публикации их в ряде газет и брошюр. О картах расселения колонистов с указанием плотности населения, опубликованных в периодической печати наряду со статьями, подчеркивавшими угрозы, создаваемые колонистами интересам России, см.: РГИА. Ф. 1483. Оп. 1. Д. 29. Л. 19. См. также подборку статей из газеты «Новое время»: Резников А. Золото Рейна: О немцах в России. Пг., 1915.
[Закрыть]. Даже в малонаселенной Акмолинской области для губернатора были разработаны подробные карты и собраны статистические данные о земельных владениях немцев по состоянию на 1911 г.[98]98
Карты и статистические данные можно найти в: РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 316. Л. 1—350. Они показывают, что внутренняя миграция, в основном из губерний Новороссии, привела к переселению около 20 тыс. немецких колонистов на территорию трех уездов Акмолинской области, где к 1911 г. они составляли около 5% населения и владели 430 101 дес. земли.
[Закрыть] В 1913 г. начальник Главного управления землеустройства и земледелия во всеподданнейшем докладе выразил обеспокоенность тем, что 4000 немцев приобрели почти 20 тыс. дес. земли вдоль основной стратегической железной дороги на Кавказе. Царь при ознакомлении с докладом дважды подчеркнул заключение, в котором говорилось, что пока еще не поздно, но нужно поторопиться и заселить этот район русскими{299}.[99]99
Довольно типично, что доклад был крайне скептичен относительно способности русских крестьян на равных конкурировать с немцами без спасительного вмешательства государства посредством неких принудительных мер.
[Закрыть] Мысль о том, что безопасность государства и поддержание имперской власти зависели от процентного соотношения категорий населения и их землевладения на той или иной территории, значительно укрепилась и в официальной практике, и в общественных дискуссиях{300}. Подобная «демографизация» (demographicization) национальных вопросов и вывод о том, что государство нуждается в благоприятном демографическом балансе национальных групп для того, чтобы контролировать имперские пространства, были важным обстоятельством, подготовившим массовые акции военного времени[100]100
Видные чиновники, проводившие в жизнь ограничительные меры военного времени против вражеских подданных, к тому моменту уже имели значительный опыт в осуществлении подобных акций до войны. Например, Н.П. Харламов как начальник канцелярии варшавского генерал-губернатора в предвоенные годы отвечал за надзор за иностранцами. ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 429. Л. 40.
[Закрыть].
* * *
Ситуация в Германии
Подобные трансформации осуществлялись по всей Европе и миру. В нашем случае наиболее существенными являются аналогичные изменения, имевшие место в германской практике на землях, полученных при разделах Польши. В то время как еще в 1848 г. возможность интеграции в германское общество являлась реальностью для поляков в Пруссии, к 1880-м гг. немецкие власти в Познани стали уделять пристальное внимание демографическому равновесию и ситуации в землевладении края. В 1886 г. О. Бисмарк основал так называемую Прусскую королевскую колонизационную ассоциацию для выкупа земель у польских помещиков и передачи их немцам{301}. Досадуя на отсутствие прогресса в этом вопросе и десятилетиями бессильно наблюдая за крайне плохо финансируемыми и малоуспешными попытками колонизации Пруссии, рейхсканцлер Б. Бюлов в 1908 г. продавил законопроект, позволявший экспроприировать земли польской знати. Хотя оппозиция в рейхстаге препятствовала его применению и всего четыре поместья были экспроприированы до войны, в докладе губернатора Познанской провинции Вильгельма фон Вальдова указывалось, что все же произошли важные концептуальные изменения. Традиционная, в духе Бисмарка, точка зрения, определявшая польскую знать как главное препятствие на пути германизации, была отброшена из-за новых проблем, связанных с демографическими особенностями населения и прав собственности. Историк Уильям У. Хаген отмечал, что к 1914 г. германизация уже «имела отношение не столько к полякам, сколько к земле, на которой они проживали»{302}.[101]101
Хаген подробно прослеживает связь этих изменений в методах национализации в довоенный период с позднейшими комментариями Гитлера в «Майн кампф» о том, что «германизация применима только к земле и никогда – к людям».
[Закрыть]
Новый курс германской национальной политики и риторика относительно уравнивания национальной принадлежности и подданства, а также стремление «национализировать» свою территорию оказали значимое влияние на действия России[102]102
Одним из примеров стало решение российского правительства ужесточить ограничения приобретения немецких земель поляками в Восточной Пруссии в период ее краткой оккупации русскими войсками в 1914 г. РГВИА. Ф. 2005. Оп. 1. Д. 29. Л. 48-51.
[Закрыть]. Это новое направление в политике Германии, воплотившееся в четких, этнически определенных концепциях подданства, включавших немцев за рубежом в единое немецкое гражданство и сообщество, было воспринято в России как прямая угроза, ставившая под сомнение лояльность даже тех немцев, которые давно натурализовались в России. Реальное проявление этих концептуальных сдвигов нашло отражение в дебатах 1913 г. по новому закону о подданстве в Германии, в которых германские правые усиленно лоббировали положение о признании немецких диаспор за пределами Германии ее полноправными подданными на основании кровного родства. В то время как действующий в Германии закон был сформулирован осторожно и допускал двоякое толкование проблемы двойного подданства, в дебатах по поводу нового закона было уделено большое внимание идее о том, что Германия считает немецкие диаспоры за рубежом членами германской нации независимо от их официального подданства{303}. Более того, российские аналитики и военные стратеги не преминули заметить, что военные планы Германии включали тактическое использование близких этнических групп и что германские правые строили грандиозные планы по переселению немцев из России для создания нового порядка в прибалтийских губерниях и частях русской Польши, которые рассматривались не иначе как будущие германские колонии{304}.
Мечты о завоеваниях, взлелеянные некоторыми германскими правыми (а также очевидное сочувствие им некоторых членов германского правительства) заставили некоторых российских правительственных лиц прислушаться к голосам тех патриотов в России, кто утверждал, что Берлин ставит перед немецкой иммиграцией стратегические задачи. Латвийская и литовская пресса негодовали по поводу переселения нескольких тысяч немцев из Поволжья и Южной Украины в Прибалтику, утверждая (не без некоторого основания), что это было частью пангерманского заговора с целью «мирного завоевания» региона{305}.[103]103
Националистически настроенные помещики-немцы переселили в Прибалтийский край не менее 20 тыс. немецких крестьян из поволжских и малороссийских губерний в 1906—1910 гг., т.к. пытались изменить демографическую картину по составу не только населения, но и землевладения в прибалтийских губерниях. См.: Arndt N. Umsiedlung wolhyniendeutscher Kolonisten ins Baltikum, 1907-1913 // Wolhynische Hefte. 1988. No. 5. S. 91-214; Hehn J. von. Das baltische Deutschtum zwischen den Revolutionen 1905—1917 // Die baltischen Provinzen Russlands zwischen den Revolutionen von 1905—1911 / Eds. A. Ezergailis, G. von Pistohlkors. Cologne, 1982. S. 20—42.
[Закрыть] Опубликованные притязания Пауля Рорбаха и других видных членов Пангерманской лиги на то, что прибалтийские губернии должны стать частью будущей Германской империи, превратили эту проблему в первостепенную не только в местной прессе, но и в российских общенациональных газетах[104]104
Обзор того, насколько русская публика была осведомлена о разного рода пангерманских публикациях и обеспокоена ими, см. в репринте статьи В.Я. Фан-дер-Флита 1909 г. «Всенемецкое движение как фактор европейской войны» («Известия Министерства иностранных дел». 1915); А.П. Т[упин]. Правда о прибалтийских колонистах // Новое время. 1916. 28 авг.
[Закрыть]. Представители русского Генерального штаба писали, что иммиграция в Волынскую губернию и другие территории была спланирована и профинансирована из Берлина, и усердно разрабатывали карты губернии, чтобы вскрыть логику подобного расселения, особо отмечая появление новых поселений вдоль морских побережий, железных дорог, западной границы империи и крепостей. Во время войны официальная пропаганда придавала этой теме огромное значение{306}.
Развитие конфискационных мер в условиях военного времени
До войны уже существовали меры, которые ограничивали права как иммигрантов из других стран, так и подданных Российской империи еврейского, польского и немецкого происхождения на приобретение земли. Однако путь от ограничений на приобретение до полной конфискации был неблизким.
Уверенность в том, что частная собственность неприкосновенна и что государства не могут произвольно экспроприировать ничье имущество, особенно земельное, основывалась на давно существовавших узаконенных традициях в Европе, связанных с фундаментальными принципами личностных и гражданских прав. В России эти традиции безусловно были гораздо слабее, чем в большинстве европейских государств{307}. В Основных законах 1906 г. впервые было четко указано, что государство гарантирует, что земля и собственность российских подданных не может быть экспроприирована без компенсации. Согласно статье 77, «собственность неприкосновенна. Принудительное отчуждение недвижимых имуществ… допускается не иначе, как за справедливое и приличное вознаграждение»{308}. Как и сама идея гражданства с установлением равных прав и обязанностей перед законом для всех, гарантии имущественных прав были одним из основных принципов, за установление которых боролись умеренные политики и общественные деятели[105]105
В некотором смысле то обстоятельство, что гражданство и законодательная защита прав собственности так и не были твердо установлены, сделало полемику по поводу их установления и нарушений более продолжительной, интересной и важной, на что и указывает Анджей Валицки, рассматривая проблемы либерализма и права в более широком контексте: Walicki A. Legal Philosophies of Russian Liberalism. Notre Dame, 1992. P. 1—7. Как только идея единого гражданства стала проникать в практику в период Великих реформ и особенно после опубликования Основных законов 1906 г., вопрос о праве собственности для некоторой части населения гораздо легче трансформировался в принцип, т.е. в право для всех граждан. Однако до этих усовершенствований гарантии прав и земель колонистов уж никак не составляли общенациональную проблему, поскольку колонисты были не гражданами, а членами определенного сословия, снабженного целым набором узаконений и правил. Последнюю версию сводного собрания узаконений о колонистах см.: Устав о колониях иностранцев в империи 1857 г. // История российских немцев в документах (1763-1992) / Ред. Н.Ф. Бугай, В.А. Михайлов. М., 1993. С. 22-36. В ст. 166 четко указывалось, что колонисты имели право приобретать землю у частных лиц в собственность. Однако в 1874 г., когда особая сословная категория колонистов была упразднена, на них стало распространяться основное законодательство империи. Это перевело их права на земельную собственность, по крайней мере формально, в сферу общеимперского законодательства.
[Закрыть]. Одной из главных целей столыпинских реформ в деревне было концептуальное и практическое установление частной земельной собственности взамен общинного землевладения. Хорошо известно, что против установления этого принципа выступали многие представители левых партий, ратовавшие за экспроприацию помещичьих и государственных земель, но обычно забывают о том, что правые и само государство коренным образом подрывали этот самый принцип во время войны[106]106
Важным исключением является исследование политики хлебных реквизиций, при помощи которых государство применяло всесторонние меры по ограничению свободной продажи зерна и временами прибегало к полному изъятию урожаев зерновых культур. См.: Lih L. Bread and Author-ity in Russia, 1914-1921. Berkeley, 1990. P. 9-15, 49-51.
[Закрыть].
* * *
От вражеских подданных к немецким иммигрантам
Хотя правительство официально заявило, что имущество вражеских подданных будет защищено, оно быстро изменило отношение к их земельным владениям. 22 сентября 1914 г. царь подписал указ, запрещавший на время войны приобретение земли и любой недвижимости в собственность или аренду всем вражеским подданным на всей территории империи{309}. Этот указ означал существенное расширение всех довоенных ограничений, которые ранее применялись лишь в нескольких губерниях.
Напряжение в обществе быстро нарастало, и вскоре уже раздавались требования перейти от ограничений на приобретение собственности к более жестким конфискационным мерам. Первоначально правительство действовало осторожно. На требования военных министр внутренних дел Маклаков ответил 22 августа циркуляром для губернаторов польских губерний, в котором напоминал им, что МВД уже до войны обратило внимание на неестественное усиление немецкой колонизации в польских губерниях и серьезную угрозу русским интересам, возникшую в результате этого процесса{310}. Однако в тот ранний период он еще сохранял определенную долю объективности, указывая на то, что многие немцы прибыли в Польшу еще в XI в., а колонисты всегда были надежным оплотом имперского порядка во время польских восстаний XIX в. и общественных волнений 1905 г. В то же время он отмечал, что приобретение земель немцами и рост их численности вызывают озабоченность наряду с последними донесениями о фактах подачи немцами сигналов врагу и их общего сочувствия Германии. Маклаков запросил у губернаторов отчет о том, насколько оправданны были эти подозрения, и если так, то как они предлагают с этим бороться. Полученные ответы весьма разнились. Большинство губернаторов утверждало, что немецкие колонисты ненадежны, т.е. их следует выселить, а их земли экспроприировать. Некоторые местные чиновники поначалу были более сдержанны в суждениях, докладывая, что колонисты с готовностью шли на военную службу и вообще представляли собой положительный консервативный элемент{311}. Обсуждение проблемы среди военных было гораздо более кратким, а выводы – однозначными. Почти все главные боевые генералы и офицеры с первых дней войны высказывали мнение о том, что колонисты – опасный внутренний враг, с которым следует бороться всеми возможными способами.
Под давлением военных и массовой печати правительство быстро утратило объективность в этом вопросе. В октябре Совет министров учредил комитет под председательством А.С. Стишинского для доработки отклоненных законопроектов 1910 и 1912 гг. с целью их ужесточения. Переломный момент наступил, когда вел. кн. Николай Николаевич в октябре 1914 г. прислал из Ставки телеграмму, требуя проведения обширной программы мер против вражеских и враждебных подданных по всей империи{312}.
В результате Совет министров провел ряд заседаний, чтобы обсудить этот вопрос. На двух заседаниях в октябре 1914 г. в Петрограде военный министр В.А. Сухомлинов и командующий 6-й армией (развернутой на территории Петроградского военного округа) К.П. Фан-дер-Флит предложили чреватую последствиями программу выселения и ограничения в правах вражеских подданных и «так называемых российских подданных немецкого происхождения» по всей империи. В ответ на это министры заняли оборонительную позицию, указав, что они уже предприняли некоторые временные меры по ограничению прав вражеских подданных; также они высказались против принятия более жестких мер из опасения возмездия по отношению к российским подданным во вражеских государствах и неблагоприятной реакции со стороны нейтральных стран. К тому же, поскольку вражеские подданные играли важную роль в российской промышленности, жесткие меры против них могли нанести непоправимый урон военному производству. Такие экстраординарные меры, как полная конфискация и секвестр собственности, влекли бы за собой вопрос о компенсации в конце войны, которая могла быть весьма значительной. В своей яркой речи министр иностранных дел Сазонов отклонил возможность принятия ряда общих мер против вражеских подданных, а вместо них от лица большинства Совета министров высказался за экспроприацию земельных владений немецких колонистов непосредственно в прифронтовых районах. Поскольку эта мера затронула бы прежде всего и по большей части российских подданных, Сазонов, возможно, считал, что международные последствия не были бы столь вредоносными, как предложения Сухомлинова и Фан-дер-Флита, направленные против вражеских подданных. Предлагая применять указанные меры в прифронтовых районах, министры в некотором смысле лишь пытались упорядочить то, что военные власти уже практиковали на этих территориях. Военные к тому времени уже начали высылку российских подданных немецкого происхождения из прифронтовых районов, а Положение о полевом управлении войск предоставляло широкие полномочия для секвестра и реквизиций на подчиненной им территории{313}.[107]107
Ст. 19 (п. 18). «Правил о местностях, объявленных состоящими на военном положении», давала военным властям право секвестровать недвижимое имущество, замораживать капиталы и доходы, получаемые с любого имущества, владельцы которого были вовлечены в преступную деятельность или их деятельность могла иметь опасные последствия для общественного порядка. Гражданские власти обладали схожими полномочиями на территориях, находившихся «в положении чрезвычайной охраны», объявленном в большинстве губерний на время войны. Однако гражданские власти были гораздо сильнее ограничены другими нормами гражданского законодательства. См.: ГАРФ. Ф. 102, II. Оп. 71. Д. 80. Л. 91.
[Закрыть]
* * *
Меры военных властей
Сначала своими широкими полномочиями военные начали пользоваться на оккупированных вражеских территориях. В первые месяцы войны российские оккупационные власти в Восточной Пруссии предприняли масштабную программу реквизиций и конфискаций оборудования, скота и другого имущества. Вскоре после оккупации Галиции российские власти начали секвестровать земли, оставленные беженцами, уходившими с австрийской армией{314}. Председатель Совета министров Горемыкин горячо поддерживал подобные меры. В ответ на намерение Янушкевича секвестровать оставленное беженцами имущество в оккупированной Галиции он предложил военным властям не ограничиваться секвестром, а прямо переходить к полной конфискации. Он также подчеркивал, что эти меры должны применяться к оставленному имуществу, принадлежавшему евреям, немцам и лицам, подозревавшимся в шпионаже на территории Российской империи{315}.
Тактика военных на оккупированных территориях Османской империи была еще более агрессивной в плане поддержки русских за счет ненадежных меньшинств. Здесь власти начали передавать освободившееся недвижимое имущество русским поселенцам-казакам. Помимо казаков генерал Н.Н. Юденич в октябре 1915 г. начал завозить в оккупированную часть Турции «дружины» русских сельскохозяйственных рабочих. К концу 1916 г. более 5 тыс. русских крестьян и сельскохозяйственных рабочих поселились в оккупированных частях Восточной Анатолии, и планировалась дальнейшая масштабная колонизация. Российские власти запретили армянам участвовать в программе заселения и препятствовали возвращению армянских беженцев в оккупированную русскими войсками часть Турции, в том числе из-за стремления предотвратить столкновения между возвращавшимися армянами и русскими, курдами и турками, завладевшими их домами и землями. Дальнейшие планы предполагали расселение демобилизованных казаков на армянских землях по окончании войны. 10 февраля 1916 г. земли армянских беженцев были официально объявлены государственной собственностью, а тем немногим беженцам, которым удалось вернуться, было отказано в праве требовать возвращения своих домов и земель. Их вынуждали брать свои же земли в аренду у властей, и только в районах, менее пригодных для земледелия. Плодородные долины и земли вдоль границы предназначались для казаков и русских, а армян на их бывшие земли было решено не допускать{316}.
Российские военные власти вскоре после начала войны применяли секвестр и на обширных территориях самой Российской империи. С декабря 1914-го по февраль 1915 г. военные сменили тактику и перешли от насильственной высылки всех немцев из прифронтовых районов к целенаправленному изгнанию сельских землевладельцев немецкого происхождения, кроме немецкого населения городов. На представительном совещании армейского командования по определению категорий немцев, подлежащих депортации, проходившем в январе 1915 г., было решено включить в них всех лиц немецкого происхождения, владевших недвижимостью или занятых в торговле или кустарной промышленности за пределами городских поселений, а также наемных и сезонных работников немецкого происхождения, работавших в городах, но приписанных к общинам колонистов. Эти всеобъемлющие рекомендации по выселению показывают, насколько тесно департационная стратегия армии была связана с общегосударственной патриотической «национализацией» земли{317}.
На совещании армейского командования также было доложено об уже имевших место случаях воровства и захватов имущества и земель колонистов местными крестьянами, которые считали недвижимость выселенцев уже никому не принадлежащей[108]108
По данным Гисбрехта, высылки часто сопровождались прибытием отряда казаков, а также скоплением местных жителей – украинцев и евреев, стремящихся купить сельскохозяйственный инвентарь, скот и домашнюю утварь высылаемых по максимально низким ценам. Giesbrecht W. Die Verbannung der Wolhyniendeutschen, 1915—1916 // Wolhynische Hefte. 1984. No. 3. S. 52; Krueger A. Die Fluchtlinge von Wolhynien: Der Leidensweg russlanddeutcher Siedler, 1915—1918. Plauen, 1937.
[Закрыть]. Опасаясь полного разрушения законности и порядка, совещание постановило секвестровать и при содействии Крестьянского банка формально передавать имущество выселенцев Министерству государственных имуществ[109]109
Этому решению предшествовала практика секвестра имущества колонистов и вражеских подданных, «скрывшихся за границей» (т.е. находившихся за пределами империи на момент начала войны). Подобные секвестры начали применяться с сентября 1914 г. Сводные статистические данные недоступны, но количество секвестрованного имущества было, безусловно, значительным. РГВИА. Ф. 2005. Оп. 1. Д. 24. Л. 305.
[Закрыть]. Главное управление землеустройства и земледелия тесно сотрудничало с военными и в начале 1915 г. приступило к масштабному переводу земель выселенных колонистов под контроль государства. Доступно лишь небольшое количество статистических данных по этому вопросу, но о размахе мероприятий можно судить по материалам Волынской губернии, где в июне 1916 г. более 90% имуществ, подлежащих экспроприации, уже было секвестровано{318}.
Военные власти изо всех сил старались сделать процесс передачи земель враждебных подданных новым хозяевам необратимым. Уже в январе 1915 г. генерал-губернатор Варшавы разослал циркуляр десяти губернаторам польских губерний, в котором указывал, что во время массовых высылок властям «надлежит способствовать добровольной ликвидации для конечного прекращения германского землевладения»{319}. На практике такая передача была далека от добровольной. Нередко военные переходили непосредственно к прямой передаче земель новым хозяевам путем конфискации, минуя тем самым медленную процедуру экспроприации с ее необходимыми условиями компенсации бывшим владельцам. В июне 1915 г. командующий Юго-Западным фронтом приказал поселить беженцев на землях ранее высланных немцев и евреев на подчиненной ему территории{320}. Приказ военных властей 1 июля 1915 г. о высылке немецких поселенцев из Волынской губернии давал последним 10 дней, чтобы самостоятельно «ликвидировать» свое имущество или подчиниться принудительной конфискации без компенсации{321}. В тех частях Волыни, которые Россия отвоевала обратно в июне 1916 г., военные власти просто распределили 50 тыс. дес. земли, принадлежавшей высланным немцам, среди 200 тыс. беженцев (в основном из Галиции), 100 тыс. дес. – среди 7500 местных крестьян и 12 тыс. дес. передали местным крестьянским общинам для использования в качестве коллективных выпасов{322}. Таким же образом, когда 11 тыс. немецких колонистов были высланы из поселения Гиршенгоф в 1916 г., их земли были секвестрованы и переданы Прибалтийскому отделу Министерства государственных имуществ. На этих землях военные разместили латышских беженцев{323}.[110]110
В июле 1916 г. главный начальник снабжений Северного фронта приказал немедленно секвестровать все земли и недвижимость высланных колонистов, еще не подвергшиеся этой процедуре. РГВИА. Ф. 1932. Оп. 12. Д. 92. Л. 255 об.
[Закрыть] Подобные действия военных властей повлекли за собой массовое изъятие всех видов собственности без какой бы то ни было компенсации в ряде губерний{324}.[111]111
Линдеман оценивает стоимость этой земли в 40 млн. руб.
[Закрыть]
Военное командование продолжало демонстрировать упрощенческий и радикальный подход к сложным вопросам взаимосвязанных немецко-русских интересов, особенно относительно немецких арендаторов. Генерал А.А. Маврин 8 июля 1915 г. писал Янушкевичу во время осуществления одной из массовых высылок и информировал его о том, что немецкие колонисты арендовали большие земельные участки и к моменту высылки оставляли засеянные поля, инвентарь, строения и крупные долги русским землевладельцам{325}. Он запрашивал, каков должен быть статус арендованных ими участков и как следовало поступить с их имуществом. Янушкевич ответил только через два дня, пояснив, что акт высылки приравнивался к официальному расторжению договора аренды и что вопрос о домах, строениях, фабриках, мельницах и оборудовании на этих землях «решится сам собой» (!). Таким образом, в своей бесцеремонной манере он решал судьбу не только десятков тысяч немцев и их имущества, но также и вопрос, затрагивавший материальные интересы многих русских землевладельцев. Более того, пустив проблему ценного имущества на самотек, он тем самым предоставил возможность крестьянам, солдатам и местным организациям бесконтрольно захватывать эту собственность, о чем вскоре и стали сигнализировать местные власти. Сообщения о том, что местные крестьяне растаскивали движимое имущество и захватывали целые домохозяйства, множились со зловещей быстротой в первый год войны{326}. Государственные и общественные организации также требовали от правительства и армии секвестровать или конфисковать собственность враждебных подданных и передать им их земли для самых различных и неотложных нужд{327}.
В дополнение ко всему жесткие конфискационные меры, применявшиеся к немцам и евреям, усилили ощущение того, что собственность высланных лиц не находится под защитой закона. Например, в июне 1915 г. генерал Н.И. Иванов приказал реквизировать все зерно, кроме необходимого для посева, у немцев и евреев, а для гарантии полной выдачи взять заложников от каждой общины{328}. Посредством своих радикальных действий армия поставила под вопрос незыблемость правовых основ собственности вражеских и враждебных подданных. Но какими бы жесткими ни были методы военных властей, они применялись лишь на оккупированных территориях и в подчиненных военным районах внутри страны. Более того, военные чаще всего отдавали приказы о секвестре, а не конфискации. Хотя секвестрованные земли переходили под контроль государства, технически они оставались законной собственностью бывших владельцев. Самый важный шаг на пути к совершенно определенной бессрочной передаче имущества вражеских и враждебных подданных другим лицам был сделан подписанием 2 февраля 1915 г. трех особых указов.
* * *
Указы 2 февраля 1915 г.
В ответ на усиливающееся давление со стороны военных и прессы комитет, возглавляемый А.С. Стишинским, представил на рассмотрение Совета министров пакет из трех узаконений, которые были подписаны царем 2 февраля 1915 г. и вступили в силу на основании ст. 87 Основных законов[112]112
Последующее изложение основано на положениях трех указов, тексты которых можно найти в кн.: Сборник узаконений, распоряжений. С. 15—30. Статья 87 Основных законов давала правительству и царю право издавать указы во время перерывов в работе Думы. Формально изданные таким образом указы теряли силу, если Дума не одобряла их в течение следующей сессии. На практике же ни один закон, касавшийся землевладения вражеских подданных, никогда не ставился на голосование в Думе. Однако это не означало, что большинство депутатов не одобрило бы указанные меры. На самом деле в июне 1916 г. Прогрессивный блок воспрепятствовал правым инициировать обсуждение указов в общем заседании палаты именно из опасения, что Дума их примет. Поскольку указы не были одобрены Думой, они формально так никогда и не стали законами, оставшись указами навсегда.
[Закрыть]. Первый указ касался вражеских подданных. Он вводил еще большие ограничения на приобретение земельной собственности, чем те, что были введены в сентябре 1914 г., и предполагал прямое государственное управление имуществом и землями фирм, учрежденных по законам неприятельских государств. В указе также содержалось требование уволить всех вражеских подданных, занимавших административные посты в организациях, владеющих землей. Эти меры распространялись на территорию всей империи.

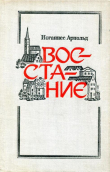




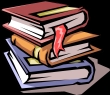
![Книга Шпионаж во время войны [сборник] автора Робер Букар](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shpionazh-vo-vremya-voyny-sbornik-212070.jpg)