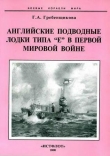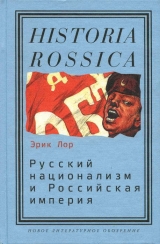
Текст книги "Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны"
Автор книги: Эрик Лор
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Записка Горемыкина – лишь один пример из целого потока жалоб гражданских властей, хотя эта жалоба исходила от весьма высокопоставленного лица. Многие, как например, виленский губернатор, жаловались, что переселения разрушают местное хозяйство и готовят ужасные последствия не только для местного населения, но и для армии. Губернатора особенно волновало, что высланными оказались все владельцы аптек, что сказалось на снабжении населения лекарствами, а также то, что из-за высылки квалифицированных рабочих важнейших специальностей закрывались оборонные предприятия{474}. Противодействие правительства акциям военных по отношению к евреям помогло предотвратить еще более жесткие репрессии и сыграло важную роль в прекращении массовых депортаций.

Карта 3
Наиболее убедительным аргументом для военного руководства стало постепенное осознание того, что массовая депортация евреев заставляла МВД постепенно отменять ограничения, связанные с чертой оседлости, с целью более равномерного распределения высланных по территории империи. Столкнувшись с этими трудностями, командующий Северо-Западным фронтом М.В. Алексеев 8 мая 1915 г. нехотя уступил прагматичным доводам Совета министров. Он разослал циркуляр всем штабам армий и соединений в его подчинении, который перевел политику выселений в четвертую стадию.{475} Циркуляр предписывал заменить высылку взятием заложников в районах за линией фронта, а массовую депортацию использовать только как меру устрашения или избирательно в качестве наказания{476}. На следующий день генерал Данилов сообщил военным властям по всему Северо-Западному фронту, что правительство не только отменило массовую высылку евреев, но и разрешило уже выселенным евреям вернуться в свои дома. Однако возвращение было возможно лишь при условии, что от каждой общины будут взяты заложники{477}.[149]149
На практике и железнодорожные чиновники, и местные власти, и военные власти всех уровней делали все возможное, чтобы помешать возвращению высланных евреев в свои дома. РГВИА. Ф. 1932. Оп. 12. Д. 67. Л. 269-272.
[Закрыть] Уже 10 мая командующий Двинским военным округом Н.Е. Туманов довел до сведения губернаторов своего округа процедуру взятия заложников. Он требовал составления списков потенциальных заложников с учетом наиболее влиятельных членов общин, включая раввинов. Туманов подчеркивал, что губернаторы должны обеспечить осведомление всего еврейского населения о том, что заложники будут повешены в случае малейшего враждебного действия по отношению к отечеству или вообще любой помощи врагу со стороны любого представителя еврейского населения{478}. Ковенский губернатор и командующий 10-й армией разделили губернию на три района, один из которых следовало полностью очистить от евреев, из второго требовалось взять заложников, в третьем вовсе не следовало применять никаких репрессивных мер{479}. В течение последующих недель Ставка последовательно отклоняла просьбы командующих армиями и фронтами дать разрешение на высылку евреев из районов расположения их частей, приказывая им вместо высылки брать заложников. Таким был ответ и генералу В.Н. Григорьеву, командующему Ковенским укрепленным районом, когда он написал Туманову о том, что в его районе находились стратегически важные железнодорожные линии, и поэтому он считал необходимым «очистить его от нежелательного элемента», выслав оттуда всех без исключения евреев. Туманов ответил, что массовые выселения теперь запрещены (кроме районов непосредственной дислокации войск), и дал указание вместо выселения взять 5—6 заложников от каждого поселения, включая всех «неправительственных раввинов» наряду с богатыми и влиятельными евреями{480}.
В результате очередного поразительного, хотя и недолгого изменения стратегии Янушкевич ввел тактику «выжженной земли» для некоторых районов отступления, приказав уничтожить все запасы зерна, разрушить строения и полностью депортировать население за исключением евреев. Он объяснял это тем, что евреи оказывали такое развращающее влияние и представляли собой такую обузу для армии, что лучше уж оставить их немцам. Несколькими неделями позже эта практика была отменена вел. кн. Николаем Николаевичем. Исходя из тех же соображений, Янушкевич приблизительно в это же время отдал лаконичный приказ вынудить всех евреев – жителей оккупированной Галиции перейти через линию фронта на вражескую территорию, а не высылать их в глубь России. Подобная тактика применялась только в оккупированной Галиции и только в течение нескольких недель{481}. Все эти примеры отчетливо показывают, что в армии считали: какую бы тактику ни применять относительно евреев, будь то высылка в глубь страны, разрешение оставаться в своих домах, выдавливание на вражескую территорию или взятие заложников, евреи должны быть изолированы и к ним следует относиться как к опасным внутренним врагам.
Вышеперечисленные меры были вскоре отменены, но заложников продолжали брать еще в течение нескольких месяцев. Нельзя сказать, что подобного никогда не случалось в русской истории. Данная тактика временами использовалась в войнах, которые вело Московское государство, и иногда в Кавказской войне в XIX в., но к 1914 г. она считалась устаревшей. Русская армия впервые начала брать и удерживать заложников в оккупированной Галиции в сентябре 1914 г. Как сообщал новоявленный генерал-губернатор Галиции Г.А. Бобринский, эта мера позже широко применялась и стала основной во время отступления из Галиции как гарантия от доносительства и шпионства евреев против русской армии{482}.[150]150
Сама по себе эта практика имела некоторые аналоги в традиции круговой поруки во внутренней и военной политике допетровской России, на что и указывали некоторые критики как на свидетельство «средневекового варварства» режима и абсолютного беззакония в подходах к еврейскому вопросу. См.: Из черной книги российского еврейства. С. 225—226, 264.
[Закрыть] Лишь около 400 евреев были взяты в заложники в оккупированной Галиции, что не идет ни в какое сравнение с практикой, которая стала систематически применяться в мае 1915 г. вдоль всей линии фронта на российской территории. Сводных данных по этому вопросу нет, но только штабы 1-й и 10-й армий в конце мая 1915 г. докладывали о 4749 удерживаемых заложниках (практически все из которых были евреями){483}.
Тактика удержания заложников широко применялась и местными гражданскими властями, как правило, в ответ на запросы военных.
Служащие губернских канцелярий составляли списки потенциальных заложников, а когда последних задерживали, с них необходимо было взять расписку в том, что они осведомлены о грозящей им казни в случае, если кто-либо из членов их общины будет уличен в шпионаже или иной помощи врагу{484}.
Один из самых примечательных документов военного времени был подписан генералом Алексеевым 30 июня 1915 г. Этот документ – «Правила высылки евреев из военных округов Северо-Западного фронта» – представлял собой тщательно разработанный стратегический план относительно евреев. Он официально подтверждал право командующих армиями приказывать губернаторам высылать евреев из районов расположения войск и детально прописывал процедуру взятия заложников{485}. Любая еврейская община, которой разрешено было оставаться в районе расположения войск, должна была выделить из своей среды заложников в качестве гарантий лояльности. Правила подтверждали, что заложники должны были содержаться под полицейским надзором в своих общинах. Но во время вражеского наступления и при отступлении русской армии из данного района заложники должны были арестовываться и высылаться гражданскими властями под конвоем. В последующих приказах о высылке и взятии заложников часто цитировались эти Правила, остававшиеся в силе до февраля 1917 г.
Взятие и удержание заложников продолжалось в течение всего лета 1915 г. Многих из них под охраной отправляли в тюрьмы Полтавы, Киева, Вильно и других городов внутренних губерний. В августе под напором критики со стороны Думы Совет министров убедил военные власти, возглавляемые теперь несколько более рассудительным начальником штаба Ставки М.В. Алексеевым, отказаться от этих драконовских методов. Это позволило еврейским заложникам вернуться в места своего постоянного проживания (если они не были на тот момент оккупированы противником). Однако заложники, которым было разрешено вернуться, оставались под полицейским надзором и сохраняли «статус» заложников, которых следовало казнить, если кто-либо из военных чинов заподозрит члена их общины во «враждебном отношении к русским войскам или в шпионаже»{486}.
Общее число взятых во время войны заложников определить крайне трудно. Если 5 тыс. человек были взяты уже в мае 1915 г. только двумя армиями, то общее число заложников за всю войну должно исчисляться десятками тысяч. После принятого в августе 1915 г. решения, позволявшего заложникам оставаться в своих общинах при условии получения от них подтверждавших их новый «статус» расписок, подобная тактика приняла локальный характер[151]151
На самом деле до сентября 1915 г. так и не было создано специального бюрократического органа для согласования вопросов, касавшихся взятия и удержания заложников; когда же он был создан, то сосредоточился на заложниках, взятых на оккупированных территориях, в основном работая с дипломатической перепиской по данной проблеме и практически не занимаясь условиями содержания, правомерностью и адекватностью наказаний для заложников из числа российских подданных. АВПРИ. Ф. 323. Оп. 617. Д. 83. Л. 61; Ф. 157. Оп. 455а. Д. 238. Т. 3.
[Закрыть]. Крайняя степень рассредоточения евреев обнаружилась в 1917 г., когда Временное правительство столкнулось с большими трудностями при попытке установить местонахождение и личные данные людей, по-прежнему считавшихся заложниками. Временное правительство не ввело всеобщей амнистии для евреев-заложников, даже являвшихся российскими подданными, а военные власти успешно препятствовали освобождению отдельных заложников на протяжении ряда месяцев после Февральской революции{487}. Хотя общее число заложников остается неустановленным, количество еврейских общин, которым угрожали расправой над их влиятельными членами по прихоти местного гражданского или военного начальства, было несомненно велико. К концу 1915 г. выселения и массовое взятие заложников пошли на убыль. Однако окончательно они не прекратились; это было скорее не изменение тактики, а результат стабилизации положения на фронтах; командование сохраняло за собой право выселять евреев из прифронтовой зоны и брать заложников, что и случалось время от времени вплоть до Февральской революции{488}.
Насилие и погромы
Одним из важнейших и наименее изученным последствием массовых депортаций стала волна погромов и насилия, достигшая пика в период отступления русских армий с апреля по октябрь 1915 г., но также сопровождавшая выселения до и после данного периода. Одна существенная черта отличала насилие против евреев от довоенных погромов – роль армии. Ряд исследователей недавно заявил в своих работах, что высшие правительственные круги до войны не одобряли погромного движения{489}.[152]152
На основании подробных исследований более ранних погромов (1881—1884 гг. и 1902– 1906 гг.) авторы и редакторы данного коллективного исследования пришли к выводу, что высокопоставленные гражданские чиновники никогда не организовывали и не одобряли погромов как систематического явления.
[Закрыть] То же самое, во многом, наблюдалось и во время войны. Совет министров и представители других высших гражданских властей неоднократно высказывались против погромов. В действительности уже 15 августа 1914 г. генерал-губернатор Варшавы, описывая антисемитскую кампанию на подчиненной ему территории, предсказывал в письме в Совет министров, что война повлечет за собой массовые погромы{490}. Он предупреждал, что, несмотря на все возможные превентивные меры, ситуация может выйти из-под контроля, если солдаты станут провоцировать насилие против евреев. Почти на всей территории на военном положении, где находились еврейские поселения, гражданские власти практически ничего не смогли сделать, чтобы остановить насилие, исходившее от армии{491}.
Причина столь неустойчивого положения заключалась в том, что с самого начала войны экономические мотивы играли важную роль в высылке евреев. Например, уже 14 октября 1914 г. 4 тыс. евреев были изгнаны из своих домов в местечке Грозин (Варшавская губерния) и отправлены пешком в Варшаву. Им не дали повозок, чтобы вывезти свои вещи, а вскоре после их ухода местные поляки присвоили их имущество и торговые заведения. Когда нескольким изгнанникам было разрешено вернуться неделю спустя, местные власти отказались вмешаться, чтобы помочь им вернуть свое имущество и жилье{492}. По мере того как с начала 1915 г. высылки становились все более частым явлением, грабежи и присвоение имущества евреев также резко участились. Совет министров выражал озабоченность по поводу вопиющего нарушения главнейших правовых норм по защите частной собственности и вскоре установил строгие правила, по которым все имущество высланных (прежде всего немцев, вражеских подданных и евреев) должно было быть секвестровано Министерством государственных имуществ и взято под охрану местными властями{493}. Последним с трудом удалось остановить грабежи и самовольный захват имущества высланных российско-подданных немцев и вражеских подданных, но они не смогли или не пожелали сделать того же по отношению к собственности евреев.
Когда в апреле—мае 1915 г. высылка евреев приобрела массовый характер, грабежи и самовольный захват брошенного имущества быстро переросли в насилие против евреев как до, так и во время их выселения или депортации. В некоторых районах евреев сгоняли, погружали в железнодорожные вагоны и отправляли к месту высылки как обычно жестоко, но организованно; в других же местах этот процесс сопровождался крайними проявлениями насилия и хаоса. Типичным примером последнего стали события в городке Шедува Ковенской губернии. Население города составляло 5 тыс. человек, половина из которых была евреями. Вторую половину составляли поляки и литовцы, а также некоторое количество русских гражданских служащих и железнодорожных рабочих. В конце апреля 1915 г. немецкие войска на неделю заняли город, отступив 2 мая. После их ухода русские разведывательные и казачьи отряды вошли в город и, как позже свидетельствовали местные евреи, незамедлительно начали грабеж еврейских домов и магазинов. Несколько женщин были изнасилованы. Одному еврею выкололи глаза за то, что он не мог заплатить казакам, сколько те требовали. Казаки отдали часть награбленного местным крестьянам и подстрекали их к участию в погромах. На следующий день все еврейское население покинуло Шедуву и отправилось в близлежащее село Баукай. Туда пришел другой отряд казаков, и снова началось насилие.
Евреев вновь выгнали и заставили бросить на месте то немногое, что им удалось вывезти из Шедувы. На следующий день (5 мая) группа евреев, изгнанных сначала из своих домов, а потом и из первого пристанища, получила уведомление о том, что в течение шести часов они должны уйти еще дальше от линии фронта. Поскольку поездов им не предоставили, большинство из них пошло пешком в Поневеж{494}. Жители десятков еврейских городков и местечек Курляндской и Ковенской губерний прошли через подобные испытания в апреле и мае. Несомненно, до конца войны столь жестокие операции в районах расположения войск нередко повторялись, особенно в период отступления русских войск, которое длилось до октября 1915 г.{495}
Наиболее точные из ныне доступных документов о погромах были собраны Еврейским комитетом помощи жертвам войны, получавшим отчеты от своих представителей в общинах, подвергшихся насилию и выселению. Документы этого комитета полностью не сохранились, но те из них, что были опубликованы, как, впрочем, и неопубликованные, дают достаточно оснований для общей характеристики волны погромов, прокатившейся с апреля до конца октября 1915 г. по черте оседлости[153]153
Последующие данные основаны на отчетах именно такого типа, составленных Группой еврейских общественных деятелей – межпартийным обществом ведущих еврейских общественно-политических деятелей. Группа собирала копии официальных документов и отчетов о ситуации в подвергшихся репрессиям общинах. См.: ГАРФ. Ф. 9458. Оп. 1. Д. 163. YIVO (New York). Коллекция Давида Мовшовича. Д. 13090—13245; Из черной книги российского еврейства. С. 231—296. Отчет о событиях, основанный прежде всего на этих материалах, см.: American Jewish Committee // The Jews in the Eastern War Zone. New York, 1916.
[Закрыть]. Сведения, приводимые далее, основаны на документированных сообщениях о 19 погромах в Виленской, 13 в Ковенской, 7 в Волынской и 15 в Минской губерниях. Из этих 54 выборочных случаев лишь трижды погромы начинались в отсутствие солдат. Очевидно, что практически всегда именно военные выступали инициаторами насилия. Точнее говоря, видимо, именно казачьи части спровоцировали практически все погромы. Более 80% отчетов свидетельствуют, что появление казаков в определенном районе было ключевым событием, побуждавшим местное население к погромам. В некоторых случаях при появлении в городе частей регулярной армии погромы не начинались в течение нескольких дней; однако стоило войти в город даже небольшому казачьему отряду, как сразу начинались грабежи и насилие. Данная схема была широко известна в прифронтовых районах, и в августе 1915 г. местные крестьяне, как правило, появлялись на окраинах еврейских поселений, когда разносился слух о появлении в данной местности казаков, даже если последние еще не начинали погрома. Насилие главным образом было связано с попытками вымогать у евреев деньги; изнасилования упоминались в каждом третьем отчете.
Погромы, описанные в этих документах, не всегда связаны с конкретными приказами о высылке евреев из затронутых отступлением районов. Казачьи офицеры часто пользовались своими правами по высылке евреев в целях грабежа. В некоторых случаях офицеры и казаки приказывали евреям покинуть свои дома в течение нескольких часов или даже минут, не давая им повозок для вывоза имущества, а также избивали и грабили их, пока те уходили. Отступление от официальной политики, стремящейся гарантировать государственную и общественную безопасность, и переход к неприкрытым грабежам и вымогательствам особенно отчетливо проявились в практике заложничества. Данная мера, введенная в качестве коллективной ответственности евреев за якобы имевший место шпионаж, зачастую использовалась просто как узаконенное вымогательство. Судя по отчетам с мест, офицеры (прежде всего казачьи) брали в «заложники» видных местных евреев и грозили убить их, если родственники или община не заплатят выкуп. В одном из случаев казачий офицер методично ходил от одного дома в городке к другому, беря в «заложники» почти каждого взрослого мужчину, пока не получал выкуп за освобождение каждого из них{496}.
Почти в каждом пятом отчете указывалось, что слухи о денежных кладах евреев служили побудительным мотивом к участию в погромах и для местного населения. Представление о том, что евреи хранили свои сбережения в золотых и серебряных рублях, в каком-то смысле было не лишено оснований. Принимая во внимание растущую инфляцию, и евреи, и христиане имели все основания держать свои сбережения по возможности в доступных драгоценных металлах и не менять их на быстро обесценивавшиеся бумажные банкноты{497}. Местные чиновники и газеты распространяли слухи о еврейских кладах, и, как следствие, некоторые погромы начинались после того, как казак, солдат или местный житель, зайдя в еврейскую лавку с целью обменять бумажные деньги на золотые монеты, получал отказ{498}. Таким образом, на всех прифронтовых территориях инфляция военного времени обострила отношения между евреями и христианами, которые и в довоенный период были достаточно напряженными. Это в первую очередь происходило в Польше, где еще до войны поляки под предводительством Национально-демократической партии Польши (Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne) бойкотировали еврейские торговые предприятия. Схожие явления случались в Прибалтике, на Украине и в некоторых регионах России{499}.
Но существуют примеры и того, как местные крестьяне и горожане, солдаты и даже казаки защищали евреев от нападений. В тех случаях, когда военные власти давали понять, что насилие против евреев и их имущества не останется безнаказанным, погромов не случалось, причем даже тогда, когда возникал вопрос о золотых кладах и напряжение между евреями и христианами обострялось до предела. Показательный пример такого рода – ситуация в Риге, где генерал Е.Л. Радкевич успешно предотвратил погром, несмотря на напряженную антисемитскую атмосферу и многочисленные погромы в близлежащих районах вне зоны его полномочий{500}. Практически всегда схема возникновения погромов была одинаковой: только когда регулярные или казачьи части провоцировали насилие, тогда и местное население принимало в нем активное участие. Несмотря на это, тактика военных потворствовала участию гражданского населения в грабежах и массовых насилиях и тем самым способствовала ужесточению общей политики властей на затронутых погромами территориях.
Если высылка евреев почти всегда проводилась наиболее жестокими методами, то депортация немцев, иностранцев и других лиц редко была более щадящей[154]154
Что касается российско-подданных немцев, то имеющиеся исследования не позволяют однозначно заявлять о массовом насилии по отношению к ним в процессе высылок. Однако один из свидетелей высылки немцев из Волынской губернии утверждал, что казаки довольно широко применяли насильственные меры по отношению к немцам, действуя по той же схеме, что и при высылке евреев. См.: Krueger A. Die Fluchtlinge von Wolhynien: Der Leidensweg russlanddeutcher Siedler, 1915—1918. Plauen, 1937. Весьма бедно прокомментированное, но, вероятно, основанное на сообщениях очевидцев исследование также повествует о широком применении насилия: Giesbrecht W. Die Verbannung der Wolhyniendeutschen, 1915/1916 //Wolhynische Hefte. 1984. No. 3. S. 43-97; 1986. No. 4. S. 9-97; 1988. No. 5. S. 6-62.
[Закрыть]. К концу 1916 г. полиция была завалена сообщениями о том, что крестьяне вырубают леса на участках, принадлежавших немцам и вражеским подданным, грабят имущество высланных и распространяют слухи о готовящихся «больших беспорядках» против немецких фермеров{501}. Проблема массового насилия не исчерпала себя после Февральской революции и фактически приобрела еще больший масштаб, когда тысячи высланных российских подданных попытались вернуться в свои дома. Хотя Временное правительство сняло все ограничения подобного рода с российских подданных, военные власти продолжали препятствовать возвращению из мест высылок всех лиц еврейского, немецкого и татарского происхождения, а также блокировали попытки правительства разработать схемы возвращения имущества выселенцев. Армия делала все возможное, чтобы воспрепятствовать возвращению высланных российских подданных, и не выдавала никаких официальных разрешений на возвращение, но она не могла предотвратить и стихийное движение подобного рода, принявшее значительные масштабы[155]155
Командующие фронтами и армиями настаивали на том, что ни одно ранее высланное лицо не должно получать права на возвращение без особого разрешения военных властей, выдаваемого в каждом конкретном случае. Поскольку данная процедура включала подробное расследование обстоятельств жизни каждого выселенца на предмет его благонадежности, данная установка блокировала все попытки возвращения, пока требования военных не были сняты в течение лета 1917 г. См.: РГВИА. Ф. 2005. Оп. 1. Д. 28. Л. 316-318; Ф. 2032. Оп. 1. Д. 281. Л. 408 (A.M. Драгомиров – в Ставку, 15 мая 1917 г.); Ф. 2049. Оп. 1. Д. 452. Л. 117-130.
[Закрыть]. Губернаторы докладывали, что когда ранее высланные немецкие колонисты, евреи и другие лица возвращались к местам проживания, то между ними и новыми владельцами их жилищ, земель и предприятий часто вспыхивали жестокие конфликты{502}. Например, с апреля по сентябрь 1917 г. МВД получило немало донесений о том, что большое количество ссыльных немцев «стихийно» возвращаются в свои дома на юго-западе страны. В некоторых случаях они выгоняли украинских беженцев, которых власти разместили на их землях в 1916 г. В других случаях новые владельцы успешно защищали свое недавно приобретенное имущество от бывших собственников. Местные власти откровенно не знали, что делать. Они оказались в патовой ситуации, созданной распоряжениями Временного правительства, восстанавливавшими ссыльных во всех правах, и противоположными приказами военных властей. В результате не было выработано никакой четкой политики, и жесткое противостояние, временами переходившее в насилие, продолжалось{503}. В этот конфликт оказались вовлечены и украинская Центральная Рада, и немецкие общественные организации, остро критиковавшие правительство за его неспособность занять твердую позицию по данному вопросу{504}. Насилие вспыхивало также в районах, куда ссылали вражеских подданных; один из самых значительных случаев – крупный погром мирных неприятельских подданных, который произошел в Вятке 24 апреля 1917 г.{505}
Политика армии и спровоцированное ею насилие имели серьезные последствия в широком контексте войны и революции. Во-первых, они подрывали военные усилия России. Репрессивные меры не только наносили огромный ущерб местной экономике, но и вызывали перебои в работе железнодорожного транспорта, что в свою очередь порождало хаос и дороговизну во внутренних губерниях, вынужденных справляться с наплывом выселенцев. Разрушение и разграбление предприятий, складов и магазинов на местах также отрицательно сказывалось на армии, затрудняя снабжение солдат продовольствием и медикаментами{506}. Представление о масштабе нанесенного урона можно составить по исследованию, проведенному сотрудниками еврейских комитетов взаимопомощи среди 2300 евреев, высланных в Полтаву. По данным анкетирования, уничтоженное или разграбленное имущество только этой небольшой группы людей оценивалась более чем в 1 млн. руб.{507}Во-вторых, массовые высылки заставили царский режим разрубить гордиев узел ограничений мест проживания для евреев, который был завязан и с таким трудом затянут в предыдущем столетии: это позволило евреям селиться в городских поселениях различных губерний по всей стране. И хотя слом черты оседлости в некотором смысле стал актом исторического освобождения, о котором мечтали многие поколения евреев, это событие имело свои темные стороны. Военные и правая пресса способствовали распространению того мнения, что евреи высылались из прифронтовых районов как подозреваемые в шпионаже, что вызывало нарастание напряженности между местными жителями и прибывавшими еврейскими выселенцами. Действительно, погромы 1918—1919 гг., в которых участвовали все стороны Гражданской войны и которые привели как минимум к 100 тыс. жертв, нельзя рассматривать в отрыве от условий, в которых произошел слом черты оседлости. Как показал Ганс Роггер, география бунтов и погромов на национальной почве в контексте определенных исторических и национальных условий свидетельствует о том, что насилие имеет тенденцию концентрироваться в тех местах, куда в течение короткого времени приезжает большое количество мигрантов другой национальности. Вряд ли можно считать совпадением то, что самые страшные погромы 1919 г. произошли в губерниях, куда было выслано больше всего евреев во время войны{508}.[156]156
По мнению Питера Гэтрелла, 2/5 насильственно перемещенных евреев направлялись именно в те регионы Российской империи, которые до этого были для них закрыты. Gatrell P. A Whole Empire Walking. Bloomington, 1999. P. 146.
[Закрыть]

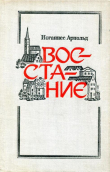




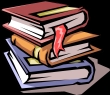
![Книга Шпионаж во время войны [сборник] автора Робер Букар](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shpionazh-vo-vremya-voyny-sbornik-212070.jpg)