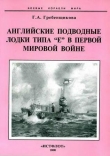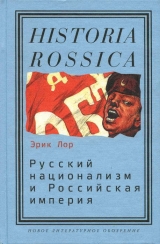
Текст книги "Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны"
Автор книги: Эрик Лор
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Статистика последствий экспроприации
Непосредственные земельные конфискации прежде всего относились (и наиболее полным образом их затрагивали) именно к неприятельским подданным. Доклады губернаторов показывают, что к лету 1916 г. в большинстве губерний все до единого земельные имущества вражеских подданных были конфискованы. Однако вражеские подданные владели сравнительно небольшой долей земли, намеченной для экспроприации (2906 участков общей площадью 296 351 дес.){392}.
Экспроприация земель русских враждебных подданных в крупных масштабах практически не начиналась до конца 1916 г., поскольку февральские указы содержали целый ряд ограничений, а также по причине постоянно передвигаемых сроков окончания кампании, растянувших процесс их исполнения на долгие месяцы. Лицам, чья собственность оказалась внутри 150– и 100-верстного запретных поясов, было предписано окончательно покинуть запретные зоны соответственно в десяти– и шестимесячный срок после публикации списков участков, предназначенных к конфискации. Большинство списков были опубликованы между апрелем и июнем 1915 г., следовательно, экспроприация не могла начаться до февраля 1916 г. Указы декабря 1915 г. ужесточили данные условия, предоставляя всем российским подданным лишь 10 месяцев после публикации списков до начала принудительной конфискации. Поскольку к марту 1916 г. в районах, включенных в действие репрессивного законодательства в декабре 1915 г., были опубликованы лишь немногие списки, конфискация там могла начаться только в начале 1917 г.
Исходя из такого графика, нисколько не удивительно, что лишь небольшая часть появившихся в списках земельных имуществ была реально конфискована до Февральской революции. В нашем распоряжении нет точных данных о большей части «добровольных» распродаж земли фермерами, пытавшимися выручить хотя бы что-то до истечения указанных сроков; доступны лишь разрозненные цифры о принудительных аукционах. С того момента как Крестьянский банк в декабре 1915 г. получил право преимущественной покупки земель враждебных подданных, он начал вести наиболее полную и точную регистрацию конфискаций. Согласно этим данным, на 1 января 1917 г. 1923 земельных участка, принадлежавших российским подданным, общей площадью 665 892 дес. были принудительно направлены на публичные торги и проданы по совокупной цене в 123 млн. руб. Кроме того, сам Крестьянский банк принял решение о приобретении 1127 участков площадью 516 749 дес. и к тому времени уже завершил процедуру покупки 431 участка общей площадью 144 894 дес. и стоимостью 22 млн. руб.{393}
Конфискации продолжали проводиться с возрастающей скоростью в первые два месяца 1917 г. вплоть до Февральской революции. В печати сообщалось о крупных распродажах земли на публичных торгах в эти два месяца, включая 100 тыс. дес. в январе в Херсонской губернии и 130 тыс. дес. в Бессарабской губернии за один день торгов{394}. По подсчетам Линдемана, в феврале в южных губерниях проводилось 20—30 аукционов ежедневно{395}. Крестьянский банк в начале 1917 г. также резко увеличил свою активность в приобретении земли. К 1 марта он приобрел уже 920 тыс. дес. за 140 млн. руб.{396}
К началу Февральской революции царский режим всенародно объявил о своем стремлении конфисковать земельные владения общей площадью более 6 млн. дес. более чем у полумиллиона своих подданных и уже начал этот процесс, насильственно экспроприировав около 2 млн. дес, не говоря уже о значительных земельных имуществах, переданных новым хозяевам на территориях, находившихся на военном положении[134]134
Число в 2 млн. дес. взято из отчетов Крестьянского банка на 1 января и 1 марта 1917 г. и из отдельных газетных сообщений о земельных аукционах, не включенных в эти данные (250 тыс. дес). Естественно, это грубые подсчеты. Нужно отметить, что эти цифры значительно выше, чем данные, приводимые ведущими историками России и Германии, изучавшими этот вопрос. Например, Флейшхауэр утверждает, что лишь 500—600 тыс. дес. было экспроприировано за время войны. Цифры, приведенные Нольде, недооценивают масштабы конфискаций, поскольку он использовал опубликованные данные только за лето 1916 г., т.е. еще до начала активного применения ликвидационных мер осенью того же года. Соболев, приводящий данные на 1 января 1917 г., в основном ограничивается деятельностью Крестьянского банка, игнорируя продажи на аукционах, секвестры военных властей и разрыв арендных договоров. Таким образом, он также недооценивает масштаб запланированных переделов земельной собственности. См.: Fleischhauer I. The Germans' Role in Tsarist Russia. P. 27; Nolde B.E. Russia in the Economic War. P. 114; Соболев И. Г. Крестьянский поземельный банк и борьба с «немецким засильем» в аграрной сфере (1915– 1917) // Вестник Санкт-Петербургского университета. 1992. Сер. 2. Вып. 3. № 16. С. 24-29.
[Закрыть]. Построенные на довоенных административных моделях и правилах, ограничивающих землевладение исходя из признаков национальности и гражданства, проекты, реализованные в течение Первой мировой войны, распространили репрессивную политику, основанную на принципах земля = национальность, на новые группы населения.
Программа была нацелена на радикальную трансформацию демографических показателей земельной собственности и расселения в империи, стремясь навсегда удалить определенные категории населения и заменить их представителями привилегированных национальностей. Выбор правительства в пользу именно такой конфискационной кампании имел принципиальное значение в свете растущего напряжения в деревне вокруг вопросов частной собственности на землю в целом. В некоторых районах значительного немецкого расселения, таких как Волынская губерния, немцы составляли основную массу сельского населения, ведущего хуторское хозяйство[135]135
Многие губернии, где столыпинская аграрная реформа проходила особенно успешно (Екатеринославская, Харьковская, Херсонская, Самарская, Саратовская, Таврическая), также являлись основными районами расселения немцев-колонистов. Fallot J. Land Reform in Russia. P. 44, 97, 103.
[Закрыть]. Превращение немцев во врагов, чье имущество подлежит конфискации, придавало статус официально одобренной популярной идее, бытовавшей среди крестьян, о том, что хутора и другие формы частной земельной собственности незаконны{397}.[136]136
Примечательно в этой записке то, что волынский губернатор сам придерживался тех же взглядов, предполагая, что единственный путь для русских конкурировать с немцами на равных – это включить индивидуальные земельные участки немцев в состав русских крестьянских общин и подчинить их общинным порядкам. По свидетельству Харламова, надзиравшего за исполнением ликвидационных указов на юге России, среди крестьян во время войны широко распространились слухи о том, что немцы приобрели свои хутора незаконно и поэтому не имеют на эти земли никакого права. См.: ОР РГБ. Ф. 261. Кар. 20. Д. 6. Л. 3.
[Закрыть] На макроуровне экспроприация частной земельной собственности (той самой, которую Столыпин стремился создать) в масштабах, сопоставимых с результатами столыпинской аграрной реформы, указывает на важнейший сдвиг в политике самого правительства[137]137
Если включить в анализ 1907—1909 гг., то объемы немецких земельных приобретений приблизятся к половине всех перешедших в частную собственность земельных участков в 1907—1915 гг.: Atkinson D. The End of the Russian Land Commune. P. 16,78. Недавние исследования столыпинской аграрной реформы часто подчеркивают принудительный, «административно-утопический» характер ряда мер, направленных на радикальное переустройство деревни, намекая на некоторую схожесть их с советскими методами. Кампанию против всех видов имущества враждебных подданных можно рассматривать с тех же позиций (хотя и при совершенно другой оценке столыпинских реформ), т.е. как радикальный, принудительно осуществляемый проект, нацеленный на уничтожение частной собственности и всего враждебного населения деревни, реализовывавшийся методами, предвосхищавшими большевистскую коллективизацию. См.: Yaney G. The Urge to Mobilize; Pallot J. Land Reform in Russia; Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми: Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России, 1861—1914. М., 2006.
[Закрыть]. Во время войны режим решился на резкий разворот от поддержки обширной программы по созданию и защите частного землевладения к сопоставимой по масштабу программе «национализации» земли путем конфискации частного земельного имущества.
Глава 5.
ВЕЛИКОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ
Из всех практик, составляющих идеологию «национализирующегося государства» (nationalizing state), насильственное переселение – едва ли не самая драматичная. Насильственное перемещение населения, последовавшее за Балканскими войнами непосредственно перед Первой мировой войной, депортации армян в 1915 г., взаимообмен населением ряда государств накануне Первой мировой войны и еще более масштабные перемещения и массовые убийства во время Второй мировой войны и их последствия – все это показывает, насколько важны были принудительные перемещения народов для перестраивания имперского и постимперского пространства в национальные государства. В этом широком контексте насильственное перемещение национальных групп внутри Российской империи во время Первой мировой войны занимает важное место в истории Европы как один из наиболее ранних примеров широкомасштабного, санкционированного государством насильственного переселения в XX столетии. Это был важный первоначальный шаг в сторону от имперского мироустройства и «смешения» (mixing) народов в течение периода долгого мира в XIX в., предшествовавшего 1914 г., к «обособлению» (unmixing) народов в эпоху войн и становления национальных государств.
Поначалу казалось, что массовые операции военных властей в ближнем тылу направлены на решение проблем безопасности, вытекающих из самой природы тотальной войны, особенно такой, в которую массово вовлечено гражданское население воюющих сторон. Исходя из этого, первая подобная масштабная операция военного времени была направлена на интернирование всех подданных враждебных государств мужского пола призывного возраста с целью предотвратить их отъезд на родину и поступление на службу в армии своих стран. Однако подвергавшиеся выселениям категории населения постепенно расширялись, пока не охватили практически всех подданных враждебных государств, включая мужчин всех возрастов, женщин и детей, а затем продолжили стремительное расширение и на российских подданных немецкой, еврейской и других национальностей. Каждая такая операция сразу приобретала черты всеобъемлющей национализации посредством конфискации земельных владений, предприятий и движимого имущества, меняя дальнейшие цели и природу операции по мере ее осуществления. В этой главе рассматривается насильственное переселение каждой из основных групп населения империи, пострадавших от данных репрессивных мер: подданных враждебных государств, российско-подданных евреев и немцев, а также несколько менее масштабных случаев переселения других этнорелигиозных меньшинств.
Высылка и интернирование вражеских подданных
Правила военного положения напрямую давали военным властям на подконтрольной им территории право принуждать гражданских чиновников высылать любого человека или группу лиц за пределы конкретного уезда или в глубь страны. Военные власти сразу же после начала войны воспользовались этим правом, чтобы отдать приказ о первой массовой высылке и интернировании вражеских подданных. 25 июля 1914 г. исполняющий обязанности начальника Генерального штаба М.А. Беляев отдал приказ о высылке всех подданных неприятельских государств мужского пола призывного возраста, проживавших на подчиненной военным властям территории, и интернировании их в специальные лагеря в Вятке, Оренбурге и Вологде{398}.[138]138
Семьям интернированных позволялось сопровождать их, и многие так и сделали.
[Закрыть] Переписка между военными чинами, осуществлявшими эту процедуру, показывает, что она рассматривалась ими как полномасштабная военно-стратегическая операция, направленная на недопущение поступления вражеских подданных мужского пола на службу во вражеские армии. Поскольку на самом деле трудно было отличить резервистов от потенциальных призывников, военные власти и МВД постановили, что «все подданные Германии и Австрии мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет», т.е. считавшиеся физически способными носить оружие, должны быть интернированы{399}. МВД взяло на себя надзор за этими ссыльными и отделяло их от военнопленных, создав для них новую категорию – «гражданские выселенцы», и в первые несколько дней действия военного положения распространило возможность применения данной меры на всю территорию империи{400}.
Для проведения первых массовых высылок военного времени МВД открыло ряд этапных пунктов в крупных городах по всей империи, используя для этого тюрьмы, охраняемые бараки или наскоро обустроенные лагеря временного содержания. Из этих пунктов выселенцев под охраной партиями отправляли в опечатанных товарных вагонах в одну из предварительно назначенных губерний{401}. 18 октября 1914 г., за день до того как Россия объявила войну Османской империи, Совет министров при поддержке военных властей постановил распространить все меры, применяемые к германским и австрийским подданным, на подданных Османской империи{402}.
Интернирование этой сравнительно ограниченной категории вражеских подданных, проживавших на с некоторых пор подконтрольных военным властям территориях Российской империи, затронуло около 50 тыс. человек (из предполагаемых 600 тыс. подданных враждебных государств, постоянно проживавших в империи)[139]139
Фактическое применение этих циркуляров прошло гораздо оперативнее в прифронтовых районах, чем внутри страны. Отчеты губернаторов Министерству внутренних дел о выполнении предписаний показывают, что к сентябрю 1914 г. около половины выявленных во внутренних российских губерниях иностранцев, подлежавших призыву в армии Центральных держав, было выслано. ГАРФ. Ф. 102, II. Оп. 71. Д. 102 (1914 г.). Л. 1—10, 15– 127; Немцы и Оренбургский край: Сборник материалов областной научной конференции, посвященной 250-летию Оренбургской губернии и 60-летию Оренбургской области (17 дек. 1994 г.) / Под общей ред. А.В. Федоровой. Оренбург, 1994. С. 25—26. 31 октября 1914 г. тремя членами царской свиты были проведены специальные изыскания и представлены далеко не полные данные о числе высланных вражеских подданных из всего лишь 11 губерний, по материалам полицейских отчетов. Они указывали, что 35 тыс. неприятельских подданных уже находятся под полицейским надзором в этих губерниях и более половины из них подлежит призыву в армии вражеских государств. (Эти данные включали лишь 7,5 тыс. подданных Османской империи, поскольку их высылка продолжалась к тому моменту всего неделю после вступления Турции в войну.) Точных данных о числе вражеских подданных мужчин призывного возраста, высланных за время войны, не имеется, однако уже в январе 1915 г. Департамент полиции докладывал, что под полицейским надзором находятся 55 580 вражеских подданных, размещенных в 19 губерниях. Два самых крупных лагеря для интернированных вражеских подданных призывного возраста находились в Вологде и Оренбурге, где содержались соответственно около 5 и 10 тыс. человек. ГАРФ. Ф. 102, II. Оп. 71. Д. 102 (1914 г.). Л. 15-127.
[Закрыть]. Эта операция во многом объясняется созданием по всей Европе системы массовых резервных армий, что подразумевало восприятие мужчин призывного возраста как потенциальных вражеских солдат в случае, если бы им было позволено выехать на родину. Все другие воюющие страны приняли схожие меры, и эта категория населения составила основную часть вражеских подданных, интернированных по всему миру во время Первой мировой войны. Хотя интернирование этой категории было напрямую связано с проблемами безопасности, само по себе оно, по мнению некоторых ученых, являлось существенным отступлением от сложившейся мировой практики ведения войн, создавая новую категорию пленных: гражданский подданный враждебного государства{403}.
В начале войны мало кто ожидал, что всех гражданских подданных вражеских государств (женщин, детей, мужчин, непригодных для службы во вражеских армиях) коснутся законы военного времени, не говоря уже о высылке. На самом деле в циркуляре МВД от 26 июля 1914 г. недвусмысленно указывалось, что мирные «австрийцы и германцы, находящиеся вне всякого подозрения, могут оставаться в своих местах проживания и пользоваться покровительством наших законов или выехать за границу»{404}. Некоторое количество вражеских подданных смогли покинуть страну в первые дни войны, но к концу первой недели военные власти надежно закрыли границы. Хотя Министерство иностранных дел достигло соглашения с Германией и Австрией по некоторым вопросам обмена гражданскими подданными, военные власти и МВД фактически имели возможность блокировать выполнение этих соглашений. Маловероятно, что империю смогли покинуть более 10 тыс. гражданских вражеских подданных, и это составило менее 4% лиц этой категории, интернированных внутри России, и всего 2% от общего числа вражеских подданных, проживавших в России до войны{405}.
Представление о необходимых для поддержания безопасности государства мерах быстро расширялось в сознании военного командования. В отдельных случаях некоторые военные чины отдавали приказы о «полном очищении» прифронтовых районов от всех без исключения вражеских подданных уже в первые недели войны. 27 июля 1914 г. Верховный главнокомандующий вел. кн. Николай Николаевич приказал высылать любых подозрительных иностранцев из районов активных боевых действий{406}. Такие далекоидущие распоряжения наряду с широкими полномочиями военных властей вели к резкому расширению за намеченные пределы категории высылаемых лиц, т.е. мужчин, подлежавших призыву во вражеские армии. Уже в сентябре 1914 г. военные власти включили женщин и детей в число 7 тыс. высылаемых из Риги вражеских гражданских подданных. Операция была настолько масштабной, что только 80 человек получили разрешения остаться{407}.
Изначально, в августе и сентябре, высылки в прифронтовых районах происходили спорадически, однако 3 октября 1914 г. вел. кн. Николай Николаевич направил в Совет министров телеграмму, ставшую одним из главных поворотных пунктов на пути к широкомасштабной и систематической программе высылки и интернирования. Великий князь заявлял о зверствах немцев и австрийцев на фронте и в качестве ответа требовал принятия «самых решительных и суровейших мер относительно подданных воюющих с нами государств без различия их общественного положения на всем пространстве России»{408}.[140]140
Тема вражеских зверств была основной в официальной пропаганде и российской печати военного времени. Анализ использования пропаганды в целом во время войны см.: Jahn H.F. Patriotic Culture in Russia during World War I. Ithaca; London, 1995. Действительно, можно привести отдельные примеры зверской жестокости, проявляемой на Восточном фронте германскими и австрийскими войсками. Однако большая часть этих случаев касается русских военнопленных, а не гражданских лиц. Наибольшую известность получил австрийский лагерь для военнопленных в Талергофе, где с русскими обращались довольно жестоко. См.: Талергофский альманах: Пропамятная книга австрийских жестокостей, изуверств и насилий над карпато-русским народом во времена всемирной войны 1914—1917 гг. Львов, 1925.
[Закрыть] Это позволило начальнику штаба Верховного главнокомандующего Н.Н. Янушкевичу издать ряд приказов, в соответствии с которыми в ближайших к фронту районах должны были систематически проводиться чистки населения от всех вражеских подданных без исключения.
Затем высылки быстро распространились на все подчиненные военным властям районы, в том числе и находившиеся довольно далеко от фронта. В ноябре 1914 г. генерал В.Ф. Сиверс приказал губернаторам прибалтийских губерний выслать всех оставшихся вражеских подданных из Рижского уезда и всей Курляндской губернии и просил позволения для военных выселять их из других пунктов вдоль побережья Балтийского моря, утверждая, что уже были случаи получения кем-то сигналов с германских военных кораблей. В первые три дня депортационной операции женщин и детей высылали вместе с мужчинами. На четвертый день в ответ на поток жалоб командующий операцией весьма неохотно дал разрешение оставлять женщин на месте, но только в том случае, если их лояльность не вызывала сомнений{409}.
13 декабря 1914 г. приказы о высылке приобрели поистине массовый характер. Главный начальник снабжений Северо-Западного фронта приказал переселить на восток всех подданных Австро-Венгрии, Германии и Османской империи из всех губерний Привислинского края (десяти губерний бывшего Царства Польского в составе Российской империи), освободив от этого лишь лиц славянского происхождения, которые оставались вне подозрений в шпионаже{410}. В течение следующих трех месяцев высшее военное командование издало ряд дополнительных приказов о полном очищении Волынской губернии и части Прибалтийского края от всех без исключения вражеских подданных, включая женщин и детей. Янушкевич неоднократно в письменной форме бранил командующих военными округами, примыкавшими к линии фронта, которые, как он считал, проявляли мягкость по отношению к вражеским подданным, и требовал, чтобы они выполняли все приказы о выселении в полном объеме и наказывали своих снисходительных подчиненных{411}.
Военные власти не только распространили высылку и интернирование вражеских подданных на все подконтрольные им обширные территории, находившиеся на военном положении, но и оказывали давление на гражданские власти с целью расширения подобных операций на районы глубокого тыла. Гражданские власти уже и сами подготовили для этого почву при помощи двух сентябрьских (1914 г.) циркуляров МВД, лишавших вражеских подданных прав судебной защиты по любому гражданскому иску, а также аннулировавших международные соглашения и конвенции о защите вражеских подданных. Кроме того, местным чиновникам было запрещено позволять вражеским подданным оставлять места проживания без письменного разрешения полиции[141]141
9 февраля 1915 г. Правительствующий Сенат подтвердил сентябрьское решение об отказе вражеским подданным в судебной защите, но в то же время постановил, что российские подданные имеют право подавать иски против неприятельских подданных. Таким образом, судебные процессы по гражданским искам против вражеских подданных проводились в отсутствие обвиняемых. РГИА. Ф. 1483. Оп. 1. Д. 14. Л. 151; Зайцев Л.М. Подданные враждебного государства и русские суды. Киев, 1915; Добрин С. Вопросы министра юстиции правительствующему Сенату о праве неприятельских подданных на судебную защиту // Право. 1915. № 6 (8 февр.). С. 345—356; ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 432. Л. 29 (Циркуляр губернаторам, подписанный Джунковским, 21 сентября 1914 г.).
[Закрыть]. 12 декабря 1914 г. Янушкевич писал командующему Петроградским военным округом, что «очищение» от вражеских подданных театра военных действий, включая и столицу империи, для обороны – дело первостепенной важности{412}. 20 декабря 1914 г. он приказал генерал-лейтенанту А.А. Маниковскому «очистить самым тщательным образом» стоверстную полосу вдоль побережья Финского залива, а также сложную цепь особых зон, поясов и полос внутри Петроградского района вдоль рек, вокруг оборонных предприятий и других стратегически важных объектов в столице и ее пригородах{413}. Янушкевич приказал не делать никаких исключений для высылаемых на основании социального статуса, славянского происхождения или по иным причинам{414}.[142]142
В последующие недели Янушкевич все же позволил не депортировать чехов и словаков, если они представят доказательства своей национальной принадлежности от Чешского и словацкого попечительского комитета, а проверка их прошлого докажет стопроцентную лояльность проверяемых. Вражеские подданные французского и итальянского происхождения также были освобождены от высылки на тех же условиях. Однако исключений не было сделано больше ни для одного славянского народа, если его представители не находились в процессе получения российского подданства с большой вероятностью его успешного завершения. Более широкие послабления для славян были приняты позже и рассматриваются ниже.
[Закрыть] 7 января 1915 г. генерал К.П. Фан-дер-Флит расширил запретную зону, включив в нее всю Эстляндскую (Эстония) и Лифляндскую (Литва) губернии, большую часть Петроградской и части Новгородской и Выборгской губерний{415}.
В апреле 1915 г. под давлением военных властей Департамент полиции присовокупил к требованиям военных свою сеть охраняемых территорий по всей стране, включавших двадцати– и пятидесятиверстные запретные полосы по обеим сторонам железных дорог, вдоль морского побережья и некоторых рек, а также охраняемые участки вокруг сотен предприятий, работавших на оборону. Гражданским властям предписывалось выселять с этих территорий всех вражеских подданных, включая лиц славянского происхождения, женщин и детей. Если вражеский подданный появлялся в этих запретных зонах, он мог быть обвинен в измене и судим военным судом. По мере развертывания военных действий особые зоны расширялись, поглощая все новые прифронтовые территории{416}.
К лету 1915 г. приказы о выселении охватывали уже всех вражеских подданных без исключений, проживавших на большей части территорий, подконтрольных военным властям, и в особых зонах, а также всех мужчин призывного возраста данной категории по всей империи. Однако несколько влиятельных военных чинов считали даже эти меры недостаточными и настаивали на более экстремальной тактике, которую можно назвать «жесткой политикой» выселения. Например, «главноначальствующий над Москвой» князь Ф.Ф. Юсупов, в мае-июле 1915 г. руководивший высылкой нескольких тысяч вражеских подданных из Москвы, в докладной записке царю в июне 1915 г. резко критиковал недостаточность депортационной политики на территориях, управлявшихся гражданскими властями. Он предлагал создать сеть концентрационных лагерей, в которые должны были направляться все без исключения подданные враждебных государств (а также российские подданные с немецкими фамилиями) на время войны. И хотя его предложение не было осуществлено в масштабах империи, Юсупову было разрешено продолжать свою активную депортационную политику в пределах Москвы{417}. Весьма значимый доклад, предназначенный для использования в штабе Верховного главнокомандующего и выдержанный в духе «жесткой политики» выселений, гласил, что ни один германский или австрийский подданный не может считаться безвредным; проверять нужно всех, что будет крайне дорого и не принесет успеха. На фоне множества патриотических выступлений, требовавших спасать Родину без всяких компромиссов, записка утверждала, что единственно верным решением было поголовное выселение{418}.
Действительно, на протяжении первой половины 1915 г. добиться льгот на основании возраста или пола потенциального выселенца становилось возможным все реже. 21 июня Янушкевич отдал приказ о немедленном выселении всех вражеских подданных, независимо от пола и возраста, ранее получивших разрешение оставаться в стоверстной зоне вдоль линии фронта и в приграничных районах{419}. Военные власти стремились к максимально полному очищению подконтрольных им территорий от вражеских подданных и требовали от гражданских властей следовать их примеру в других местностях. На практике эта операция, включавшая выявление и выселение более полумиллиона постоянных жителей империи, оказалась гораздо более сложной и проблематичной, чем ожидалось, в основном из-за того, что в число «неприятельских подданных» попало большое число славян (чехов, поляков, словаков, сербов и других), требовавших освобождения от высылки. Но даже с учетом того, что многих представителей перечисленных национальностей было решено не выселять, депортация затронула значительную часть вражеских подданных, постоянно проживавших в Российской империи. Суммарную статистику определить довольно сложно, поскольку приказы о выселении отдавались самыми разными органами власти. Точные данные можно получить только из отчетов Управления начальника санитарной и эвакуационной части при штабе Верховного главнокомандующего, ответственного в том числе и за эвакуацию по железным дорогам. В них сообщается о четверти миллиона вражеских подданных, выселенных и помещенных под полицейский надзор в местах временного проживания в течение войны (см. таблицу 3).
Таблица 3.
Вражеские подданные, перемещенные по железным дорогам в течение войны (по данным Управления начальника санитарной и эвакуационной части){420}
1914 …… 68 000
1915 …… 134 000
1916 …… 41 278
1917 …… 11511
Всего …… 255 789
Эти данные включают лишь некоторое число из десятков тысяч, выселенных из Москвы, Петрограда и сети зон безопасности по всей стране. Они также не учитывают лиц, выехавших самостоятельно, чтобы избежать высылки под конвоем. Включая эти цифры, общее число вражеских подданных, депортированных или высланных за время войны, достигло приблизительно 300 тыс. человек. В это число не входят примерно столько же иностранных граждан гражданских специальностей, депортированных во внутренние губернии России с оккупированных территорий[143]143
1 августа 1917 г. Галицийско-Буковинский попечительский комитет о беженцах подсчитал, что в Российскую империю из Галиции и Буковины в течение войны было депортировано 120 тыс. гражданских лиц, 43 тыс. из которых являлись украинцами и поляками. АВПРИ. Ф. 138. Оп. 475. Д. 428. Л. 91. Как минимум 50 тыс., а возможно, и до 100 тыс. гражданских лиц были депортированы из Восточной Пруссии, включая значительное число женщин и стариков. РГВИА. Ф. 2005. Оп. 1. Д. 24. Л. 215 (Маклаков – Янушкевичу, 6 января 1915 г.). На основании имеющихся данных я не в состоянии определить близкое к истинному число гражданских лиц, депортированных с оккупированных территорий Болгарии, Румынии и Османской империи.
[Закрыть].
Таким образом, примерно половина из 600 тыс. вражеских подданных, зарегистрированных в качестве постоянно проживавших на территории Российской империи в 1914 г., были высланы, затем интернированы в лагеря или получили предписание поселиться в особо оговоренных местах под надзором полиции на время войны{421}. Большинство освобожденных от высылки имели славянское происхождение, тогда как выселение вражеских подданных – немцев, турок, венгров и евреев – было проведено с особой тщательностью. Например, к июню 1915 г. 14 890 вражеских подданных было выселено из Варшавы, а 7199 разрешено остаться, и почти все они были поляками{422}. Аналогично этому, к началу 1915г. около 10 тыс. подданных Германии и Австрии были высланы из Петроградской губернии; из оставшихся 3227 человек 1858 были славянами и еще 635 – гражданами нейтральных стран{423}. Губернаторы нескольких западных и южных губерний докладывали, что все до единого вражеские подданные немцы и евреи высланы{424}.

Карта 2
Хотя высылка и интернирование подданных враждебных государств начались в России раньше, чем аналогичные действия в большинстве других европейских стран, и превосходили их по масштабам, все же власти действовали в рамках принятых во всем мире изменений практики ведения войны. Уже 20 июля (12 августа) 1914 г. Франция объявила, что вражеские подданные должны покинуть страну в течение одного дня. В случае невыполнения данного распоряжения они должны были поставить полицию в известность о своем местонахождении, а проживавшие в укрепленных районах северо-западной части Франции в любом случае были обязаны выехать{425}. В Великобритании 3 (16) августа 1914 г. был принят Закон об ограничении прав вражеских подданных, обязавший их зарегистрироваться и запрещавший проживать в определенных районах или приближаться к почти сотне стратегически важных территорий, в основном в прибрежных зонах. Фактическое интернирование в обеих странах началось в середине 1915 г., к концу которого каждая интернировала около 50 тыс. вражеских подданных. Германия и Австрия начали аналогичный процесс через 4 месяца после начала войны. Число гражданских вражеских подданных в немецких лагерях для интернированных выросло с 48 тыс. в июне 1915 г. до 110 тыс. в октябре 1918 г. Даже такие удаленные от районов боевых действий страны, как Австралия, Бразилия и США, депортировали и интернировали значительное число вражеских подданных{426}. Главным аспектом, приводившим к активизации интернирования вражеских подданных во всем мире, стала взаимозависимость от действий других стран и реакция на них, и действия России здесь играли ключевую роль. Высылки были частью общей тенденции стирания грани между потенциальными участниками боевых действий и гражданскими лицами, а также усиления различий между «коренным» населением и иммигрантами, вызванных Первой мировой войной.
В российских условиях высылка и интернирование более четверти миллиона вражеских подданных были особенно существенны по причине их многочисленности и выдающегося положения среди экономической элиты страны. В то время как в большинстве государств интернированные вражеские подданные сохраняли имущество и принадлежавшие им предприятия, в России стремление национализировать всю собственность вражеских подданных стало частью более широкой программы долговременных общественно-экономических и демографических преобразований. Как таковые, эти меры получили довольно широкую общественную поддержку. Даже среди либералов высылки вражеских подданных не вызывали особых возражений, отчасти потому, что в их представлении воюющее русское общество определялось и связывалось воедино гражданством. Относительно высылки российских подданных подобного единства мнений не существовало.

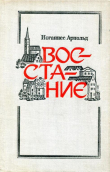




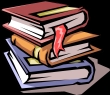
![Книга Шпионаж во время войны [сборник] автора Робер Букар](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shpionazh-vo-vremya-voyny-sbornik-212070.jpg)