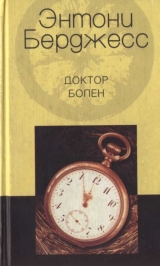
Текст книги "Доктор болен"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Глава 15
Время закрытия на прозаической улице, глухая осень, мрачная от надвигавшегося дождя. Они шли в клуб – Лес с близнецами Стоун впереди, Эдвин позади с немкой-сожительницей. Пес Ниггер брел своей дорогой, шмыгая от одного прелестного уличного аромата к другому, – дерьмо, чеснок, бараний жир, моча, консервные банки, грязные дети. Один грязный ребенок аденоидно прогнусавил что-то гортанное Гарри Стоуну, Гарри Стоун слегка сбрызнул ребенка содовой из сифона. Немку-сожительницу звали Ренатой. Топая рядом с Эдвином, она сказала:
– Если хотите вы денег давать ему, денег, мой дорогой, не давайте ему. Тратит он каждый, что я даю пфенниг ему. Женщиной сюда богатой прибыла в Англию я, и бедная совсем теперь вот. В Германию, вы думаете, возвратиться могу я? Не могу, нет, я, нет. Дважды думать надо, надо пару думать раз, прежде денег ему чем давать. Ни на воздух, ни на воду, дорогой мой, билет не могу купить я. Вот, – сказала она, сделав паузу, чтоб набрать воздуху, останавливаясь на ходу, остановив на ходу Эдвина рукой в коричневой шерстяной перчатке, – вот она, я, без на теле нижнего белья, еврея стала грязного рабой.
– Да, – сказал Эдвин, – вечная возвышает нас женственность. Я проголодался, – сообщил он, чувствуя в разных частях своего организма посвистыванье ветерков, поползновенье мурашек, жар сердца, вкупе с воодушевляющим вкусом баранины в грудине. – Надо что-нибудь съесть.
– Говорите съесть вы? Съесть? У меня пять на еду дней денег неделю нет. Золотой есть у вас? Деньга есть у вас? Будем есть сейчас вместе мы… – В уголках рта у нее вскипела слюна. Собственно, подумал Эдвин, ей бы следовало взамен бесконечного доппель джина спросить в пабе сосиску-другую. Возможно, уроженка славной колбасной страны, она презирает сосиски английского паба.
– Угла вокруг, – сообщила Рената, – лавка имеется малая, где мясо свиное и ножку, и получить с капустой бычатину кислой, и черный можно хлеб. – Звучало заманчиво.
– Вот дело все в чем, – сказал Эдвин, – этот фунт – депозит, подлежащий возврату по возвращении человеком одолженной у меня шляпы, мною самим с возвратом одолженной. – И качнул головой, ибо сам начинал выражаться на невразумительный тевтонский манер. – Понимаете, не моя эта шляпа. Если я не сумею вернуть депозитный фунт, мне придется позволить тому человеку оставить шляпу у себя, а шляпа, в конце концов, не моя. Это будет равносильно краже. А красть, – сказал Эдвин, – я не могу.
Рената, похоже, усвоила христианскую философию публичного бара.
– Беспокойтесь вы завтра, – молвила она. – Назад он если шляпу не принесет, вор тогда кто? Дорогой мой, вы нет. Ее назад когда он принесет, деньги может у вас будут быть.
– Да, – сказал Эдвин, – моя жена. Нынче днем. В клубе. Только поесть я должен сначала, – сказал он. Подобный порядок слов, безусловно, идиоматичен?
Рената взяла его за руку и быстро повела через дорогу в другую сторону от клуба. Близнецы Стоун с Лесом уже открыли дверь и вошли: изнутри глухо слышались проклятия и ламентации Гарри Стоуна. Рената влекла Эдвина за угол к ряду низеньких лавок, одна из которых источала сильный запах фиалок. Эдвин сделал привычную скидку на больной эпителий своего обонятельного аппарата и интерпретировал весенний аромат как запах очень горячего жира.
– Или, – предположил он, – если я стану избегать того человека, чтоб меня все время не было, когда он принесет назад шляпу, разве это можно будет назвать воровством?
– Внутрь, мой дорогой, заходите, – сказала Рената, энергично таща Эдвина. – Съесть, мое дитя, съесть.
К удовольствию Эдвина, закусочная называлась «Юнг» [51]51
Юнг (jung) – молодой, юный (нем.);но для Эдвина это имя прославленного философа.
[Закрыть]. Там была стойка, кофейный автомат и разнообразные архетипичные, хоть с виду не тевтонского типа, бездельники за столами, крытыми чисто белыми скатертями. Председательствовала косоглазая толстая женщина с некогда белокурыми волосами, до сих пор заплетенными в косы Гретхен. Произошел громкий обмен приветствиями между ней и Ренатой. Из дальнейших переговоров Эдвин уяснил, что его вязаная шапка не признана респектабельной. Рената дала объяснения, изобразив щелканье ножниц и движения перерезающей горло бритвы. Гретхен, смягчившись, кивнула, одарив Эдвина краткой медово-уксусной улыбкой. Рената сделала заказ с артикуляцией, звучавшей, как еда, сама по себе еда.
Поданная еда оказалась не слишком хорошей – очень жирная рубленая свинина с белой соленой капустой, сыр, пумперникель [52]52
Черный зерновой хлеб.
[Закрыть]. Впрочем, еды было много, и Эдвин, как собака, ринулся к своей тарелке. Рената кидала в рот белую капусту, приговаривала:
– Fabelhaft [53]53
Сказочно (нем.).
[Закрыть], – впивалась в черный хлеб зубами, будто пробовала на зуб монету, будто пробовалась на роль Медеи в кино. Тут ввалился запыхавшийся Гарри Стоун, схватил Эдвина, начал тянуть, как завязшего в зыбучих песках.
– Скорей, – сказал он, – идите скорей. Закон. Закон идет. Закон видели. Идите ресь говорить. Закон, я вам таки говорю. – Подвижное лицо его выражало смертельную муку, глаза были глазами всех попавших в западню животных на свете.
– Речь? Закон? Что это значит?
– Узнаете на месте. Потом будете спрасивать.
Эдвин поднялся, и отчаявшийся Гарри Стоун потащил его.
– Дорогой мой, – сказала Рената, – заплатите вы. Деньги оставьте вы. Принесу сдачу я, будет обед закончен когда. – Эдвин, подчиняясь спешному призыву Гарри Стоуна, бросил на стол мятый фунт и выбежал.
– Вон, – сказал Гарри Стоун. – В консе улисы. Не бегите. Идите степенно, как будто бы настояссий перфессер.
– Но я и есть профессор.
– Не спорьте. Распроклятая идея Лео. Треклятый клуб. Сам Иисус Христос, дерзи Он этот клуб, не принял бы худсего смертного мусенисества. Ну-ка, идите прилисьно и медленно. Как тот, которым там себя называете.
– Откуда вы узнали, что я в той закусочной?
– Сутите? Она десять раз на день торсит в той старой боське с кислой капустой. Знал, куда она направилась, думаю, вас с собой потассила, раз у вас есть монета, которую мозно спустить. Ну, вот. Вон идут двое гадов. – Подходя к дверям клуба, Эдвин ярдах в пятидесяти увидел двух крупных мужчин в тяжелых ботинках, носивших штатское, как форму. – После вас, перфессер, – сказал Гарри Стоун. Миновав входную дверь, они, расшвыривая старый мусор и обрывки газет, рванули к подвальной лестнице, вниз по которой был сдернут споткнувшийся Эдвин. Вот и сырой подвал с двумя низковольтными лампочками, клуб, однако, уже и не клуб. На стойке, прислоненная к пустому ящику из-под минеральной воды, стояла школьная доска. Лицом к доске на стульях в два ряда смиренно сидело с дюжину личностей с сомнительной репутацией. Музыкальный автомат накрыт старым бильярдным сукном. Никакого спиртного не видно. Лео Стоун громко зааплодировал при появлении Эдвина и тоном старшего приказчика молвил:
– Очень рад, что вы нашли возможность, доктор. Публика с недержанием вас ожидает. – На потолке тяжело барабанили большие грубые башмаки. – Хрен им, – сказал Лео Стоун, глянув вверх. И громким серьезным культурным тоном обратился к аудитории: – Нам выпала неоценимая невыносимая честь, – видно было, одно время он выступал на сцене, – приветствовать, я полагаю, доктора Ливингстона, зачесавшегося среди нас. То есть доктора Прибора, блаженной памяти. И, возлюбленные мои братья, доктор он не по сифилису, пусть даже от меня нынче попахивает подручным доктора по сифилису. – Он деликатно принюхался к своему левому лацкану. – Все шансы-шмансы на успех, а? – расплылся он в улыбке. И серьезней продолжил: – Док хочет вас обрисовать, то бишь вам адресовать кое-что, и я могу поклясться, бывал он и по приличным адресам. Исполнял свое знаменитое на весь мир представление перед герцогом Коннахта, принцем Уэльским и в прочих публичных домах. Немного похлопаем доку двумя руками, а если найдутся, то всеми тремя. – Четверка в башмаках, тяжело топая, уже неуклюже спускалась по лестнице. Эдвин оглядел свою аудиторию, узнал улыбавшуюся бородавчатую Кармен; девушку с распущенным ртом и с куделью на голове, похожую на шлюху, на смущенную деревенщину, или типа того; узнавал, кажется, разнообразные кариозные рты, немецкую овчарку и прочих, чье присутствие на лекции по филологии обычно не ожидается.
– Леди и джентльмены, – четко, уверенно начал Эдвин, – диалект ли кокни? – При этом собака, сидевшая с высунутым языком, закрыла пасть и полностью сосредоточила внимание на Эдвине. – Все зависит от того, что мы понимаем под диалектом. Полагаю, большинство из нас понимает под диалектом форму языка, свойственную определенному региону, – составную часть языка, так же, как регион – часть страны, – обладающую характеристиками, непосредственно связывающими ее со стандартной версией языка, по отличающуюся от стандарта фонетической системой, словарем и особенностями синтаксиса и морфологии, которые вряд ли можно найти в любой другой форме языка. Нельзя, разумеется, отрицать отражения одного диалекта в другом, наряду с отражением одного региона в другом. В конце концов, жизнь – континуум, а язык – аспект жизни. – Глаза аудитории, прежде стеклянные, теперь остро глянули на подвальную дверь, на пороге которой стояли двое грузных мужчин, жуя воображаемые сигареты. – Важный аспект диалекта, – продолжал Эдвин, – заключается в его претензии на серьезное восприятие в качестве стандартной версии языка, на равную со стандартом древность, на развитие в соответствии с теми же фонологическими законами и принципами семантических изменений. Ибо что, леди и джентльмены, дает стандартной версии языка, – например, скажем, королевскому английскому, – право претендовать на особое уважение, скажем, на гегемонию? Безусловно, не какие-либо присущие ему особенности, – только факт долговременного его использования наиболее влиятельными в стране людьми.
– Что, – спросил один полисмен, вероятно сержант, – тут происходит? – Он был крупней, старше, источал больше властных полномочий.
– Лекция, – объяснил Эдвин. – По филологии. – Близнецы Стоун сохраняли спокойствие.
– Сдается мне, дело тухлое, – сказал сержант. – И я не с тобой разговариваю. Я разговариваю с содержателем заведения, кто б он ни был.
Эдвин разозлился. Это был его парад.
– В данный момент, – заявил он, – вы стоите в лекционном зале и прерываете лекцию. Будьте добры завершить свое официальное дело, если таковое имеется, и позвольте мне продолжать.
– Это что еще за разговор, – сказал сержант. – Дело тухлое, и я с тобой потом разберусь. – Он ткнул пальцем в сторону Лео Стоуна. – Ты, – сказал он. – Я тебя знаю.
– Вы ко мне обращаетесь или к собаке? – учтиво уточнил Лео Стоун.
– Ты знаешь, к кому я обращаюсь, – сказал сержант. – Не лебези со мной. Мы с тобой слишком близко знакомы.
– Вы, – спросил Гарри Стоун, – ему угрозаете?
– Держи пасть на замке, – проворно бросил Лео. – Да? – обратился он к сержанту.
– Пришла информация, – сказал сержант, – согласно которой у нас имеются все основания думать, что тут свободно продается спиртное в любое время, больше того, заведение это используется для незаконного сбыта наркотиков, продажи и скупки краденого и контрабанды, а также пользуется дурной славой. Вот, – заключил он.
– Убийств мы тут таки не допускаем, – сказал Гарри Стоун. – Мезду просим, узе кое-сто.
– Тебя не спросили, – сказал сержант. – Предъявлю вот тебе обвинение в препятствовании властям. Чего мне хочется знать, так это чем вы тут все занимаетесь?
– Просвещаемся, – сказал Лео Стоун. – Просвещение противно невежеству, а люди образованные противны необразованным, если вы меня понимаете.
– Я не затем сюда пришел, – сказал сержант, – чтоб мне всяческими сарказмами мешали, препятствовали и противодействовали исполнению служебного долга. – И с озабоченным видом переключился на Эдвина. – А это, кстати, кто такой? Никогда его раньше не видел. Чем он промышляет, хотелось бы знать.
– Меня зовут, – представился Эдвин, – доктор Прибой. Промышляю лингвистикой.
– Не нравится мне это, – сказал сержант. – По-моему, не очень-то вы похожи на доктора. В пижаме и в этой вот шапке на голове.
– Эксцентричность, – разъяснил Лео Стоун. – Как человек образованный, он должен быть эксцентричным. Правильно? Впрочем, может, полиция не часто сталкивается с образованными людьми.
– Это, – впервые высказался другой полисмен, – несправедливые твои слова.
– А пускай он докажет, что доктор, – потребовал сержант. – На нем и носков тоже нету.
– Токо сто, – пояснил Гарри Стоун, – с больнисьной койки. – Осознав, что сказал правду, он несколько секунд держал рот открытым.
– Вот, – сказал Эдвин, – мой диплом. – Вытащил свои корочки; сержант скептически их изучил.
– Может, липа, – предположил он. – Не вижу особого смысла. – Протянул их обратно. – Давайте, – сказал он. – Продолжайте речь. Поглядим, много ли знаете.
– В фонологическом смысле, – продолжал Эдвин, – кокни представляет собой диалект, и характерные для него фонемы привлекли пристальное внимание фонетиков. – Публика сидела тихо, ионе сводила глаз с представителей закона. – Однако его строй и словарь не имеют существенных отличий от стандартной формы языка. Это вполне естественно, ибо кокни – речь определенного района столицы, а стандартная форма ведет происхождение от средневосточного диалекта, на котором, естественно, говорят здесь, в Лондоне. Характерные формы кокни не диалектические, а целенаправленно и сознательно искаженные варианты стандартных форм. Возьмем рифмованный сленг…
– Если, – заметил сержант, – вы читаете лекцию, надо читать настоящую лекцию, не припутывать сленг. Ладно, – объявил он всем. – Мы пошли. Только тут творится чего-то совсем тухлое. Очень уж поганая собралась тут компания образование получать, да особенно образование вот такого вот типа. – Для Эдвина прибережен был особый подозрительный взгляд. – В следующий раз, – пообещал сержант, – так легко не отделаетесь.
– Возьмем, например, слово arse, – громко предложил Эдвин. – Оно превратилось в bottle and glass [54]54
В рифмованном сленге кокни, шифрованном языке, непонятном для непосвященных, слова заменялись рифмующимися с ними фразами, вторая зарифмованная часть которых со временем опускалась, отчего речь становилась еще непонятнее. В приводимых Эдвином примерах слово «арс» (задница) заменяется словосочетанием «боттл энд гласс» (бутылка со стаканом); вместо «боттл» (бутылка) говорят «Аристотл» (Аристотель в английском произношении).
[Закрыть]. Таким образом, это форма апокопы [55]55
Отпадение в слове последнего слога или звука.
[Закрыть]с целью ввести в заблуждение. Но и само слово bottle прошло через тот же процесс, превратившись в Aristotle. Вновь прибегнув к апокопе, получаем в конце концов aris. Вот как изначально возникло это слово, так что в целостном процессе, видимо, необходимости нет. Кстати, я выбрал весьма исключительный случай, но на его примере вы видите…
– Случай точно исключительный, – согласился сержант. – Значит, это и есть ваша лекция? Грязь и непристойность. Так я и думал, тут что-то неладное происходит. Все получили предупреждение, – предупредил он. – Просто посматривайте за собой, вот и все. – Мужчины тяжело удалились. Четверка в ботинках поднялась по лестнице, снова послышалась на потолке, потом топот утих. Аудитория облегченно вздохнула, разбилась на отдельных сомнительных типов с вонючими ртами, воющих насчет выпивки. Эдвин окликнул их:
– Стойте! Никто вам разрешения не давал. Я класс не распускал. – И стукнул кулаком по дощатой стойке.
– Все в порядке, перфессер, – сказал Гарри Стоун. – Полегсе теперь. Вы свое дело сделали. Хотя, – оговорился он, – не надо бы таки употреблять это самое слово. Всему есть свой предел, как говорит серзант. Мозно было бы вместо него какое-то другое сказать. Это слиском.
Глава 16
У входных дверей был выставлен дозорный – молчаливый человечек с напряженным лицом герцога Виндзора, – и прерванная выпивка возобновилась. Эдвин, однако, надулся.
– Неодушевленный предмет, – мрачно изрек он. – Нечто использованное, вот что я такое, нечто использованное, а потом выброшенное.
Гарри Стоун, толкнув его, страстно сказал:
– Вам ессе выпадет санс, хоть мы надеемся, сто нет. Если закон снова явится, все это отребье опять будет слусать, а вы продолзайте, где остановились. А покуда, – предложил он, – смотрите на всех этих пьянис, как на благодарных усяссихся, рассевсихся перед вами за стойкой. Надо их напоить, – лихорадочно говорил он, колотя Эдвина. – Быстро всех напоить. Стобы в осереди никого не торсяло, если мы вдруг полусим сигнал.
Близнецы Стоун, впрочем, старались выразить Эдвину благодарность, ловко суетясь. Чтоб доставить ему удовольствие, рассказывали анекдоты, сомнительные байки, подсыпая сырые автобиографические куски. Оба были, коротко говоря, с Востока. Оба служили в торговом флоте. Оба ничем долго не занимались. Лео был одно время ребенком-артистом, играл в «Питере Пэне» в гастрольных поездках, и – до ломки голоса – дружком мужчины, игравшего мистера Дарлинга. Он готовился в комики, был каталой, фиктивным санитарным инспектором, официантом, матросом, торговал на рынке средством от облысения; продавал вразнос, шустро вставляя ногу в открытую дверь, ворованные энциклопедии, японские рубашки и собачий корм; жарил чипсы из картошки на машинном масле, держал клубы, банкротился. Гарри служил у букмекера на побегушках, корабельным стюардом, охотно поставляя секс вместе с утренним чаем; мойщиком посуды, поваром; разносил рождественские открытки, жил на содержании, натаскивал грейхаундов [56]56
Грейхаунд – английская беговая борзая собака.
[Закрыть], торговал в розницу дешевыми летними платьями, был официантом железнодорожного вагона-ресторана, помощником в рыбной лавке, поставлял нелегальным колбасникам колбасную оболочку, демонстрировал действие пятновыводителя. Но хотя каждый в основном шел собственным путем, зов близнячества, – который глубже любви, – нередко сводил их в катастрофических предприятиях дома и дважды за рубежом. Когда предстояло держать ответ, избирался, как правило, Лео. Тюремную жизнь он считал сносной при условии кратких и не слишком частых отсидок, – страсть к подобному мазохизму шла из дома рабства, из земли египетской.
Гарри рассказывал о победах над богатыми старыми телками, когда он был красивый, с полной головой курчавых волос; об оживлении слишком смирных грейхаундов путем укола, об усмирении оживленных грейхаундов путем доброй выпивки; о том времени, когда он был единственным жидом в Лондоне, вступившим одновременно в фашистскую и в коммунистическую партию; о краткой утренней возне с медсестрами-австралийками в солдатских бараках во время войны; о том, как распознать свежесть селедки; о технике игры в крестики-нолики; о своей встрече однажды с палачом-сомалийцем, оплакивавшим невозможность отомстить своей жертве, которая in articulo mortis [57]57
Находясь при смерти (лат.).
[Закрыть]плюнула ему в глаза. Лео рассуждал о влюбчивости; о том, как важно, что будет потом, и об особой роли команды на корабле; о том, как отличить орла от решки по чистому звуку; о частной жизни шекспировских актеров; об извращениях в Гамбурге; о тайской акробатке, с которой он жил; о великих гангстерах вроде Большого Гарри, Сноба Тони, Шустрого Германа и Пирелли; о Кверте Юиопе, Короле Пишмашинки. Спиртное тем временем кончилось, из темных боковых дверей были раздобыты бутылки с неизвестными этикетками, а Шейла не появлялась. Притащилась Рената, опьяневшая от кислой капусты, шлепнула на стойку сдачу Эдвина и объявила:
– Себя теперь куплю я для. Доппель джин. – Эдвин все больше злился, а за стойкой бара раскатывались и звенели четыре разных акцента.
Как раз в тот момент по лестнице, без труда миновав дозорного, спускались четверо членов мафии, толкавшей котлы, о чем шепотом сообщил Гарри Стоун. Эдвин, ученый филолог, знал, что такое «котлы», – дешевые контрабандные часы с гарантированным на пару дней ходом. Четверо мужчин, хоть и пьяные, хорошо выглядели для своего промысла. Один – светловолосый, с крупным костяком, красивый, как кинозвезда, в твидовом костюме и в очень хорошем реглане, однако с топкими губами и безумными глазами. Другой – огромный, бочкообразный и как бы готовый заплакать, – полюбился Эдвину благодаря тому факту, что тоже был в пижаме под хорошо заглаженными складками спортивной куртки (подпоясанный шнуром от пижамы, как бы тянувшимся из его собственного пупка), в распущенном галстуке, в дождевике. Третий, очень угрюмый, нес большой громыхающий «гладстон» [58]58
Гладстон – неглубокий кожаный саквояж, получивший название по имени британского премьер-министра Уильяма Гладстона (1809–1898).
[Закрыть]. Четвертый по имени Джок был сильно изуродован, должно быть в драках в Горбалсе [59]59
Горбалс – район трущоб в Глазго.
[Закрыть]. Эти четверо принесли свою выпивку – виски в плоских фляжках – и, похоже, пришли только ради компании. Красивый блондин с безумными глазами заказал музыку.
– Не сегодня, – взмолился из-за стойки бара Лео Стоун. – Пришлось вырубить на сегодня, Боб. Нас посетили.
– Хрены моржовые, – молвил Боб, красиво раскачиваясь. Взглянул на Эдвина и сказал: – Тогда ты давай. Пой.
Но беззвучно возникший безобразный смуглый человечек обратился к Бобу:
– Нобби чего схлопотал?
– Бесплатный курорт, – сообщил угрюмый носильщик «гладстона».
– Чего? Без штрафа, без ничего?
– Угу.
– Пофартило, язви его в душу. – И смуглый безобразный мужчина исчез.
– За что Нобби схлопотал три месяца? – полюбопытствовал Эдвин.
– Попался, когда на нем было на штуку котлов, – пояснил Боб. – Вот где его ошибка, ясно? Попался вместе с ними. Ни лицензии на импорт, ничего. А что, – сказал Боб, – тебе известно про Нобби? – И приблизился к Эдвину, подозрительно, но зачарованно.
– Ничего, ничего. Всегда интересно услышать, как кто-то накрылся. И все.
– Почему? Ты чего натворил?
– Был звонком на малине, – без колебаний объявил Эдвин, с радостью смакуя слова, ведь слова для филолога – просто игра.
– Чего? Кого отмазываешь? Кстати, кто ты такой? Зачем в таком прикиде? Под какой кликухой ходишь? – Боб разволновался. – Ты что, чокнутый, да? По глазам скажу, чокнутый. Я сам чокнутый. Ты чего любишь больше всего? Давай выкладывай. Какие дела любишь? – Глаза его возбужденно сверкали. Эдвин все больше пугался. И спасся, шмыгнув за бочкообразного мужчину. Бочкообразный мужчина сказал:
– Никто не любит бедного старика Эрни. Никто не поговорит с бедным стариком Эрни. – В правой руке он держал пинту «Джонни Уокера». – Даже родная мать теперь со мной не разговаривает. Бедный старина Эрни.
– Ты подальше отсюда вали, – сказал Боб. – Никто тебя не просил свое толстое пузо поперек дороги совать. Обмылок здоровенный. Мы с ним разговариваем. Где твои долбаные манеры?
Эрни скосил глаза, приготовившись плакать.
– Вот видите, – заныл он. – Никому я не нужен.
– Мне нужен, – утешил его Эдвин. – Ладно, будет тебе.
– Тебе? – вскричал Эрни с устрашающей радостью. – Будешь дружить со стариком Эрни?
– Ничего в нем для тебя хорошего нету, – раздраженно заметил Боб Эдвину. – В нем вообще нету ничего хорошего. Он нормальный.
– Мы с ним, – с достоинством сообщил Эрни Бобу, – только что с койки встали. Сам увидишь, просто посмотри. Только он больше в койке лежал, потому что у него пижама грязней, чем моя. – Он обнял Эдвина и сказал: – Если ты друг старику Эрни, можешь назад никогда не оглядываться. Я тебя к своей маме домой приведу, скажу, что ты дружишь с Эрни, и она с тобой тоже будет дружить.
– Почему, – полюбопытствовал Эдвин, – она не хочет с тобой разговаривать?
Эрни отшатнулся, обиженный. И заскулил:
– Зачем ты это сказал, зачем ты мне напомнил? – По расчетам Эдвина, было ему, как минимум, сорок пять. Он вдруг вспомнил то, о чем некогда сообщил ему А. С. Нейлл: провинившийся ребенок, укравший часы, вскрыв их, символически обнаруживает, откуда берутся дети. Котлы в роли матери – неплохое название для чего-нибудь. И спросил:
– Ты часы любишь?
Эрни становился серьезней, старался контролировать выражение своего лица.
– Хорошие люблю, – сказал он. – По-настоящему хорошие, швейцарской ручной работы, с кучей драгоценностей и с каким-нибудь настоящим ходом. А вот это вот барахло просто с рук надо сбыть, вот и все. – Покопавшись в кармане дождевика, предъявил тикающую пригоршню. – Можешь взять любые, – предложил он, позабыв предыдущие свои слова, – за три хруста. Потому что сказал, что подружишься с Эрни. – Мужчина из Горбалса, на которого страшно было смотреть, подошел и, прищурясь, дыхнул на котлы.
– У меня нет трех хрустов, – признался Эдвин, – ни одного хруста, ни полмонеты, ни боба, ни, – перечислял он, – одной-единственной сороки [60]60
Сорока – полпенни на воровском жаргоне.
[Закрыть]. Я ничего купить не могу.
Мужчины из котельной мафии с тайным интересом рассматривали его, взвешивали, оценивали. Боб схватил Эдвина за полу пижамы и чуть-чуть оттащил в сторону.
– Хочешь, – спросил он дрожащим голосом, – монету заколотить, а? У меня всего навалом. У меня в машине два цельных копченых лосося. У меня пузырь французскогошампанского. Вот этот внутренний карман набит хрустами. Пошли со мной, – уговаривал он, жарко дыша на Эдвина, – вот посмотришь, чего я тебе дам, вот увидишь, чего я для тебя сделаю, если ты просто… – Но тут немецкая овчарка, принадлежавшая блондинке с бульдожьей физиономией, набросилась на Ниггера, хоть и играючи. Ниггер щелкнул зубами, и овчарка издала такой звук, будто дунула в горлышко большой бутылки. – Собаки, – завопил Боб, запахнулся в реглан, встал на цыпочки, словно уклонялся от набегавшей волны. – Не люблю собак. – Собаки окружали его маленьким яростным морем, коричневым, черным, с кромкой белой пены на мордах. Боб издавал короткие женские визги, брыкался, по не попадал. Гарри Стоун сказал:
– Не надо пинать вон того распроклятого пса. Я не хосю никаких неприятностей, токо ты не пинай вон того распроклятого пса.
– Тогда позови их. Злющие зверюги. – На сей раз Боб носком ботинка попал в зад овчарке, в хорошо откормленный и потому нечувствительный зад. Однако блондинка-бульдожка понесла на Боба грязную женскую брань, рядом с которой мужская ругань – простой детский лепет. Мрачный мужчина и страшного вида мафиози из Глазго приготовились к неприятностям. Тут по лестнице обрушился страж с воплем:
– Идут! В конце улицы! Быстро выпивку прячьте!
– Стулья! Стулья! – кричал Гарри Стоун. – Стулья скорей расставляйте!
Недееспособных в подвале пока не имелось. Быстро опрокидывали спиртное, совали в карманы и сумочки пустые липкие стаканы. Толкавшие котлы мафиози были глупые, их пришлось погонять, грубо организовывать. Лео Стоун у стойки бара сгреб бутылки из-под джина, бутылки из-под виски, сунул Лесу у музыкального автомата. Лес принял их с возгласом:
– Алле ап! – и спрятал под бильярдным сукном. Овчарка уныло рыдала, утащенная за ошейник на свое место в классе. Ниггер уполз на брюхе за стойку бара через откидную дверцу. Гарри Стоун бешено разгонял сигаретный дым «Справочником для леди».
– Давайте, перфессер, – пропыхтел он. – Васа осередь.
– Теперь мы рассмотрим, – сказал Эдвин, чувствуя, что сосредоточиться нелегко, – то, что филологи называют народной этимологией. Я напишу слова на доске. – Ему сунули кусок портновского мела. Он не сумел схватить, наклонился и поднял мел с пола. Ощутил слабость, недоумевая, почему она как-то кажется вполне естественной. На миг ухватился за стойку, потом лучше себя почувствовал. Кто-то нацарапал грубое слово на школьной доске. Эдвин стер его с помощью своей слюны. Затем тщательно и внимательно написал: НАРОДНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ.
– Этимология, – сказал он, – занимается происхождением слов, то есть истинным происхождением, ибо «этмос» по-гречески значит «истинный». Под народной этимологией мы понимаем попытку неграмотных ввести в разговорную речь иностранное или непривычное слово, меняя его экзотическую составляющую на нечто более знакомое с виду… Вот каким образом неграмотные стараются убедить себя, будто действительно иностранное – вовсе не иностранное: они объясняют и устраняют иностранный элемент, вообразив его родственным чему-то уже хорошо известному. Существует множество разнообразных примеров народной этимологии. Возьмем, к примеру, penthouse [61]61
Здесь:мансарда (англ.).
[Закрыть].– Пока он писал на доске это слово, вновь послышался топот четверки. Повернувшись к аудитории, Эдвин увидел, что все затуманенные взоры устремлены в потолок. Четыре пары тяжелых ног топали к подвальной лестнице. – В слове penthouse, – сказал Эдвин, – содержится знакомый элемент: house [62]62
Дом (англ.).
[Закрыть]. Однако оригинальная форма – pentice – ведет происхождение от французского appentis, ведущего происхождение от латинского слова appendicium, которое означает «нечто добавленное, придаток». Окончание – ice заменили на house, поэтому слово кажется знакомым.
Ноги упорно топали вниз. На пороге вновь встали двое здоровяков в штатской форме, жевавшие воображаемую сигару.
– Аналогичным образом, – сказал Эдвин, – среднеанглийское слово primerole было отброшено в пользу primrose [63]63
Первоцвет (англ.).
[Закрыть], потому что второй его элемент уже полноправно существовал как название цветка. – Младший полисмен трудолюбиво списывал в блокнот: народная этимология, мансарда, первоцвет. Подозрительно, намек на девушек по вызову. – И, – сказал Эдвин, – конечно, нельзя упустить Jerusalem Artichoke [64]64
Топинамбур, буквально «иерусалимский артишок» (англ.).
[Закрыть]. Jerusalem – народное искажение итальянского girasole, что означает «поворачивающийся к солнцу». Фактически, это растение одного рода с обычным подсолнухом. – Он сделал паузу. В этот момент что-то должно было произойти, что-то важное. – А еще есть causeway [65]65
Тротуар (англ.).
[Закрыть], от старофранцузского caucie, произошедшего от латинского calx, что значит мел. Значит мел, – повторил он. – Значит мел.
– Ладно, – сказал сержант. – С нас, по-моему, хватит. Мы были в СЛГ [66]66
Совет Лондонского графства.
[Закрыть], там говорят, ничего не слыхали про такую школу. По-моему, дело тухлое.
– Ох, заткнитесь, – сказал Эдвин. И аккуратно упал в широкую беспокойную черноту. Очнувшись, увидел склонившиеся над ним лица, не деликатно-коричневые бирманские, а грубо-белые лондонские. – Пока можно, почтим же фундаментально, – процитировал он, – человека, стоящего вертикально. – И снова отключился.








