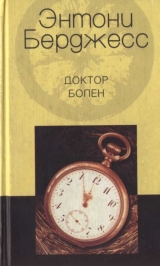
Текст книги "Доктор болен"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Глава 3
Эдвин сидел на краю своей койки с колотившимся сердцем, сильно затягиваясь сигаретой, гадая, почему она не пришла. Воскресное утро отзвенело, отзвонило по себе похоронным звоном, шелестя «Всемирными новостями»; впереди зиял день без докторов, без причиненной боли, расколотый двумя периодами для посещений, лишней закуской, воскресным угощением. Но похоже, не для Эдвина. Два удара на башне через площадь, половина времени для посещений прошла, а она не явилась. Р. Дикки говорил: «Точно так, да, вполне точно», – разговорчивой женщине лет восьмидесяти, наверно своей матери; с насмешником был маленький, хитрый с виду священнослужитель, один подвывал, а другой усмехался, рассуждая о любви Иисуса; дальше в палате в койке сидел молодой человек, горбатый, как Панч [9]9
Панч – персонаж английского кукольного театра, Петрушка.
[Закрыть], с бородой как у Панча, в шапочке типа лыжной, обсуждая с кивавшим, жевавшим губу родичем автомобильные двигатели. Два куска воскресного ростбифа вдохнули в пациентов новую жизнь. Возбудившийся Эдвин почуял желание своего кишечника опорожниться. Поделом будет ей, скулил он, пусть придет, а его не увидит; пусть подумает, увезли его мертвого на каталке, так ей и надо.
Он присел в уборной, стараясь вспомнить, в какой отель она переехала, где-то возле больницы. Можно, наверно, позвонить в пивную, куда она, видно, теперь зачастила, в тот самый паб, где она клеит мойщиков окон. Но уже больше двух, а в два все закрывается. Потом, с облегчением кишечника, дерзкая мысль ударила ему в голову. Одеться, выйти из больницы, поискать ее. «Якорь», вот как называется паб, где-то неподалеку. Ресторан, может быть.
Это было довольно легко. Запертые шкафчики напротив умывалки. Под музыку спущенной в унитазе воды он открыл свой; трепеща, вынул мятые брюки, спортивную куртку, галстук и рубашку. Конечно, просить разрешения не к добру. Но никто не узнает. Вошел в одну из двух ванных и стал одеваться. В зеркале видел вполне нормальное лицо, вполне молодое, вполне здоровое, массу темных волос, лишь чуть тронутых сединой. Облачаясь в одежду, Эдвин дополнительно облекался здоровьем и здравомыслием, гладко причесал волосы, закурил сигарету. Но еще себя чувствовал недостаточно вооруженным. Деньги, конечно, – нет денег. Все двухмесячное жалованье, выплаченное в Моламьяйне авансом, конвертированное теперь в пятифунтовые банкноты, отдано жене. Бумажник тощ, карманы пусты, кроме нескольких шиллингов.
Никто не сделал замечаний, никто, кажется, не обратил внимания на него, проходившего мимо стеклянной коробки служебного отделения при палате. Сестры хихикали там над чем-то, принадлежавшим к их миру без униформы, к миру нарядных платьев и танцев. Может быть, краем глаза видели одежду визитера. Эдвин закрыл за собой тяжелую наружную дверь палаты, побежал вниз по лестнице. В коридоре к вестибюлю высоко в нишах стояли бюсты бородатых медицинских гигантов; читать мемориальную доску Эдвин не собирался. Времени нет – позади слышался негритянский певучий голос, голос того самого серьезного мороженщика.
Прозвенели звонки на уход посетителей. Все было невероятно легко. Он беспечно миновал конторку привратника, размахивая левой рукой. Выйдя за парадную дверь, получил полновесный удар осени в грудь. Ветер псом наскочил на него, покусал; листья неслись, шебаршили по тротуару, исцарапанному металлическими наконечниками тростей; пятисложная меланхолия восседала на постаменте посреди площади. Английская осень; вокруг военного мемориала со свистом проносятся крошечные мертвые души. Эдвин, ежась, пересек площадь, прошагал вниз по переулку, – многоквартирные жилые дома с одной стороны, хиромант по сниженным ценам с другой, – перешел улицу с осенними воскресными пешеходами, свернул за угол, направился прямо к ободряющему фасаду станции подземки. Подземка означает одновременно нормальность и выход. Взглянув вниз себе на ноги, он увидел, что они по-прежнему в больничных шлепанцах. Задумался, не поплакаться ли самому себе, но тут заметил на углу через дорогу паб под названием «Якорь» и неуверенно пошел на ту сторону. Рядом с пабом шел узенький переулок, куда тщетно пытался въехать грузовик. Грузовик ревел, совался вперед и назад, обдирая две стены, громыхая крылом об уличный столб. Эдвин, обойдя грузовик, обнаружил в конце переулка захудалый ресторан. Оттуда доносился тот самый перестук ножей и вилок, какой он вчера вечером слышал из-за ширм вокруг коек, только этот был погрубее. В двух грязных витринных окнах виднелись едоки. Одним из них был Чарли, неумело евший спагетти; накручивал залитые соусом комья на вилку и терпеливо глядел, как они снова шлепаются в тарелку. С ним сидел пучеглазый мужчина в берете, закусывавший бобами. Чарли открыл рот для новой попытки, обернулся к окну, увидел Эдвина. Рот остался открытым, но теперь Чарли не обращал внимания на вилку с грузом. «Заходи», – проговорил губами в окно, маня Эдвина внутрь кивком головы и свободным большим пальцем. Эдвин с сожалением указал жестом вниз на шлепанцы.
– Вряд ли вправе. Сочтут эксцентричным.
Чарли, по-прежнему с открытым ртом, прижал к окну лоб, стараясь глянуть вниз. Собаки не видно. Поколебался, то ли отправить в рот вилку, то ли выйти к Эдвину. Желваки вздулись на скулах. Триумфально кивнул пучеглазому, Эдвину, прожевал, проглотил; соломенные концы спагетти как бы в восторге ринулись в рот. Чарли, жуя, вышел к Эдвину.
– Нельзя тебе сюда. Надо обратно. Кто тебе разрешил выходить? – наступал он. – Ты ж болен.
– Дело в моей жене, Шейле. Она не пришла.
– Гони ее взашей, – посоветовал Чарли. – Я во всем этом деле руки умыл. Если свалишься сейчас на улице, ни за что не отвечаю.
– Где она? – спросил Эдвин.
– Где? Откуда мне знать, где она? Зашел сюда с приятелем перекусить. Спагетти, видал? Ни за что не отвечаю. А теперь вдвое быстрей возвращайся в больницу.
– Сначала я должен увидеть ее. – Ноги в больничных шлепанцах мерзли. Его охватила извращенная тоска по болезненной, только что покинутой теплоте.
– Прямо вон там можешь попробовать, – сказал Чарли, указывая в конец серой улицы. – Туда куча народу тащится, когда отовсюду выкидывают [10]10
Во время описываемых в романе событий пабы закрывались в 23 часа; прием заказов на спиртные напитки прекращался за десять минут до закрытия.
[Закрыть]. Клуб, так сказать. Членов нету, одни посетители. Скоро закон до него доберется. Если пойдешь, долго там не торчи. Правда, красиво, если тебя, больного, закон за незаконную выпивку заметет. Да еще в войлочных шлепанцах.
– Попробую.
– Ладно, только посматривай по сторонам. Ну а я вернусь к этим спагетти. Жутко неудобно. Итальянская пакость. – Чарли, косясь, вернулся в ресторан. Эдвин пошел вниз по улице, мимо сумеречного индийского ресторана, откуда, как ему было известно, должно было пахнуть куркумой, но вместо этого казалось, что клеем. Вышел на угол к безымянному заведению с единственным окном-витриной, закрашенным синей краской, с такой же голубой распахнутой дверью, с панелями цвета хаки. Осторожно входя, видел пол в проходе, усеянный обрывками старых изданий для любителей скачек, окурки, грязь, кукольный торс, спущенный мяч. На двух дверях в левой стене висели замки. Другая вела в кипучий шум, музыку. Он неуверенно к ней подошел и открыл. Шум жарким ударом взлетел по подвальной лестнице, согревая холодный сырой подвальный запах – для Эдвина любопытно цветочный. Ненадежная крутая лестница вела к последней двери. Постучать? Нет, сказала дверь, яростно распахнувшись. С гамом и протестами в нее был вытолкнут слюнявый уличный мальчишка в бирюзовом свитере с вышитым желтыми нитками на груди именем ДЖАД. Эдвин прижался к стене.
– Токо попробуй ессе раз, – предупреждал моложавый семит в старом костюме, – и просто больсе не сунессся. Полусис сперва таки кое-сто. Кое-сто, сто наусит тебя больсе таких стук не пробовать. Не токо тут, – пригрозил он, – а и в любом другом месте. – У него формировалась неаккуратная лысина; шоколадно-коричневый двубортный костюм сзади обвис, пузыри на коленях. Он принялся толкать уличного мальчишку в крестец вверх по лестнице. Мальчишка разразился уличными словами. Семит со скорбными глазами вскинул для защиты подбородок и руку.
– Хреновая шарашка, – сказал мальчишка. – Куча старых хренов. – Ни капли не испугавшись, со свистом понесся вверх, звучно, раскатисто припечатывая каждый шаг, словно бочка сельди катилась.
Семит сообщил Эдвину:
– Вот сто полусяется. Я таки погубил бы это заведение, пуская сюда вот таких вот молокососов. Я это заведение погубил бы, никто больсе. – И скорбно, с отголоском левантийской куртуазности предков, увлек Эдвина внутрь. Объемистый мужчина в полосатом бумажном свитере, с застежкой на ремне в виде змеи, стоял перед ними, держа в руке пиво, застыв неподвижным персонажем пластической картины, которую Эдвин как будто зашел посмотреть.
– Я бы это сделал, – сказал он, – если б ты попросил, да ведь ты так и не попросил. – У него были мелкие, не сказать чтобы несимпатичные, усатые черты, теснившиеся, словно шрифт дорогого издания, на лице с широкими полями. Эдвин высматривал ее над головами, между головами гораздо более некрасивых мужчин и расхлюстанных женщин. Впрочем, одна аккуратная пьяная женщина средних лет в красивой шляпке спокойно раскачивалась под музыку с партнером, державшим стакан «Гиннесса». Семит опечаленно покачал головой, с карими, полными скорби глазами.
– Вот у нас тут какие дела. Ненавизуэто заведение, – признался он с горькой Моисеевой страстью, – ненавизу, как никогда нисего больсе не ненавидел.
Эдвин пробирался к стойке бара, толкаясь, извиняясь, и – вот она, Шейла, красивая, в зеленом костюме. Широко открыла ошеломленные глаза, быстро нагнетая в него облегчение.
– Милый, – вскричала она, широко разводя сигарету и стакан с джином. – Ты сбежал. Они у тебя ботинки забрали, – добавила она, ничего не упустив.
– Ты не пришла, – объяснил Эдвин. – Я забеспокоился.
– Но ведь я, разумеется, приду вечером.
– По воскресеньям иначе. В воскресенье можно дважды прийти. Лишнее посещение по воскресеньям.
– Ох, – сказала она, – я очень виновата. Должна была знать. Глупо с моей стороны. – Чего Эдвин никак не мог понять, так это каким образом семит находился в двух местах одновременно: у дощатой стойки, облаченный в костюм с галстуком, и весело обслуживающий за нею клиентов в рубашке с короткими рукавами. Доктор Рейлтон сделал бы из этого хороший вопрос викторины.
– Откуда ты знал, что я здесь? – спросила Шейла. – Да, – сказала она, – вижу твои затруднения. Понимаешь, они близнецы, Лео и Гарри Стоуны. Это Лео за стойкой. Ведут здесь дела, если это можно назвать делами. Грек-портной только что спрашивал, какая у меня такса за вечер, а вон тот брюнет за задницу ущипнул, а один тип, англичанин, танцует самым что ни на есть странным образом.
– Может быть, – попросил Эдвин, – купишь мне чуть-чуть виски или еще чего-нибудь?
– Только не виски, – отказала Шейла. – Тебе велено оставить выпивку на два года. Легкий эль.
Эдвину подали золотистую воду со вкусом мыла и лука.
– Не особенно, да? – сказал Лео Стоун. Его лысина дальше продвинулась по сравнению с близнецом, заметил Эдвин. Акцент с патрицианской подкладкой, словно он был когда-то старшим приказчиком. В музыкальном автомате в дальнем углу два кастрата нового поколения пели радостными американскими голосами про тинейджерскую любовь под запись тинейджерских воплей. Начались неуклюжие танцы. Лохматый пес пробудился от сна и гавкнул.
– Все в порядке, – сказал ему Гарри Стоун. – Никто тебя не тронет, я тебе обессяю. Пускай токо пальсем кто-нибудь тронет, уз я с ним разделаюсь, будь я проклят. – Пес успокоенно зевнул. За стойкой вдруг запел электрический котелок. – Вот, – сказал Гарри Стоун, – твой обед посьти готов. Токо дай время остыть. Вкусное бысье сердсе, – сообщил он объемистому усатому мужчине. – Сам бы съел, будь я проклят. – Объемистый мужчина отрыгнул глоток пива, превратил отрыжку в рев рога Зигфрида, сопроводил его криком:
– Nothung! Nothung! – и завершил парой тактов горящей Валгаллы [11]11
Речь идет об опере Рихарда Вагнера «Зигфрид» из тетралогии «Кольцо нибелунга».
[Закрыть].
– Не обрассяйте внимания, – посоветовал Эдвину Гарри Стоун. – Он работает на Ковент-Гарден [12]12
Ковент-Гарден – во время описываемых в романе событий главный лондонский оптовый рынок фруктов, овощей и цветов на одноименной улице (перенесен в другой район в 1975 г.); то же название носит расположенный поблизости Королевский оперный театр.
[Закрыть], вот так вот. – И качнул головой, с обезумевшими от боли глазами, над мировой глупостью, глядя на Эдвина так, словно они вдвоем были в заговоре здравомыслия. Бычье сердце, вытащенное из котелка двумя открывалками для бутылок, дымилось на мокрой стойке. – Зди, Ниггер, – велел Гарри Стоун. – Или, слусай, Лео, сунь его просто под кран.
Медуза Горгона в длинном пальто, таком же облезлом и тускло-черном, как собачья шкура, подошла к Эдвину, приглашая потанцевать.
– Фактически, я никак не могу, – сказал Эдвин. – Мне, фактически, в больнице надо было бы быть. – Но, будучи в высшей степени джентльменом, втянулся в плясавшую джигу толпу. Поискал Шейлу глазами, однако его от нее оттеснили двое новичков, плативших за выпивку, – молодые худые гвардейцы, ослепшие за козырьками фуражек. Шла буйная танцевальная толкотня перед золотым тельцом музыкального автомата: мужчина, вытащивший для смеха вставные челюсти; женщина с лениво, не в такт музыке прыгавшими грудями; человек средиземноморского типа, выбритый до матовой синевы; водитель автобуса в форменной фуражке; благородная, трясущаяся от джина женщина в дождевике; две плоскогрудые девушки, которые деревянно танцевали друг с другом, переговариваясь по-немецки; блондинка средних лет с бульдожьей физиономией, – все смешались в подвижную массу, похожую на гороховый пудинг. В кипящее варево добавились Эдвин с партнершей, энергичной, со змееподобными шевелившимися волосами. Вскоре Эдвин обнаружил, что один шлепанец слетел. Он плясал, как бы изображая согбенного старца, заглядывал под ноги, под музыкальный автомат, во все углы. Шлепанца видно не было. Он потерял другой; потом, танцуя, почувствовал, что носки промокли от пролитого пива. Когда музыка смолкла, все подкрепились.
– Чего он потерял?
– Вроде тапки, только я не пойму, как это может быть.
Благородная женщина в дождевике осторожно сказала Эдвину:
– Вижу, вы артистичны, как я. Я позировала лучшим художникам, самым лучшим. Джону, Сиккерту и еще одному, как его… Вы должны посмотреть меня в Тейте [13]13
Тейт – лондонская картинная галерея.
[Закрыть].
– Шлепанцы, – сказал Эдвин, встав на колени, вглядываясь между ногами сидевших людей. – Вон один, – объявил он, ползя на четвереньках к двум девушкам-немкам, одна из которых сидела у другой на коленях.
– Эдвин, – окликнула Шейла, – что ты делаешь?
– Шлепанцы.
– Нельзя было тебе выходить, ты же знаешь. Я сейчас позвоню, такси вызову, и отвезу тебя прямо туда.
По какой-то причине факт потери шлепанцев и исполнения танца в носках внезапно вселил в вытащившего зубные протезы мужчину нежное чувство к Эдвину.
– Выпейте-ка вот это, майор, – прошамкал он. – Возьмите в правую руку и повторяйте за мной. – Он был в хорошем костюме, но без воротничка и без галстука. Возбужденный Эдвин увидел в своей руке стакан скотча. – Видно, вы любите позабавиться, вроде меня. Я сразу заметил, как только вы вошли. – Кажется, посетители клуба быстро подмечали родственные черты.
– Сейчас я обратно тебя отвезу, – пообещала Шейла, – допью, только. Танцевать в носках, надо же. Взглянуть бы, что там у тебя в голове. – Шокирующая уместность подобного замечания поразила ее. – Ох, – сказала она, – я вовсе не это имела в виду, ты же знаешь. – И взяла его под руку.
– Завтра утром начнут, – сказал Эдвин.
– Да, милый, а сегодня, по-моему, тебе надо как можно дольше поспать. Я к тебе не приду. В конце концов, мы уже повидались сегодня, не так ли?
– Ох, – сказал Эдвин. – Ну, думаю, дело твое.
– Естественно, я приду завтра вечером.
– Визу, вы на полки поглядываете, – обратился к Эдвину Гарри Стоун. – Не густо, да? – Полбутылки джина и обнаженная пластмассовая фигурка. – Не полусис кредит, не сделаес особых запасов. Стыдно думать, сто я погубил заведение. Наверно, потому, сто так сильно его ненавизу. – Пес Ниггер дожевывал оставшийся желудочек. – Покупаем в розницу в баре в «Якоре» перед закрытием, и немнозко наворасиваем. На самом деле так дело не делается.
Девушки-немки принесли по шлепанцу каждая.
– Danke sehr [14]14
Большое спасибо (нем.).
[Закрыть], – сказал Эдвин. И тут услыхал, как крупный мужчина, работавший в Ковент-Гардене или на Ковент-Гарден, рассуждает о филологии.
– Итальянский язык – просто прелесть, – говорил он. – Я слыхал самых лучших итальянских певцов всех времен. Говорят, для пения самый лучший язык. Само собой разумеется, – нелогично добавил он, – потому что старейший. Итальянский просто тип латыни, а латинский язык самый старый.
– О, есть языки и постарше, – возразил Эдвин. – Санскрит, например.
– Ну, вопрос спорный, правда? – Крупный мужчина говорил на каком-то северном английском, медленно, долгие годы, приближавшемся к кокни.
– О нет, – заявил Эдвин, – не спорный. Это факт. – И приготовился к лекции.
Шейла сказала:
– Хватит, едем обратно. – И крепче взяла его под руку.
– Минуту, дорогая. Я просто хочу продемонстрировать нашему другу…
– Меня зовут Лес.
– Очень приятно. Хочу продемонстрировать Лесу…
– Пошли. – И потянула его. У Эдвина возникло впечатление, – впрочем, возможно, ошибочное, – будто она быстро скорчила гримаску братьям Стоун, дав понять, что ее муж не вполне нормален, нельзя поощрять его к разговорам. Хотя он был уверен: не покрутила пальцем у виска. Вполне уверен.
Глава 4
Они шли обратно в больницу пешком, Шейла крепко держала его под руку. Еще даже не пришло время чая: выход Эдвина оказался недолгим. Лишь на ступеньках перед главным входом он спросил о том, о чем хотел, но боялся спросить. Шейла сказала:
– По-моему, я теперь хорошо знаю дорогу. Даже в темноте. Смогу дойти самостоятельно. – Вдруг дунул холодный ветер, по мостовой полетели сморщенные листья. Эдвин спросил:
– Зачем тебя хотел видеть Рейлтон?
– Рейлтон?
– Ну, знаешь, доктор. Слушай, – добавил он, – холодно. Зайдем в вестибюль ненадолго.
– Пожалуй, не пойду. Не могу, правда. Я так обрадовалась, что ты вышел. Ненавижу больницы.
– Что он сказал?
– Разве я тебе не говорила? Что все будет хорошо, чтоб никто не беспокоился.
– Брось. Только для этого он бы тебя не позвал. Что он на самом деле сказал?
– Еще чего-то, только, собственно, я говорила. Хотел кое-что уточнить, всякие вещи из первой истории болезни.
– Например?
– Ну, ты знаешь не хуже меня. Про то, как ты упал, и так далее. Сколько пил. Про нашу супружескую жизнь. Были мы счастливы, и так далее.
– Ну и что, были, нет?
– Были, конечно. – Тон не слишком убежденный. Она сунула руки в крошечные кармашки жакета. – Холодно. Слава богу, я привезла с собой шубу.
– И о сексе, конечно?
– И о сексе. Слушай, по-настоящему холодает, правда? По-моему, нехорошо тебе стоять на холоде.
– Что они подозревают? – спросил Эдвин.
Шейла помялась.
– Не знают, что подозревать. Говорят, явно что-то не в порядке, скоро надеются выяснить. Не думают, будто слишком серьезно.
– Как же можно так думать, не зная, что подозревать?
– Не имею понятия. Я не доктор. Слушай, я замерзла. Честно, это все, о чем шла речь.
– Хорошо, – сказал Эдвин. А потом добавил: – Мне очень жаль насчет секса.
– Ох, все будет хорошо. Я уверена. – Она элегантно притопывала, приплясывала, подпрыгивала на холоде. – Глупо было с твоей стороны выходить в шлепанцах.
– Да. Вечером чем собираешься заниматься?
– Ох, черт, – сказала Шейла, – чем я могу заниматься? Знаешь, не очень-то весело мне торчать тут в дешевом отеле, никого не зная.
– Ты знаешь мойщика окон, пару близнецов-евреев.
– Ох, не будь идиотом. Тебе отлично известно, что я имею в виду. Они, кстати, наполовинуевреи. Лео знает Бирму, по его словам. Был военным моряком.
– Пожалуй, я лучше войду. – Эдвин хотел оказаться в уютной палате, где нянечки-итальянки подают чай, почитать статью по морфологии в самом последнем номере «Лэнгвидж».
– Никаких развлечений. – Кажется, Шейла была готова продолжить беседу. – Чем, по-твоему, я должна заниматься по вечерам?
– Существует кино, балет… – Больше ничего не приходило в голову. – Театр, – вспомнил Эдвин. – Опера. – Звучало все это скучно.
– Знаешь, не могу же я одна ходить.
– Другие женщины ходят.
– А я не хожу. В «Якорь» заглядывал бородатый мужчина. Обещал в свой клуб меня взять. Писатель, художник или кто-то еще. Все-таки хоть какое-то разнообразие, может быть.
– Будь осторожна. В Лондоне попадаются весьма странные типы.
– Ведь я не ребенок, на самом деле. Он сказал, с большим сожалением слышит, что мой муж в больнице. Сказал, наверняка мне очень одиноко. – Шейла фыркнула и содрогнулась. – Ужаснозамерзла, – сказала она. – Мне надоидти.
– Не придешь вечером?
– Ты уже получил свою долю. – Она улыбнулась. – Постарайся пораньше заснуть. А я завтра приду.
– Хорошо. Ох, отель.
– Что?
– Отель, где ты сейчас. Где он, как называется?
– Не хочу, чтобы ты вылезал из постели звонить, простужался и всякое прочее. В любом случае, не совсем точно помню название. Ах да, «Фарнуорт». В больнице, в любом случае, знают. Адрес ближайшего родственника.
Шуршали листья.
– Мне очень жаль, что все так получилось, – сказал Эдвин. – Но ведь для тебя это нечто новое, какое-то разнообразие, правда? Вроде каникул. Приятная перемена после Моламьяйна…
– Мой дорогой, милый Эдвин, зачем ты извиняешься? На этот счет, я имею в виду. Ты тут не виноват. И действительноперемена после Моламьяйна. Холоднее, немножко грязнее… Да нет, нет, мне нравится Лондон, я просто шучу. Протяну как-нибудь. Иди теперь, пей свой чай, или что там еще.
– Это тыдолжна есть. Я уверен, что ты мало ешь.
– Ем нормально. А теперь иди к своим милым сестрам. – Она снова затанцевала; листья плясали вокруг, как котята. – Ну, я должнаидти, – сказала она, – и немножко согреться. Ох, – добавила, – чуть не забыла. – И наградила его холодным поцелуем; холодным, предположил он, потому что губы замерзли, потому что она хочет уйти и согреться. Тепло, думал он, вот чему мы верны до конца. Шейла ушла быстро, как школьница.
Эдвин вошел в больницу: те две девушки-немки, думал он, назвали бы ее психушкой. Привратник из-за конторки окликнул его:
– Слишком поздно для посетителей, сэр. Вечером заходите.
– Разве я похож на посетителя? – сказал Эдвин.
– Выходящие пациенты, – сурово указал привратник, – должны записывать свои фамилии. У меня тут не записано никаких фамилий.
– Доктор Прибой.
– Ох, простите, сэр. Я не знал, сэр. Прошу прощения.
Эдвин не пошел в лифт, он терпеть не мог лифты. Медленно поднимался по лестнице к своей палате. Вокруг не было никого, способного сделать выговор. Он медленно подошел к шкафчику, вытащил свою пижаму, халат, спокойно переоделся в ванной. Снова исследовал лицо в зеркале: лицо казалось вполне нормальным. Потом вспомнил, что забыл задать Шейле последний откровенный вопрос. По ее мнению, он изменился? Впрочем, она уклонилась бы от ответа. В пижаме, в халате, вошел в длинное теплое больное помещение, бывшее теперь его домом. Разносили чай. Р. Дикки сказал:
– Ты где был? Все тебя спрашивали.
– Чего хотели?
– Да ничего. Просто хотели знать, где ты был.
– Я был… – Даже будучи филологом, Эдвин стыдился публично произносить некоторые слова, подыскивал эвфемизм, и автоматически выскочил тот, что использовал сам Р. Дикки. – В старой дыре, – сказал он.
– Долгонько сидел.
– Дело довольно долгое и огорчительное, – объяснил Эдвин.
– Скажи только им, вставят клизму по-черному. Честно. Огорчительное, да? Законное словечко.








