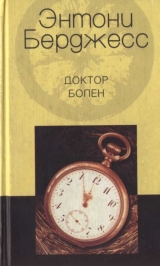
Текст книги "Доктор болен"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Энтони Берджесс
Доктор болен
Посвящается Л. У.
Глава 1
– А эточем пахнет? – спросил доктор Рейлтон. И сунул под нос Эдвину нечто вроде чернильницы.
– Я могу ошибиться, но сказал бы – мята перечная. – Эдвин ждал гонга ведущего викторины. Слышалось, как за расставленными вокруг его койки ширмами на колесиках ест остальная палата.
– Боюсь, вы в самом делеошиблись, – объявил доктор Рейлтон. – Лаванда. – Гонг. Но Эдвин еще в игре. – А это?
– Наверно, что-то цитрусовое.
– Снова ошиблись. Жестокоошиблись. Гвоздика. – В мягком голосе тон морального осуждения. Доктор Рейлтон мягко сел на край койки. Мягко, женскими карими глазами с длинными ресницами, взглянул на Эдвина сверху вниз. – Не совсем хорошо, да? Совсем не хорошо. – Ножи и вилки слабо постукивали и поскребывали инвалидным оркестром.
– Я простужен, – оправдался Эдвин. – Резкая перемена климата. – Умирающий английский год постукивал в окна палаты, будто выпрашивал койку. – Когда мы выезжали из Моламьяйна, было сильно за девяносто [1]1
Выше 36 °C. (Здесь и далее примеч. перев.)
[Закрыть].
– Ваша жена приехала с вами?
– Да. Официально, как моя сиделка. Но почти все время страдала воздушной болезнью.
– Ясно. – Доктор Рейлтон кивал и кивал, словно все было действительно очень серьезно. – Ну, придется нам провести разные прочие тесты. Конечно, не сейчас. В понедельник как следует примемся за работу. – Эдвин расслабился. Доктор Рейлтон, подметив это, выхватил камертон. И поднес его сверху, шкварчащий, как кочерга, к правой щеке Эдвина. – Чуете?
– Среднее до.
– Нет-нет, чуете?
– О да.
Мрачный вид доктора Рейлтона лишил Эдвина всякого триумфа. Доктор быстро сделал свой ход:
– Как бы вы определили «спираль»?
– Спираль? О, понимаете, вроде винтовой лестницы. Вроде шурупа. – Обе руки Эдвина принялись описывать спираль в воздухе. – Поднимается выше, выше, все время вращаясь, но с каждым витком постепенно уменьшается, уменьшается, пока просто совсем не исчезнет. – Глаза его умоляли принять определение.
– Правильно, – подтвердил доктор Рейлтон с той самой своей новой мрачностью. – Правильно. —Но имел в виду явно не определение. – А теперь, – сказал он, поднявшись с края койки, грубо толкнув окружавшие ее ширмы, которые скрипуче проехали на колесиках около ярда, с ошеломляющей неожиданностью явив взору едоков мороженого. – Встаньте с койки, – велел новый, грубый доктор Рейлтон, жестом приказывая прекратить симуляцию. Пояс пижамных штанов Эдвина потерялся где-то между Моламьяйном и Лондоном; вспыхнув, он подтянул выше щиколоток полосатые обшлага. Едоки мороженого спокойно смотрели, как будто рекламу по телевизору. – А теперь, – приказал доктор Рейлтон, – пройдите по абсолютно прямой линии отсюда вон до того человека. – Указал на возбужденного с виду пациента, который кивнул, как бы выражая готовность участвовать в любом полезном эксперименте, пациент, заключенный в клетки со змеями резиновых трубок. Эдвин пошел, как пьяный.
– Порядок, – ободрил его возбужденный пациент. – Здорово выходит, да.
– Теперь идите обратно, – скомандовал доктор Рейлтон. («До встречи», – сказал возбужденный пациент.) Эдвин пошел обратно, пьяней прежнего. – Теперь лягте в постель, – велел доктор Рейлтон. Потом, словно на самом деле все это не следовало воспринимать слишкомсерьезно, словно он был таким только за деньги, а милей человека после пары пинт не найти, доктор Рейлтон по-мальчишески рассмеялся, играючи ткнул Эдвина в грудь, взъерошил ему волосы, попробовал отщипнуть кусок плеча.
– В понедельник, – посулил он, смеясь, из дверей, – начнем по-настоящему.
Эдвин оглядел товарищей по палате, которые улеглись теперь, сытые, цыкая зубами. Возбужденный пациент сказал:
– Знаешь, кто это был?
– Доктор Рейлтон, не так ли?
– Не, это ясно. Я хочу сказать, кто он раньше был. Хочешь сказать, не знаешь? Эдди Рейлтон.
– Действительно?
– Все по телику выступал, пока учился на доктора. Красиво на трубе играл, да. Понял, нет?
Негр-санитар подошел к койке Эдвина. Тягуче, ласково разгладил постельное белье, прозрачно глядя сквозь толстые интеллектуальные стекла очков.
– А теперь, – сказал он, – поешьте.
– Нет, действительно, мне, пожалуй, не хочется.
– Да, да, поешьте. Надо есть. Все должны есть. – Низкие тона негритянской проповеди. Он торжественно прошагал к двери. Возбужденный пациент крикнул из своего трубчатого гнезда:
– Эй, притащи нам вечерку. Там малец в холле как раз торговать должен.
– Некогда мне, – объявил негр-санитар, – таскать вечерние газеты. – И вышел.
– Фу-ты, ну-ты, – возмущенно фыркнул возбужденный пациент. – Понял, нет? Прямо тебе чертовски отличный пример доброго самаритянина, да? Я хочу сказать, понял, нет? Прямо, черт побери, на стену лезешь, да? Честно.
Эдвин праздно повозил по тарелке приготовленную на пару рыбу, кучку мятой картошки, уныло оглядывая палату. Все лежали в койках, кроме его непосредственного соседа. Почти все в белых тюрбанах, как паломники в Мекке, хотя это были знаки не благодати, а бритых голов. Полная палата больных хаджей. Сосед Эдвина сидел в своей койке в халате, мрачно курил, глядя на лондонский вечер в неподвижном квадрате. Лицо его носило клиническую усмешку, составную часть сложного синдрома. Во второй половине дня, вскоре после прибытия Эдвина, заходили двое визитеров из другой палаты, тоже с усмешками, чтобы сравнить усмешки. Нечто вроде клуба насмешников. На прощанье они усмехнулись усмехавшемуся соседу Эдвина и с усмешками удалились. Весьма угнетающе.
Впорхнула штатная сестра, угнетающе здоровая, и возбужденный мужчина из клеток и трубок сказал:
– Добрый вечер, сестричка.
Штатная сестра, не ответив, пролетела в конец палаты.
– Вот, – сказал возбужденный мужчина, – понял, нет? Чего я не так сейчас сделал, черт побери? Говорю ей – добрый вечер, а она – не добрый вечер, а поцелуй меня в задницу, ни за что ни про что. Прямо на стену лезешь, да?
– Нет, – запротестовал Эдвин, – я не хочу мороженого. Нет, большое спасибо, не надо мороженого. Нет, пожалуйста, нет. Никакого мороженого.
– Успокойтесь, – зазвучали тона негритянского проповедника. – Успокойтесь, дружок. Вы здесь как раз затем, чтоб успокоиться. Никто не собирается вас заставлять есть мороженое, если вы не хотите мороженого. Поэтому я просто оставлю мороженое вот тут, возле вашей кровати, просто на случай, вдруг вы передумаете и пожелаете съесть мороженое чуть позже.
– Нет, – твердил Эдвин, – нет. Я не люблю мороженое. Пожалуйста, унесите.
– А теперь успокойтесь. Может быть, пожелаете съесть чуть попозже. – И негр-санитар величественно вышел. Эдвин раздраженно спрыгнул с койки, схватил полное тающее холодное блюдце, готовый его вышвырнуть. Потом подумал: «Осторожней теперь, осторожней, полегче, им понравился бы подобный поступок».
– Если не хочешь, – сказал возбужденный мужчина в трубках, – то мне давай. Я своему мальцу отдам, когда явится вечером. Любит всякое вроде этого, да. Лишь бы холодное. Прямо живьем глотает, да.
Эдвин набросил халат – китайский, шелковый, с ползучими драконами – и прошлепал к койке мужчины. На спинке в ногах красовалось множество графиков – потребление и выведение жидкости, скорость слюнотечения, содержание белка в спинно-мозговой жидкости, а также графики температуры и пульса с взгорьями и глубокими долинами. Имя на всем этом стояло простое и гордое – Р. Дикки.
– Хочешь, покажу тебе всю работу газового завода? – предложил Р. Дикки. – Вот эта вот трубка в перевернутой вверх ногами бутылке как бы накачивает в меня лекарство, а вот эта вот трубка приделана к моей старенькой ерундовине, а вот эта вот воткнута в спину, а вот эта вот точно не знаю куда. А вот это вот типа лебедки, чтоб я мог подняться, а вот это вот типа клетки, чтоб ничего за ноги не задевало. Потрясающе, до чего могут додуматься, да? Смотри не переверни ту бутылочку на полу, потому что в нее вон та трубка одним концом воткнута, а другим мне в старую дыру. Целый день капает, да. А потом измеряют. Потрясающе, нет? Честно. – У него была красная пятидесятилетняя физиономия и волосы в большом беспорядке, словно пребывание в больнице в действительности оборачивалось для него тяжелым морским переходом на траулере.
– Что с вами случилось? – полюбопытствовал Эдвин.
– Упал с чертовой лестницы на работе. Я строитель.
Простой, драматический несчастный случай, высокое и рискованное ремесло. Эдвин подумал о собственном ремесле, о собственном несчастном случае. Преподаватель лингвистики в одном бирманском колледже в один прекрасный день, практически без предупреждения, упал на пол в аудитории, читая лекцию по лингвистике. Он говорил о народной этимологии (мансарда, первоцвет, топинамбур), а потом, практически внезапно, отключился. Очнувшись, увидел озабоченные плоские деликатно-коричневые бирманские лица, смотревшие на него сверху вниз, услыхал свои собственные слова: «Фактически это вопрос ассимиляции неизвестного с известным, понимаете ли, – нежелания признать иностранное слово действительно иностранным». Лежа на холодном полу, он вполне четко видел, как пара студентов на краю окружавшей его группы записывают эти слова в тетрадях. И изрек: «Мы оказываем уважение лишь попавшему в горизонтальное положение». Это тоже было записано.
Врачи серьезно взглянули на дело, устроив очень нудные серии медицинских обследований. Поясничная пункция показала значительный избыток белка в спинно-мозговой жидкости. Доктор Уолл сказал: «Это свидетельствует о наличии там чего-то, чего там быть не должно. Лучше мы пошлем вас назад в Англию показаться неврологу». И вот он здесь, беседует со строителем, упавшим с лестницы.
– В Германии это было, – добавил Р. Дикки. – Может быть, если б тут, по-другому бы вышло. Гляди-ка, вон идут. Пускать начали.
Начали пускать. Выкатили на тележках цветы, наполнили на ночь бутылки водой и стали пускать посетителей. К койке Р. Дикки направились разнообразные седовласые женщины и сосавший большой палец мальчик, взявшийся есть мороженое Эдвина. К распростертым паломникам Мекки пришли веселые семьи, нагруженные виноградом, включая крепких мужчин в пуловерах с экземплярами «Автокара». К Эдвину Прибою пришла Шейла Прибой. А с Шейлой Прибой неизвестный Эдвину мужчина.
– Милый, – молвила Шейла. – Смотри, это Чарли. Чарли, да? Правильно. Я с Чарли встретилась в пабе, и он был так мил, что проводил меня сюда. Я в темноте не очень-то разбиралась в дороге. – Взгляд у Шейлы был не совсем сфокусирован, неаккуратные черные волосы, пудра коркой запеклась на лице. Эдвин почти до ближайшего кубического миллиметра мог вычислить, сколько она выпила. Он ее не винил, ему только хотелось, чтоб она не притаскивала этого самого Чарли.
Чарли взял правую руку Эдвина в обе свои крупные теплые мозолистые лапы.
– Значит, вы Эдвин, – тепло проговорил он меховым баритоном кокни [2]2
Кокни – просторечие коренных лондонцев, особенно уроженцев промышленного портового района Ист-Энд.
[Закрыть]. – Жена ваша всем в баре рассказывала про ваши болезни. Правда, я очень рад, – сказал он, смуглый, грубо красивый, в лучшем синем костюме рабочего класса.
– Всю дорогу меня сюда вел, – продолжала Шейла, – так как я в темноте не очень-то разбиралась в дороге. Очень милый. Смотри, что он тебе купил. Потребовал остановиться у киоска на станции подземки и вот это купить. Сказал, ты захочешь чего-нибудь почитать.
– Правда, я очень рад, – сказал Чарли и вытащил из боковых карманов кучу аляповатых журналов: «Девочки», «Божественные формы», «Посмейся», «Кипучее здоровье», «Обнаженная натура», «Голая правда», «Ухмылка», «Жестокая красота». – Дело в том, – сказал он, – что тут ваша жена мне сказала, будто вы мужчина читающий, вроде меня, а когда болей, хорошее чтение время лучше всего убивает. – Махнул одним еженедельником как бы для демонстрации; голые мужчины и женщины тускло усмехались под верхним светом палаты. – Сядем, а? – предложил Чарли, и Эдвин, чувствуя себя плохим хозяином, повел посетителей к своей койке. – Ну, – сказал Чарли, – чем вы там занимаетесь, как тут ваша жена говорит?
– Лингвистикой.
– А. – Все втроем сели на койку, свесив ноги. – Я про нее никогда не слыхал, – признал Чарли, – это факт. Не подумайте, будто я тут говорю, будто такой вещи нету, просто раньше ни разу не сталкивался, не слыхал даже.
– О, – сказал Эдвин, – она точно есть.
– Может быть, только если и есть, то повыше таких голов, как у нас вот тут с ней. – Чарли мотнул головой в сторону Шейлы. – Я вот мойщик окон. Каждый поймет, чего это такое, а при такой работе не попадаешь в места вроде этого. Не подумайте, мойщик окон может, конечно, в больницу попасть, да только не в такую; мойка окон мозгов не касается. То есть не касается, когда ты для этой работы годишься. Кое-кто не годится, и я бы сказал, что вы сами, скорее всего, не сгодитесь. Не хочу никого обижать, да у каждого свое ремесло. Если лезешь по лестнице, то уж не замирай. Повидал я юнцов, только начавших, – мы их зовем неваляшками, – замирают, торчат там на лестнице, и никак никому не заставить их слезть, если они к тому не готовы. Я хочу сказать, отмереть они могут только по собственной воле. Помню, я рубанул по рукам одного такого неваляшку, что замер на высоте двадцати этажей. Ветер был очень сильный, и вот я с подоконника рубанул его ребром ладони, да так отмереть не заставил.
Эдвин страдал акрофобией [3]3
Акрофобия – патологическая боязнь высоты.
[Закрыть]. Голова у него закружилась, он тихонько спустил ноги на пол.
– Что с тобой собираются делать, милый? – спросила Шейла.
– Собираются делать анализы, – доложил Эдвин. – Думаю, хотят попробовать заглянуть в мозг.
– Ты им этого не давай, – посоветовал Чарли. – Если еще не свихнулся, они доведут. Потом законопатят, не выберешься, никому не докажешь, что они во всем виноваты, не ты. Мозги – твоя собственность, нечего им там копаться. Посмотрел бы я, как ко мне в мозги заглядывают, – презрительно заметил он. – Мозги – механизм деликатный, не то что часы, наручные или стенные.
Подошедшая сзади сестра-индианка с усиками и бакенбардами сказала:
– Миизиис Приибоой? Доктор хочет вам сказать пару слов у себя в кабинете.
– Если попробуют получить у тебя разрешение, – предупредил Чарли, – чтоб проделывать всякое с его мозгами, на что иначе не осмелятся, просто скажи – нет, и все тут. Попросту вот так вот, нет. Самое короткое слово во всем языке, и чаще всех говорится. – Но Шейла уже шла к большой стеклянной цистерне кабинета в конце палаты.
– К вашему сведению, – сказал Эдвин, – это слово не самое короткое в языке. – Он чувствовал, что, ободранный как липка, с одной пижамой, койкой, бутылкой с водой, должен противостоять этому смуглому, задубеневшему мойщику окон, демонстрируя свой единственный авторитет. – Безусловно, кратчайшее – неопределенный артикль в слабой форме. Всего одна фонема. Я, разумеется, веду речь о форме неопределенного артикля, употребляемой перед словом, начинающимся с согласной. – Высказавшись, он себя лучше почувствовал.
А Чарли сказал:
– Отличная девчонка твоя жена. Я говорю «девчонка», не думая никого оскорблять, больше имея в виду женщину, или, может быть, молодую женщину, кто как считает. Я бы сказал, приблизительно твоего возраста, а тебе я бы дал тридцать восемь, хоть у тебя еще полная голова волос. Она нынче явилась в публичный бар в «Якоре» и обставила Фреда Титкомба в дартс. Пила наравне со мной пинту за пинтой. Надо б тебе ее в руках держать.
Эдвин чувствовал очередной поднимавшийся приступ невольного раздражения, сообщавший ему, что он болен.
– Вы ведь не поняли, – подчеркнул он, – про неопределенный артикль. И даже не спросили, что такое фонема. А не знаете, вполне уверен.
– Ну, – спокойно сказал Чарли, – ведь это значения не имеет, правда? К делу, так сказать, не относится. Я целой кучи вещей не знаю, да теперь уже слишком поздно начинать им учиться.
– Нет, не поздно, не поздно. – Эдвин сдерживал поток слез. – Вам прекрасно известно, никогда не поздно. – Кое-кто из ближайших посетителей, с нетерпением ожидавших, когда звонок выставит всех, уже все сказавших, даже больше того, что им было сказать, с надеждой взглянули на Эдвина. Но он, взяв себя в руки, вновь спокойно сидел на кровати, смаргивая слезы.
– Все с тобой будет в полном порядке, – заверил Чарли. – Попомни мои слова. Поправишься, здоровей быка будешь. – В этот момент вернулась Шейла, слишком сияющая, чересчур радостная.
– Ну, – объявила она, – кажется, все будет хорошо, вообще не о чем беспокоиться.
– Это все, – спросил Эдвин, – что он хотел сказать тебе?
– Ну да, почти. Говорит, абсолютно все будет в порядке. Вот что он сказал.
– Точно то же самое я ему говорю, – вставил Чарли. – А ведь я не доктор.
Сестра-нигерийка с искусно вырезанной из черного дерева головой вошла с колокольчиком и объявила:
– Все визитеры на выход, если не возражаете.
По палате прокатилась волна облегчения. Эдвин с грустью увидел, как жена с излишней готовностью поцеловала его, пообещала прийти завтра, быстро взмахнула помадой ради здорового внешнего мира. Чарли наказал:
– Читай книжки, что я тебе купил. Держись веселей. Бросай мрачные мысли о всяких вещах.
С уходом посетителей в палате как бы прозвучал тихий удовлетворенный выдох: наконец колокольчик выгнал чужаков. С бодрыми голосами, аккуратно одетые, они принадлежали фривольному миру. Не каждый способен вернуться к серьезному делу болезни – в конечном счете к истинному человеческому состоянию. Виноград и журналы из чужого мира лежали нетронутыми какое-то время – время, необходимое на их акклиматизацию, ассимиляцию. Ближайший сосед Эдвина, к которому никто не пришел, без движения сидевший на койке, задумчиво куря, теперь с ним впервые заговорил. Неподвижно скривившимся ртом он сказал, усмехаясь:
– Жена ваша – прямо отпад. Люблю таких. И к тому же брюнетка. – И молча продолжал усмехаться.
Глава 2
Эдвин вытащил термометр из теплой подмышки, где тот стоял, посмотрел и протянул сестре.
– Девяносто восемь и четыре [4]4
36,8 °C.
[Закрыть], – сказал он.
– Вам не положено знать свою температуру, – упрекнула сестра, угрюмая славянка с болезненной желтизной и большими ступнями. – Вам даже не положено понимать показания термометра. – Насупилась над пульсом, оттолкнула запястье Эдвина, записала вечерние показатели. – Кишечник освобождался? – спросила она.
– Да, – соврал Эдвин. Иначе каких она только не выдумает слабительных кошмаров? – В высшей степени.
– Это не обязательно говорить. Вполне достаточно сказать да.
– Простите, – извинился Эдвин. А потом, когда она двинулась прочь, добавил: – Spasibo, tovarisch.
– Благодарить меня не за что. Это моя обязанность. К тому же я не русская.
Эдвин лежал на спине, лампа у койки заливала лицо теплым светом. Он пролистал один из даров Чарли; голые, страница за страницей. Голые, нагие. Эти голые, не нагие. Он встревожился, что его больше волнуют коннотационные различия между двумя словами, чем сама голая или обнаженная плоть, реальная или изображенная. Доктор Мустафа, пухлый смуглый следователь из клиники тропических болезней, куда сначала направили Эдвина, тоже тревожился по этому поводу. «Бывает, что вы не испытываете желания к своей жене? К чьей-нибудь чужой жене? Вообще к любой женщине? Вообще ни к кому?» Потом в спокойном возбуждении подался вперед. «К мальчикам? К козам?» Истинно научный подход. «А как насчет фетишей? – спрашивал доктор Мустафа. – Туфли? Нижнее белье? Очки? – Доктор Мустафа испустил глубокий, глубокий, глубокий сочувственный вздох. – Что-то неладное с вашим либидо. Очень прискорбно».
Действительно, очень прискорбно. Впрочем, подменно прискорбно. Поборовшего привычку к табаку мужчину поздравляет весь белый свет. Но не утрата ли это, пусть даже непроизвольная, аппетита совсем иного порядка? Да, ибо, несмотря на все выверты Барри [5]5
Герой пьесы шотландского драматурга Джеймса Мэтью Барри (1860–1937) «История любви профессора» в своих рассуждениях постоянно подменяет понятия.
[Закрыть], никотин не дама. А дама не никотин. Чья-то жена не пачка «Сениор Сервис». Поэтому все это подменно прискорбно.
Эдвин уставился, теперь, впрочем, невидящим взглядом, на голую по имени «Вера» (зачем кавычки? – недоумевал он). Но думал не о вере, а о верности. Они с Шейлой давно согласились, что сексуальная измена на самом деле вообще не измена. Выпивку, сигарету можно ведь от любого принять, почему точно так же не провести час-другой в постели? Того же типа вещь. Даже когда она не могла по каким-то темным прихотливым причинам делить плотскую страсть друга или незнакомца, всегда была готова спокойно лежать, как пассивная пища, утоляющая тот самый аппетит. «Ça vous donne tant de plaisir et moi si peu de peine» [6]6
«Вам это доставляет такое удовольствие, а мне стоит так мало труда» (фр.) – фраза, приписываемая знаменитой французской куртизанке.
[Закрыть]. Ее любимый девиз. Настоящая измена, по ее мнению, должна влечь за собой полное и окончательное проклятие; она непростительна, это грех против Духа Святого. Предпочесть просто бытьс другим, связать духовной близостью свою свободную волю с другой – вот истинный адюльтер.
Умом довольно легко понять этот нравственный взгляд, думал Эдвин. Проблемы начинаются с переходом промискуитета из концепции в сферу перцепции. Любопытна способность столь иррациональных женщин к возвышенным рассуждениям, к искреннему изумлению тем фактом, что даже доктору философии захочется выхватить нож, реально увидев,реально услышав.Эдвин фактически видел, фактически слышал лишь раз, сравнительно недавно, в одном отеле в Моламьяйне. Шейла любезно простила ему его ярость; в конце концов, несостоятельность его либидо уже имела место; он был не вполне нормальным.
Чего Эдвин боялся сейчас, так это полного краха своей супружеской жизни, ибо Шейла лишилась выбора, права выбора между его постелью и всеми прочими на свете. Она нуждалась в базовом лагере для ведения мародерских набегов; теперь могла найти новый, не пускаясь в целенаправленный поиск. Эдвин не верил, будто кто-либо в больнице, невролог или психиатр, мог хоть что-нибудь кардинально исправить. Либидо навсегда исчезло; любая данная фаза личности всегда может оказаться конечной; он хотел гарантировать, что никогда больше снова внезапно не рухнет на лекции по народной этимологии, по, если для него гвоздика пахнет перечной мятой, кто вправе указать ему на ошибку? Но хотя его подменно тревожило окончание сексуальной жизни, безусловно, на этом предмете можно проверить их брак на прочность. В один прекрасный день все браки станут бесполыми, однако позади при этом, как правило, больше пятнадцати лет. Тридцать восемь (Чарли не ошибся в оценке) слишком мало, чтобы навсегда упаковывать инструменты.
Насмешник рядом с Эдвином уже спал, тяжко трудясь во сне. В перерывах он объявлял результаты футбола с фантастическим счетом.
Эдвин решил, что действительно предпочитает тревогу из-за утраты сексуального влечения излечению от этой утраты людьми вроде доктора Рейлтона. Он сознавал свою неразумность и неблагодарность, но чувствовал, что это чувство лишает его права выбора. Потом вспомнил, что этого самого права на выбор лишилась Шейла. Он совсем запутался. Потом в затемненную палату с немногими горевшими у коек лампами вошел на цыпочках доктор Рейлтон, как бы с целью прийти, все распутать. Доктор Рейлтон с улыбкой сказал:
– Рад, что вы еще не спите, мистер Прибой. Есть просто парочка мелочей…
– Лучше сразу проясним вопрос, – предложил Эдвин. – Вопрос чинопочитания. ДокторПрибой.
– Доктор? – Доктор Рейлтон насторожился: бред мании величия?
– Да. Университет Пасадины удостоил меня степени доктора философии. За диссертацию о семантическом смысле группы согласных «шм» в разговорной американской речи.
– О семантическом, – повторил доктор Рейлтон. – Вы ведь не очень-то хорошо справились с той самой «спиралью», правда?
– Я и не собирался очень хорошо справляться, – заявил Эдвин.
– А теперь, – сказал доктор Рейлтон, присев на койку, ведя речи тихо, – я вам расскажу небольшую историю. А потом я хочу, чтоб вы мне ее пересказали своими собственными словами. Хорошо?
– Хорошо.
– Было это или не было, – начал доктор Рейлтон, – в городе Ноттингеме полисмен шел к дверям дома одного джентльмена по имени мистер Хардкасл на Рук-стрит. Все на улице говорили: «Ах, наконец-то идут его арестовывать, так мы и знали, рано или поздно его заберут». Однако на самом деле полисмен шел всего лишь продать мистеру Хардкаслу билет на ежегодный полицейский бал. Мистер Хардкасл отправился на полицейский бал, напился, врезался в автомобиле в фонарный столб, был фактически арестован, так что его соседи были неким пророческим образом правы. Теперь перескажите своими словами.
– Зачем? – спросил Эдвин. – К чему вы клоните? Что стараетесь доказать?
– Я свое дело знаю, – сказал доктор Рейлтон. – Перескажите все это своими словами.
– В Ноттингеме есть замок [7]7
Касл (castle) – замок (англ.).
[Закрыть], отсюда фамилия джентльмена, – пояснил Эдвин. – Замок – шахматная ладья [8]8
Рук (rook) – ладья (англ.).
[Закрыть], отсюда название улицы.
– А теперь, пожалуйста, – попросил доктор Рейлтон, – перескажите историю.
– Я позабыл историю. История, в любом случае, глупая.
Доктор Рейлтон быстро чиркал заметки.
– Хорошо, – сдался он. – «Веселый» и «меланхолик», в чем разница?
– Есть разные разницы, – сказал Эдвин. – Одно слово трехсложное, другое четырехсложное. Одно французского происхождения, другое греческого. Одно прилагательное, другое существительное.
– Да вы одержимый, – заключил доктор Рейлтон. – Я имею в виду, словами.
– Это не одержимость, это занятие. Моя работа.
– Попробуем цифры, – опечаленно, терпеливо продолжал доктор Рейлтон. – От 100 отнимите 7, а потом продолжайте отнимать семь от остатка.
– 93, – уверенно сказал Эдвин, потом не столь уверенно, – 86… 79… 72… – С затемненной постели раздался голос:
– Семечки, когда в дартс играешь, да? Без конца отнимаешь, нет? – И пулеметом протараторил: – 65, 58, 51, 44, 37, 30, 23, 16, 9, 2. Ерунда, если в дартс играешь, да?
– Спасибо, мистер Дикки, – саркастически поблагодарил доктор Рейлтон. – Вы нам очень помогли.
– Надо было пособить, нет? Покончено с цифрами, да? – Тут спящий насмешник рядом с Эдвином принялся речитативом напевать свежие результаты:
«Блэкберн» – «Манчестер Юнайтед», 10:5.
«Ноттингем Форест» – «Челси», 27:2.
«Фулэм» – «Вест-Хэм», 19:3.
– Думаю, – вздохнул доктор Рейлтон, – на один день в самом деле достаточно.
– У него ставки, что ль, на уме, да? – уточнил Р. Дикки. – Они самые у него на уме, нет? Ставки.
– Хотите снотворную таблетку? – спросил доктор Рейлтон. – Чтоб заснуть, – пояснил он. Эдвин отрицательно покачал головой. – Ну, тогда хорошо. Спокойной ночи, докторПрибой. – И ушел.
– Прямо сплошной сарказм, да? – сказал Р. Дикки. – Прям сплошная насмешка. Вроде торчал бы ты тут, если б на самом делебыл доктор.
Эдвин выключил свою лампу у койки, последнюю. Теперь в палате было темно, кроме слабого ночника над головой и столь же слабой лампы на столике ночной сиделки, на столике, уютно укрывшемся в импровизированном шалаше за ширмами. Ночная сиделка где-то ужинала.
– Рассказывает тут истории про Ноттингем, – не унимался Р. Дикки. – Спорю, он никогда в жизни не бывал в Ноттингеме. У меня сестра туда вышла замуж. Я то и дело ездил повидаться, да. Милый городок, Ноттингем. Потрясающе, как они рассуждают про то, про что ни черта не знают, нет?








