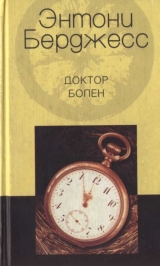
Текст книги "Доктор болен"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Глава 27
– На этот раз, – сказал Боб, пока они окольными улицами продвигались на запад, – ни-каких копченых лососей на заднем сиденье машины. Ничего тебе на этот раз, кроме того, что получишь. А получишь? Я бы сказал, получишь.
– Ты сам виноват, – сказал Эдвин. – Вот что бывает с чокнутым.
– Не испытывай, не огорчай меня, – сказал Боб, пока уютно сиявшие пабы улетали в спокойное и счастливое прошлое. – Не надейся заставить остановиться и еще разок врезать в рыло, чтоб ты начисто вырубился. О нет. – Проехали строительную площадку, где за вечерней работой кивали краны, стучали молоты. – Сбагрил тут пять котлов, – с гордостью сообщил Боб, – всего день назад. – И яростно обрушился на Эдвина: – Не надейся вот так вот меня заморочить, не выйдет. Мне известно, чего тебе надо. Ты мой телик разбил. Ты хлысты мои выкинул из долбаного окна. Деньги стырил. Только я это все возмещу, будь спокоен, в том или в ином виде.
– Деньги были фальшивые, – заявил Эдвин.
– Ах, фальшивые? – саркастически переспросил Боб. – Видно, много ты в этом петришь. Ну, частично, если хочешь знать правду, фальшивые. Остальные настоящие. Всегда перемешано хорошее с плохим, а фальшивое с настоящим, прямо как в фактической жизни. Или в тебе самом. Ты ведь фальшивый, вот именно. Фальшивка, вот ты кто. Прямо как часть тех пятерок, которые стырил.
– Я хоть на глаза не косой, – сказал Эдвин.
– Шутить пробуешь, да? – бросил Боб. – Стараешься меня взбесить, да? Знаю, на что намекаешь, не бойся. Намекаешь на ту пташку в шлеме, которая будто бы «Правь, Британия». Ну, тот тип, что их делал, очень из-за этого переживал. Честно скажу, его лучшие времена позади, да когда-то никто рядом с ним и за милю не встал бы. Смехота, – ухмыльнулся Боб. – Знаешь правду про свои глаза? Они фальшивые, вот так вот. Точно так же, как волосы на голове. Фальшивые глаза, притворяются чокнутыми, только чокнутые не больше моей задницы. Обманщик, вот кто ты такой. Змея в траве. Не бойся, получишь все, что причитается.
– Что ты со мной сделаешь? – полюбопытствовал Эдвин. Он фактически индифферентно относился к перспективе боли, пострадав от артериографии и воздуха в черепе. Но был заинтригован мыслью о мазохисте, изобретающем в качестве наказания нечто болезненное и таким образом, по солипсической логике, доставляющее наслаждение.
– Точно еще не решил, – сказал Боб. – Соображу что-нибудь и поручу ребятам. Настоящие пытки какие-нибудь, так что до посинения будешь вопить.
– Значит, ребята на месте? – уточнил Эдвин. – Будет забавно.
Боб искоса на него глянул долгим хитрым взглядом, быстро ведя машину по-прежнему по закоулкам, где не было других машин.
– Вот тут ты, по-моему, врешь, – сказал он. – Ничего забавного ты тут не видишь. Не нравятся тебе подобные вещи. Притворщик, вот кто ты такой.
– А если, – предложил Эдвин, – если я по тебе хорошенько пройдусь хлыстами и прочим? Хорошо отхлещу по спине, пока кровью весь пол не зальется, а ты не взвоешь о пощаде? Мило было бы, правда? А для меня было бы настоящее наказание, учитывая, что я не чокнутый.
– Не надо, – сказал Боб, стиснув зубы и подняв плечи в ответ на воображаемое битье по спине. – Не искушай меня. Ты должен получить наказание. Это только справедливо, и честно, и правильно. Ты должен пострадать. А таких вещей даже не поминай, – предупредил он. – Это нечестно, когда я за рулем.
– Как думаешь, – спросил Эдвин, – можно парик надеть? Знаешь, я очень переживаю насчет лысой головы.
– И еще кое-чего переживешь, – посулил Боб, – пока ребята с тобой не покончат. Руки держи у меня на виду. Мне твоих шуточек больше не надо, вот так. – Он вел машину, глубоко дыша. – Джок привел одного облома, на другом чокнутого. Будет палить горящими спичками волосы у тебя на ногах. Это его возбуждает. Трудно понять, но так оно и есть. Он как-то притащился со мной повидаться, – рассказывал Боб теперь тоном дружеской беседы, – поглядеть, не поладим ли мы. Здорово возбуждается из-за этих горящих спичек. – Эдвин знал: это чистая фикция, Боб изо всех сил старается напугать его. – А мне, – признал Боб, – на самом деле хлысты больше нравятся. Ты, сволочь, – злобно продолжал он, – выкинул их на улицу. Замечательные хлысты, мою коллекцию, ценой в целое состояние, швырнул на улицу. Чистая злобная пакость, вот что это такое.
– Я так понимаю, ты их наверняка подобрал, – заключил Эдвин, – несколько по крайней мере. Иначе откуда бы знал, что я их на улицу выкинул?
– Ладно, умник, – сказал Боб. – Мы твою маленькую игру насквозь видим. Крупный притворщик, вот кто ты такой; выдумал шайку Перрони и прочее. Тогда как шайка Перрони в этот сезон временно отдыхает; сам Перрони на юге Франции. Не вышел номер, да? Хотел свалить вину на бедного долбаного Перрони. Не думай, будто я хоть когда-нибудь заступлюсь за Перрони. Это настоящий ублюдок. Но для твоего образа мысли типично. – И мрачно задумался о порочности Эдвина. – Пришлось ходить, наезжать на всех ребятишек в округе, чтоб хлысты назад получить. И то пока еще не все. А один парень сам на меня наехал, представь. Говорит, врезал бы мне как следует моим же хлыстом. Я попал в очень странное положение, понимаешь.
Теперь Боб должен был повернуть на широкую магистраль с магазинами, с огнями, с людьми. Эдвин видел: он все больше нервничает, пальцы в перчатках дергаются на руле.
– Досада, раздолбай ее, вот что, – сказал Боб. – Светофоры, а ты просто вздумаешь выскочить из машины, пока свет меняется. Да только я их проскакивать буду. Нельзя тебе верить, – упрекнул он, – обманщик.
– Слушай, – сказал Эдвин, – нравится тебе или не нравится, я собираюсь надеть свой парик. – И вытащил парик с груди, оторвав по ходу дела пуговицу на рубашке.
– Ох, ладно, – плаксиво протянул Боб. – Надевай, если хочешь. С меня хватит, вот именно.
– Святители небесные, – почтительно молвил Эдвин, пристально вглядываясь через Боба в витрину магазина по правой стороне улице, еще держа парик в руках. – Какая изумительная витрина. Наверно, к Рождеству. Вот это хлысты. – Боб, не в силах устоять, повернул вправо голову, и Эдвин нахлобучил на него парик. Парик, оказавшись несколько великоватым, съехал Бобу на глаза. Боб от удивления и неожиданности чертыхнулся, оторвал от руля руки, чтоб сорвать с себя кудри, одновременно сильно нажав на педали обеими ногами. Машина остановилась, и абсолютно правильно, ибо вспыхнул желтый свет. Эдвин рванул ручку дверцы, вывалился на дорогу, через две секунды очутился на тротуаре, используя как щит толстую пешую пару (явно супружескую, все больше походившую друг на друга по мере ожирения). Исполнив в стиле Чарли Чаплина разнообразные рывки и оглядки, он потом увидал впереди общественный туалет, благодарно метнулся к нему. Слетел вниз по ступенькам в наполненный эхом склеп, обнаружил над писсуарами серьезных мужчин с занятыми руками, ряды cabinets d’aisance [98]98
Кабинки (фр.).
[Закрыть]с щелями для пенни. Изданный им поспешный внезапный болезненный крик (черт возьми, ни единого пенни в кармане) пришелся вполне кстати в этом месте общественного облегчения. Если Боб сейчас свалится вниз…
Эдвин видел, как мужчина в пиджачном костюме и в хомбурге [99]99
Хомбург – фетровая шляпа с узкими, слегка загнутыми полями и продольной вмятиной на мягкой тулье.
[Закрыть], с вечерней газетой под мышкой, вытащил из кармана мелочь, отыскал пенни. Как только он опустил в щель монету и повернул ручку, Эдвин метнулся, сказал:
– Объясню, – втолкнул мужчину в кабинку, шмыгнул следом, запер дверь на задвижку. В подобных местах не просторно. Эдвин с мужчиной стояли близко друг к другу, на манер любовников; мужчина с разинутым ртом.
– Прибой, вы меня поистине поражаете, – сказал мужчина, счистивший теперь с лица первый налет ошеломления и явно оказавшийся мистером Часпером. – Разве нельзя было дождаться завтрашнего утра в офисе? Мужчина, хочу я сказать, имеет право на уединение в определенных местах.
– Меня преследуют, – пояснил Эдвин, – за мной гонится сумасшедший. – Прозвучало смешно, но что еще можно было сказать?
– Видно, мы с вами в одной лодке, – заметил Часпер.
– В какой там лодке. Меня похитили, – заявил Эдвин. – Я только что из машины удрал.
– Да, – сказал Часпер. – Ну, теперь будьте добры открыть дверь и выпустить меня. Я в общем спешу, понимаете ли.
– Делайте свои дела, – предложил Эдвин. – Я не смотрю. – И услышал грохот спускавшихся ног, крик вломившегося в запоздалой погоне Боба:
– Где ты, сволочь? Знаю, ты где-то тут. – Боб принялся колотить в двери кабинок по очереди.
– Говорите, – шепнул Эдвин Часперу. – Скажите ему что-нибудь.
– Шо такое? – Это, наверно, был голос служителя при уборной, привлеченного шумом, ничего хорошего заведению не сулившим. – Шо тут проишходит? – Эдвин отметил слюнявую палатализацию фрикативных альвеолярных фонем.
– Мужик один, – пропыхтел Боб, – удрал. Знаю, он где-то тут, сволочь. – И заколотил в соседнюю рядом с Часпером с Эдвином дверь. – Ворюга долбаный, – добавил Боб.
– Тут не шо-нибудь, а решпектабелыюе жаведепие, – сказал служитель.
– Выходи, – позвал, колотя в двери, Боб. – Знаю, ты там.
– Ждите своей очереди, – прозвучал голос из-за соседней двери, добавляя басовый взрыв здорового испражнения. Боб забарабанил в кабинет доктора Прибоя. Мистер Часпер отчетливо проговорил:
– Вы не лысого ищете, который спешил?
– Да, да, да…
– Он забежал и вышел. Убежал, я сам видел.
– Вот сволочь, – сказал Боб, а потом послышался его топот к выходу и вверх по лестнице.
– Очень дурно воспитан, – заключил Часпер. – Даже не поблагодарил. – Он сел в брюках на седалище унитаза и сурово посмотрел на Эдвина снизу вверх. – Хотя я не имею никакой юрисдикции над вашей личной жизнью, вы, разумеется, понимаете, что подобные вещи скорее свидетельствуют об упадочной тенденции. Вы и в Моламьяйне во время досуга бегали от преследования по общественным туалетам?
– Я вам очень признателен, – сказал Эдвин, – за то, что вы сделали. Боюсь, история очень долгая.
– Охотно верю, – сказал, сидя, Часпер. И задумчиво продолжал: – Блаженной памяти профессор Харкурт был арестован в общественной уборной, не где-нибудь, а в Ноттингеме. Фотографии людям показывал, верите ли? Ну, – сказал он, восседая, как будто на троне, коронованный хомбургом, держа газетный скипетр, – рад был немного с вами побеседовать. Вы, случайно, не знаете, что с моим котелком?
– Хорошо бы, чтоб он у меня сейчас был, – сказал Эдвин. – Тут ужасный сквозняк.
– Ну, забегайте еще как-нибудь, – предложил Часпер. – Жаль, что надо вот так вот спешить, но есть кое-какое весьма спешное дело. Рад был оказаться полезным.
Эдвин отстрелил задвижку, кивнул Часперу, осторожно шагнул в большой санитарный голый вестибюль, наполненный громкими звуками спущенной воды. Осторожно показался на улице. Никакого Боба. Никакой машины Боба. Но тоже льющаяся вода. Дождь. Первый английский дождь, увиденный им с момента отплытия в Бирму; домой в больницу он прибыл в сухой сезон. Дождь был сильный. Ощущение дождевых иголок на голом скальпе незнакомое, сверхъестественное. Эдвин поспешил к дверям магазина, красивого сияющего магазина, полного арифмометров. Двери уже были заняты влюбленной парой в шуршащих объятиях пластиковых дождевиков. Пластиковые любовники, подумал он. А потом подумал, что забыл попросить у Часпера боб-другой. На воду, на хлеб, хозяин, на пачку курева. Курева было еще полно, и он закурил. Все, что дал ему Часпер, – убежище ценой в пенни. Меднолобый, каменнолобый Эдвин шлепнул влюбленного по обнимавшей руке.
– Подайте боб на воду, на хлеб, хозяин, – проскулил он. Влюбленный нетерпеливо сунул бедному лысому Эдвину пару шестипенсовиков и монетку в три пенни. Потом, пластиково шурша, вернулся к своим поцелуям.
Глава 28
Длинная узкая галерея, полная игровых автоматов. Эдвин стоял снаружи, без удовольствия глядя внутрь. Острые иглы дождя на черепе телеграфно сообщали, что он близок к концу. Ангелы дождя благовестили о его усталости, одиночестве, тоске по себе подобному, о тревоге за будущее, об ощущении, что он сам себя предал. Он хорошо справился без чьей-либо помощи, вот что. А доносившаяся из галереи сквозь треск ружейных выстрелов, щелканье шаров, полные надежды и разочарования крики громкая бойкая музыка источала чистую суть шутовской грусти.
– Заходи с дождя, папаша, – пригласил мужчина в белом; в белом, но не в клиническом белом, недостаточно белом для рентгеновской богини. Эдвин коснулся пальцами своих монет, дара влюбленного. Один шестипенсовик с потертой лысой головой Эдуарда Седьмого – серебряный цветик, вылетевший из жаркого пульмана, где подается омлет из сотни яиц; полные фляжки бренди в карманах широкого пальто; пара куропаток на вертеле; «Rosenkavalier» [100]100
«Кавалер роз» (нем.) – опера Рихарда Штрауса.
[Закрыть], поджидающий в Ковент-Гардене. Теперь Эдвин вступил совсем в иной мир. Юнцы с отвисшими губами спускали пенни на странные азартные игры. Одна под названием «Водородная бомба» возвращала деньги обратно за уничтожение целого мира. Спусковой механизм посылал по длинным скоростным туннелям шар за шаром, которые ударяли в преграды, поочередно зажигая огни, обозначавшие Токио, Сингапур, Нью-Дели, Афины, Рим, Берлин, Лондон. Весь земной шар, кроме Нью-Йорка, содрогался, смолкал, и игрок получал назад пенни. Видел Эдвин также игру в пытки – стеклянный куб с куклой на дыбе внутри; спусти сильнее пусковой крючок, и сила отзовется самым что ни на есть реальным воплем. А самая азартная игра: сражение игрока с раком легких (диаграмма груди, бронхиальных путей, загоравшиеся огоньки отмечают зону поражения). А игра для двоих игроков воспроизводила в символах пророческого огня борьбу между красным Китаем и остальным миром. Эдвин, передернувшись, отвернулся к «Ротаминту». Скормил эдвардианский шестипенсовик, глядя, как скрипят колеса, зажигаются цифры, потом все замирает. Скормил другой, второелизаветинский, и через несколько секунд хлопотливого механического вращения послышалось звяканье рождавшегося джекпота. Это привлекло взоры от других автоматов, даже нескольких зрителей, следивших за серебряной жатвой Эдвина.
– Повезло, так его перетак, – сказал один юнец. Кто еще это мог быть? Разумеется, Нобби из котельной мафии, всего-навсего посаженный в тюрьму, не оштрафованный, ничего подобного. Эдвин насчитал шестипенсовиков на шесть шиллингов. Хорошо. Но хорошо ли на самом деле? Постель на веревках в ночлежке, ровно на рассвете отвязанных, ломоть хлеба с маргарином, потом что? Живи одним днем, как Христос. Но все эти непредусмотрительные нищенствующие секты рождались всегда в теплом климате, где можно жить одним днем. Эдвин вышел в сырую холодную ночь, учтиво поблагодарив человека, из сыновних чувств пригласившего его зайти. И пошел туда, откуда пришел, подняв воротник, сунув руки в карманы. Влюбленные все так же стояли в проходе, только их объятия дошли до столь мучительной интимности, что Эдвин не решился вернуть мужчине его холодную милостыню. Он свернул за угол у захороненных уборных, направился к колоссальному эдвардианскому отелю. Бар, объявляли огни, открыт для всех, не только для постояльцев. Здесь он в последний раз выпьет. Пусть потом окончательно станет пассивным, абсолютным неодушевленным предметом, заботой мировых сил. Его болиголов, чаша с ядом. Двойной виски. С оливкой или с хрустящими чипсами. Или с маринованными корнишонами.
Эдвин крутнулся в дверях-турникете, увидел красивых или благополучных мужчин, заказывавших ликеры для стройных леди на табуретах со спинками у стойки бара, для леди с волосами, общипанными в искусной стрижке, с элегантно вытянутыми ногами. Стойка бара длинная, залитая светом, как высокий алтарь; над ней сложный резной балдахин. Бармены, серьезные, редковолосые, говорили тихо, проворно выполняли свои священнические задачи, склонялись к платившим за выпивку с натурально почтительными улыбками. Эдвин, вдруг оробев, опустил воротник, попытался пригладить голову, и без того, видит бог, вполне гладкую, направился к сиянию «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Тут уж никаких простых «М», никаких «Муж.», презренных апокоп. В прекрасном дворце из мрамора и стекла с алебастровыми ступенями к писсуарам Эдвин встретился с мировой силой – широкая спина мужчины в смокинге, в венке из виноградных листьев, повернулась с застегивающими пальцами, явив жирное лицо с сизыми подбородками, с характерным носом узкоголового, распахнувшего клюв орла.
– Боже мой, – сказал он. – Что они с тобой сделали? Кто это тебя держал, расскажи-ка. Как ты изменился, Прибой.
Да-да, вот так вот. Возможно, движению жизни, столь часто означающему неожиданные встречи, особо способствует характерная атмосфера общественных уборных. Сколько встреч в уборных могут стать судьбоносными: подстерегающий в детстве развратник; мужчина с адресами и снимками; рассказчик анекдотов становится другом; двое незнакомцев ведут речь про супругу одного из них; встреча преследуемого флагеллантом из котельной мафии со своим собственным боссом; застегивающийся мужчина из прошлого, коронованный виноградными листьями.
– Джек Танатос, – сказал Эдвин. – Ну и ну. – И усмехнулся над тем, что сделал бы из такой встречи Жан Кокто.
– Аристотель Танатос, – поправил Аристотель Танатос. – Не знаю, откуда вы все вообще взяли Джека.
– Это, по-моему, для того, – предположил Эдвин, – чтобы оградить тебя от вульгарности и необразованности. «Аристотель» для британца всегда звучит с грязноватым оттенком.
– Да, да, а ты что поделывал после колледжа? Я, со своей стороны, погрузился в вино, как ты, может быть, слышал, а может, и нет. Поэтому я сейчас тут. Съезд виноделов. Конференция по продвижению греческих вин здесь, в Европе. Наверху сейчас пьют эти вина.
– Слова, – сказал Эдвин. – Слова, слова, слова.
Аристотель Танатос мигом разозлился.
– Нет, не слова, – заявил он. – Это истина. Поднимайся наверх, если ты мне не веришь. В любом случае иди наверх.
– Нет, нет, – пояснил Эдвин. – Я имел в виду свои занятия.
– Ладно, тогда не ходи. Ты не всегда отличался такими плохими манерами, – заметил Аристотель Танатос. – Подобное изменение личности как-то связано с лысиной? Скажу тебе, очень дурной вкус. Вообще, совсем неуместно. – В его произношении отсутствовал всякий намек на чужие моря. Он издавал аромат британского благополучия: костюм от Трамперса, средство после бритья от Ярдли, умеренный табачный запах, никакого чеснока.
– Я хотел сказать, – терпеливо объяснял Эдвин, – что в своих занятиях все больше уходил в сферу слов, и с большим удовольствием пойду с тобой наверх испробовать вин.
– Почему ты сразу не сказал? – спросил Аристотель Танатос. – Впрочем, боюсь, сейчас не настоящая дегустация. Пьянство. Запомни, пожалуйста: дегустация вин – серьезное дело на полный рабочий день. – И направился вперед Эдвина из уборной, бросив полкроны на поднос служителю, повел его по широкому пролету пологой лестницы с водянисто-податливым ковром и сверкающими перилами. Эдвин слышал винные шумы и песню. Аристотель Танатос толкнул створку тяжелых дверей, поманил жестом Эдвина к греющей сердце картине: золотое вино пили из кубков, а не из бокалов, само вино лилось из эллинских сосудов. В центре огромного эдвардианского зала стояло нечто вроде пресса, девушки, задрав юбки, давили гроздья изящными ногами, мужчины с крепкими носами стояли вокруг, смеялись и аплодировали. Пьянство, но священное пьянство пьянящего вина. Тучный мужчина, одетый Вакхом, шатался вокруг, подняв чашу, похлопывая по плечам, целуя девушек с прямыми носами, восклицая. Впрочем, как ни прискорбно, губы его, открываясь, обнажали массу недостающих зубов, – по залу кружил не кто иной, как Хиппо, Хиппо в каком-то древнем афинском костюме, с искусственной виноградной гроздью вместо чаши, нес рекламные щиты. Задний гласил: «НАПОЛНИ ЧАШУ САМОССКИМ ВИНОМ». Когда Хиппо повернул по кругу в сторону Эдвина с Аристотелем Танатосом, стало видно передний щит: «РАДИ СВОЕГО ЖЕЛУДКА ВЫПЕЙ НЕМНОГО ВИНА». Светская и религиозная функции Хиппо в конце концов слились. Он, без удивления узнав Эдвина, сказал:
– Всех волос твоих нету, – а потом добавил: – Прямо чертова работа. Нигде ни капли пивка. – И продолжил кружение. Аристотель Танатос подозвал голоногую девушку с очаровательным кипрским профилем. Она подошла, улыбаясь, с венком виноградных листьев для Эдвина.
– Ну, – сказал Аристотель Танатос, – вот, видишь названия, под которыми кое-какие вина выйдут на рынок. – На стоявшей доске были вывешены образцы этикеток: «Одиссей», «Агамемнон», «Ахилл», «Аякс».
– «Аякс» не пойдет, – сказал Эдвин. – Первый ватерклозет называли «Аяксом». Ну, давай же, давай я попробую молодого вина.
Вина были прозрачные, смолистые, дымные, вкусные.
– Но скажи мне, – сказал Аристотель Танатос, – как именно хочешьраспорядиться своей жизнью? Похоже, в нынешнем положении не особенно преуспел? Например, лысый. Штаны дешевые, плохо сидят. Башмаки растрескались. Туалет, мало сказать, поверхностный. Наполни чашу самосским вином, пойдем сядем вон там, и ты все мне расскажешь. Женат? Женат. Денег достаточно зарабатываешь? Не отвечай. Вижу – нет. Счастлив ты со своими словами? Предположительно да, или столь преждевременно не дошел бы до этого лысого, мало сказать, неэлегантного состояния. Где живешь? Где работаешь? Дети есть? А машина? Не пытайся на все сразу ответить. – Подошла с подносом прелестная девушка из Золотого Века. – Попробуй, – сказал Аристотель Танатос. – Долма. – Эдвин взял виноградный лист, куда было завернуто мясо с рисом, с запахом мяты, жадно съел, схватил другой, пока не унесли. – Да, – сказал Аристотель Танатос, – вижу, ты к тому же голодный.
Эдвин дал правдоподобное объяснение лысине. Аристотель Танатос кивнул, вздохнул с некоторым облегчением; лысина явно его беспокоила. Эдвин сообщил, что не слишком стремится вернуться к преподаванию в Моламьяйне лингвистики. Он не стал объяснять почему: скандальная жизнь на протяжении трех последних дней, грубое слово, выплюнутое в лицо ни в чем не повинным телезрителям, преследование, завершившееся в клозете с Часпером. Он предчувствовал, что Аристотель Танатос собирается предложить ему работу.
– Понимаешь, – сказал Аристотель Танатос, – нам нужен кто-то, способный возглавить нечто вроде службы по связям с общественностью. Лингвист, много ездивший, культурный в широком общем смысле слова, который общается с лучшими людьми, обаятельный, идеально ухоженный. – Он мрачно оглядел Эдвина. – Какая жалость.
– Слушай, – сказал Эдвин, – я не всегда такой. Ты бы посмотрел на меня, когда я причепурюсь как следует. – Он задохнулся от ужаса при этом слове, как и Аристотель Танатос. Общается с лучшими людьми? Эдвин улыбкой отмел произнесенное слово – шутка, сознательно избранный солецизм, не чуждый и лучшим людям. – Я классно смотрюсь, – безнадежно добавил он, – с полной башкой кудрей. – Потом громко расхохотался и стукнул по крепкому колену Аристотеля Танатоса в сшитой на заказ штанине. Аристотель Танатос угрюмо сказал:
– Вижу, вижу, ясно, шутка. Ну, думаю, можешь как-нибудь зайти повидаться со мной, когда будешь чуточку лучше себя чувствовать. В данный момент ты явно не в себе. Бедняга, я тебя не виню. Не считаю, что ты в самом деле так уж кардинально переменился. – И приблизил к Эдвину яркие черные глаза, как бы проводя офтальмологическое обследование. – Не знаю, не знаю, – молвил он. – В колледже ты был совсем другим, правда? Помню, у тебя было, как минимум, четыре очень хороших костюма. А теперь пошли игры с твоими мозгами, да? Мало сказать, очень жалко.
– У меня еще есть красивые костюмы, – сказал Эдвин. – Шесть штук. Только все в Моламьяйне.
– В Моламьяйне, – сказал Аристотель Танатос. – Довольно поганый город, насколько я помню. Впрочем, это было во время войны. Знаешь, я был в КВВС [101]101
Королевские военно-воздушные силы.
[Закрыть]. Ну а теперь, Прибой, выпей еще или делай, что хочешь. Я сейчас просто должен пойти не позволить мистеру Талассе упасть в винный пресс. Очень милый мужчина, Прибой, только склонен к веселью. – И, потрепав Эдвина, точно старого мокрого пса, он направился прочь. Мистер Таласса совершал движения плывущего в море, с его козлиной бороды стекало вино. Эдвин, сглотнув, окликнул:
– Джек.
– Не называй меня Джеком.
– Хорошо. Аристотель, пузырь со стаканом, Танатос [102]102
Танатос – по-гречески смерть.
[Закрыть], Смерть, как тебе будет угодно. Одолжи мне монету, а? Два хруста. Пару никеров. – Нужное слово от него ускользало. – На ночлежку.
– Дорогой друг. – Аристотель Танатос сделал шаг назад, оставив Мистера Талассу тонуть. – Неужели ты хочешь сказать, что дела твои настолько плохи? Мне страшно жаль. Знаю, я виноват, что поставил тебя в неприятное положение просителя.Надо было позволить тебе закончить рассказ. Но я просто понятия не имел. Знаешь, я нетерпеливый, всегда был такой. Друзья говорят, величайшая моя беда. Сядь. И я тоже сяду. – И они уселись.
– Ох, – сказал Эдвин, – не будем делать из этого большую проблему. Я хочу сказать, у меня деньги есть, верней, где-то у моей жены. Там, где она сама. Вопрос только в ночевке. Только на сегодня, и все.
– Женщина, —произнес Аристотель Танатос с горечью, вряд ли доступной самому Гарри Стоуну. – Ясно, ясно. Улетучилась, да? Вот так вот. М-м. В старые времена, как правило, мужчина оставлял женщину на мели. Впрочем, мы прогрессируем. Ну, лучше тебе провести ночь у меня. В моем номере две кровати. А потом завтра утром сможем поговорить, что-нибудь сообразим. М-м. Мне действительно страшно жаль. – Он оглядел подвыпивший зал, усыпанный виноградными листьями, залитый вином. Впервые за весь вечер лицо его добродушно скривилось. – Сейчас, – сказал он, – не время для серьезных бесед. Только на самом деле, по-моему, пить тебе тоже больше не надо. Ты совсем нехорошо выглядишь. От напряжения, наверно.
– Была довольно напряженная ситуация, – признал Эдвин. Привычным усталым жестом провел по закрытому глазу безымянным пальцем левой руки. Чувствовал себя осовевшим, должно быть от вина.
– Пойди ляг, – сказал Аристотель Танатос. – Мой номер на втором этаже. Прими ванну, побрейся моей электрической бритвой. Потом ложись в постель. Завтра утром придется встать рано, если мы собираемся обсуждать положение дел, так как к десяти тридцати я должен быть в лондонском аэропорту. Значит, сейчас иди и ложись. Я, понятно, пока не могу покинуть компанию. Мой номер двенадцатый. Дверь не заперта. Отправляйся сейчас же, поспи хорошенько. Бедный Прибой, – сентиментально изрек он, стиснув руку Эдвина. – В колледже никому даже в голову не пришло бы так тебя назвать, – добавил он. Эдвин искал какие-нибудь новогреческие слова, но ничего не вспоминалось.
– Апотанейн тело [103]103
Хочу умереть ( греч.).
[Закрыть], – сказал он взамен, сам того не желая. Аристотель Танатос посмеялся.
– Иди спать. Утром будешь иначе себя чувствовать.
Выходя из зала, где шло здоровое пьянство, Эдвин чуть пошатнулся. Вино. Встретил Хиппо, поднимавшегося из туалета, застегиваясь под передним щитом.
– Чертовы игры, – сказал Хиппо. – Нашел свои часы?
Идя по снежно-мягкому коридору, Эдвин видел плясавшие на дверях номера. Но, без пляски в глазах, без каких-либо фантастических полутонов, вполне определенно прошел мимо двух плоскогрудых дочек Ренаты, хихикавших под эскимосскими прическами с бубенцами, державшихся за руки, шедших по вызову в какой-то номер. Всегда вместе работают, да? Щурясь на номера, он увидел двенадцатый, открыл дверь и выяснил, что попал не туда, совсем не туда, но двое обитателей были слишком заняты, не заметив, что он ошибся дверью. Губы Эдвина открылись, кончик языка поднялся к альвеолам, готовый произнести:
– Простите, – но взгляд его застыл, зачарованный, словно кролик удавом, зрелищем акта. Собственно акта. Поезд, дополненный звуковыми эффектами, как раз готовился прибыть на станцию.
– Шейла, – сказал Эдвин, передвинув кончик языка с альвеол к твердому небу, каким-то отделом ошеломленного мозга фиксируя этот факт. Это была точно Шейла, определенно Шейла, ибо, даже в пути, голова ее повернулась.
– Обожди, – пропыхтел мужчина, мужчина, которого Эдвин никогда раньше не видел, безбородый мужчина, – дай кончить, пропади ты пропадом.
– Да сколько угодно, – холодно сказал Эдвин, холодно сознавая, что вот-вот отключится, – первоцвет, топинамбур, тротуар, мансарда, – а потом намертво отключился.








