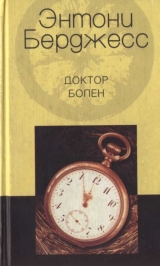
Текст книги "Доктор болен"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Глава 5
На следующее утро Эдвина препроводили в подземный мир женщин-техников – молодых женщин в белых халатах с крутым перманентом, небрежно самоуверенных. У них был какой-то двусмысленный статус. Несмотря на отсутствие клинических знаний и довольно узкую сферу обслуживания определенных машин, они никого не слушались. Видно, имели доступ в некую особую прачечную, отбеливавшую их халаты до ослепительной белоснежности, отчего разнообразные штатные медики выглядели почти грязными. Высоко вскинув голову, быстро стучали по коридорам высокими каблучками. Эдвин плелся, шаркая ногами, за одним из этих бойких созданий в отделение рентгенологии.
Он прижался холодной грудью к пластине в стене, слыша щелчок отснятого снимка. Его пристегнули к лежанке, под разными углами запечатлели оскаленный череп.
– Вебстер, – сообщил он, – тоже видел череп под кожей.
– Кто такой Вебстер?
– Поэт.
– А, поэт. – Девушка суетливо сунула новую пластину. Приказала: – Не шевелитесь. Лежите абсолютно спокойно. – Очередной щелчок. – Я не особенно увлекаюсь поэзией, – сказала она. – В школе, по-моему, еще туда-сюда.
– Вы считаете, лучше быть рентгенологом, чем поэтом?
– О да. – Сказано с профессиональным пылом. – В конце концов, мы спасаем жизнь людям, правда?
– Зачем?
– Что вы хотите сказать, – зачем?
– Какова цель спасения жизни? Зачем вам нужно, чтобы люди жили?
– Это, – сухо объявила она, – не мое дело. Не входит в мои обязанности. Ну, если вы просто тут обождете, я отдам снимки в проявку.
Эдвин надолго был предоставлен самому себе. Выглянул в окно на ряд мусорных баков. Две жирные кошки спали серым осенним утром, слишком жирные, чтобы мерзнуть. На чем они жиреют? Наверно, на выброшенных мозговых тканях. Сверкающая машина как бы сверлила ему спину взглядом. Он обернулся, стал играть с ней в гляделки, стараясь переглядеть. Где-то должен быть изъян, порочащий эту приземистую элегантность. Эдвин излечивался от своей юношеской робости перед нарядностью и красотой, выискивая микроскопические, но характерные признаки упущений, – крошку перхоти на черной сарже, след от пирожного в уголке губ. И теперь, подойдя к тяжелому полированному аппарату, с удовольствием обнаружил пятно ржавчины. Больше того, в фанерной коробке на подоконнике среди металлических клемм и трубок торчала одинокая белая кнопка. Он ликовал. Вернувшаяся женщина-рентгенолог нашла его величаво танцующим на полу.
– Все в порядке, – сказала она, опасливо тараща на него глаза. – Вполне четкие. Сумеете найти дорогу обратно в палату?
Эдвин сумел. Войдя, увидел совершавшийся в палате обход; великий человек с сателлитами, среди которых был доктор Рейлтон, переходил от койки к койке. Эдвин знал – это мистер Бегби, знаменитый невролог, прославившийся открытием синдрома Бегби. Негр-санитар, тихий, замерший в благоговейном страхе, точно на мессе верховного понтифика, проводил Эдвина к его койке, уложил, хлопоча, как курица-наседка. Эдвин неподвижно ждал, будто очереди к причастию.
Левое нижнее веко мистера Бегби дергалось в тике. Так у дантистов иногда бывает заметный кариес, а дети сапожника не имеют сапог.
– Вы, – сказал мистер Бегби, – должно быть, мистер Прибой. – Сателлиты в белом расплылись ободряющими улыбками; доктор Рейлтон казался взволнованным младшим сержантом на генеральской инспекции.
– ДокторПрибой. – Это надо дать ясно понять. – Доктор философии, – пояснил Эдвин.
Улыбки еще шире.
– Так. И вас сюда направили…
– Меня направили из клиники тропических болезней. Я прибыл сюда прямо из Моламьяйна.
– Так. И где вы фактически служите?
– В МСРУО. Международный Совет по развитию университетского образования.
– Очень хорошо, – заключил мистер Бегби, сморщив нос, словно эта организация внушала подозрения. С большой сосредоточенностью заглянул в карту, которую держал в руке. – Так, так, – сказал он. – При чем тут линкор?
– Линкор?
– Согласно записям, вы, кажется, одержимы линкорами.
– А, – рассмеялся Эдвин. – Ясно, как это вышло. У меня иногда бывает мигрень. Боль как бы сопровождается видением линкора, вплывающего мне прямо в лобные доли. – Последовали смешки над экстравагантным видением; палатную сестру, видно, взбесила претензия Эдвина на анатомические познания.
– Это, – объявил мистер Бегби, – совсем на мигрень не похоже. Ну, посмотрим, посмотрим, что тут можно сделать. – И вздохнул с усталостью человека, который столь многим помог, заслужив так мало благодарности. Процессия проследовала к насмешнику. Мистер Бегби похлопал его по спине.
– Это лицо мы вправим, – пообещал он. – Не бойтесь. – Лицо было для мистера Бегби чем-то вроде простой конечности. Белые птицы слетелись к Р. Дикки. Глухо доносился голос последнего, судорожные вопросительные рефрены: «да?», «нет?». Да, соглашался мистер Бегби, да.
Прямо перед завтраком явилась другая легионерка, сдержанная, аккуратно причесанная, в белом халате, с обнаженными розовыми руками, чтоб заняться чем-то вроде кулачной терапии с молодым человеком с бородой как у Панча, горбатым, как Панч, в шапочке для занятий зимними видами спорта. Она яростно колотила его, на что он отвечал глубоким кашлем, сплевывая в поддон мокроту. Лились звонкие струи в подкладные судна. Пошли в ход бутылочки, под простынями совершалось стыдливое мочеиспускание. Потом были объявлены дневные процедуры Эдвина.
– Люмбальная пункция, – сказала сестра, красноносая шотландка, со вкусом раскатывавшая букву «р». – Возьмут у вас немного жидкости из позвоночника. Потом отдадут в лабораторию. Потом посмотрят, чего там не так.
– Мне уже делали, – сказал Эдвин, – дважды.
– А мы еще разок сделаем, – парировала сестра и, довольная остроумным ответом, вернулась к себе в кабинет.
Какой-то шутник из отдела питания решил подать на завтрак вареные мозги. Другой повар, более мягкосердечный, прислал картошку, приготовленную четырьмя разными способами, крошечную антологию картошки. Пришел чернокожий мужчина с мороженым, сардонически сверкнув глазами на Эдвина. Эдвин прочел свой филологический журнал – сухой американский подсчет слов в «Сове и Соловье». Вот уж действительно вареные мозги.
В приятное время послеобеденной апатии, еще преследуемой вкусом выпитого после завтрака чая, подкатили ширмы, расставили вокруг койки Эдвина.
– Пока, корешок, – попрощался Р. Дикки. – Свидимся в другом мире.
Врач в очках с мягким лицом, моложе доктора Рейлтона, подошел к Эдвину, представившись доктором Уайлдбладом.
– Мой коллега, – сообщил он, – на репетиции. Знаете, играет на трубе.
Позади наклонилась сестра. Эдвина попросили лечь на бок, обнажив ягодицы и поясницу.
– Хорошая чистая кожа, – заметил доктор Уайлдблад. – Слишком больно не будет. – Он сделал укол, местную анестезию. – Вот так. Чудно. – Началось ощупывание, послышался звон мелкого стекла и металла. – Вот, – сказал он. – А сейчас возьмем несколько кубиков. Просто лежите совсем спокойно. – Эдвин почувствовал, как бы за несколько миль, глубокий укол, потом позвонок как бы глухо сломался. – Чудно, – сказал доктор Уайлдблад, – отлично пошло.
Эдвин чувствовал себя бесплотным, из него медленно вытягивали самую суть его существа. Он сказал, будто сделал важное открытие:
– Знаете, истинная проблема вовсе не в боли. Все дело в ощущении распада, сколь бы субъективным оно ни было.
– Не имеет значения, – проговорил доктор Уайлдблад, – не имеет значения. Отлично пошло. Уже почти кончено. – Эдвин краем глаза видел, как сестра держала наготове пробирку для анализа. – Хорошо, – сказал доктор Уайлдблад. – По-моему, все.
Эдвин слабо ощутил, как выдергивается игла. И спросил:
– Можно мне посмотреть? – Сестра тайком разрешила ему бросить быстрый взгляд на полную пробирку. – Похоже на джин, правда? – сказал Эдвин.
– На «Белый атлас» Бернетта, – неожиданно подтвердила сестра. – Хорошо идет неразбавленный.
– Ну, – сказал доктор Уайлдблад, – теперь просто лежите спокойно до завтрашнего утра. Спокойно лежите на спине. – И ушел, мягко кивая. От койки со скрипом откатили ширмы, и Эдвин лежал на виду у палаты, новый рекрут в бригаде лежачих.
– Потрясающе, чего нынче делать умеют, да? – сказал Р. Дикки.
Предписанный полный покой, приказ стать простым неодушевленным предметом неким образом освежал. Приятно также было знать, что вносишь вклад в однообразие палаты. Теперь не осталось ни одного неукоренившегося в клумбе цветка. Даже насмешник лежал, глядя в потолок, обманутый надеждой на распутывание клубка нервов. Но спокойный порядок не мог долго длиться. Прибыли крепко сбитые мужчины в шапочках и в униформе, чтобы забрать пациента в дальнем углу. Тот, явно неизлечимый, пуская слюни, отвечал на прощальные речи урчанием, увозимый в кресле-каталке.
– До свидания, мистер Лезерс.
– Пока, приятель.
– Веселей, до новой встречи.
Пустота была быстро заполнена. Во время чая привели высокого мужчину ученого вида, он шел, как шагающая игрушка, одна нога не сгибалась, правая рука работала, будто держала венчик, взбивая яйца. Во время еды в оркестре ударных добавилась новая партия – тремоло ножа и чайной ложки.
После чая пришла палатная сестра с сообщением для Эдвина.
– Звонит ваша жена, – сказала она. – Говорит, простудилась немного и должна оставаться в постели. Вам, говорит, беспокоиться нечего. Придет завтра.
Прямо перед обедом вошел доктор Рейлтон, очень веселый.
– Привет, док, – бросил он Эдвину. – Сделан лабораторный анализ вашей жидкости. Я сверил результаты с другими, уже сделанными. Все повысилось. Дьявольски много белка. – Он потер руки. – Но мы продвигаемся. Выясним, в чем проблема. Выпустим вас отсюда здоровым. – И удалился с улыбкой, крепкий, здоровый трубач.
У Эдвина посетителей не было. У Р. Дикки множество.
– Слышь, – сказал он маленькому мальчику, – пойди побудь добрым самаритянином вон для того джентльмена. Никто к нему не пришел. Стыдоба, да? Пойди с ним немножечко поговори, развесели чуточку. – Мальчик подошел к койке Эдвина сбоку, и вскоре был поглощен голыми журналами, подарком Чарли. Он сильно шмыгал, пытаясь вытереть нос простыней Эдвина.
После ухода визитеров Р. Дикки сказал:
– Славный пацан, нет? Никому хлопот не доставляет. В любой момент, – великодушно предложил он, – когда никто к тебе не придет, всегда у меня можешь взять. У меня ведь навалом. – Визитеров и виноград он считал вещами одного порядка.
Новому пациенту приснился кошмар.
– А-а-а-а! – кричал он в темноте.
Усмехавшийся сосед Эдвина извещал о свежих результатах футбола. Молодой человек, похожий на Панча, кашлял. Эдвин лежал без сна, думая о загадках слова «абрикос». «Априкок», на шекспировском языке; позднейший вариант возник благодаря смешению конечных согласных. «Априкок» восходит к арабской форме, где артикль «аль» слился с заимствованным словом «прекокс», – ранний, рано созревающий фрукт. Сколь очаровательна божественная филология. Но действительно ли она хоть сколько-нибудь ценнее ночного кошмара в углу, приснившихся результатов футбола? Шейла должна была навестить его, простуда или не простуда.
Глава 6
На следующий день Эдвин был препровожден вниз в подвалы на электроэнцефалограмму. Приятное ученое слово «электроэнцефалограмма» сводилось на табличке у дверей к зловещему хрипу из комиксов – «э-э-эгх…». Его встретила очередная крахмально-белоснежная девушка, приказав лечь на стол. Он небрежно спросил, что она понимает под средним термином «электроэнцефалограмма».
– Мы просто говорим ЭЭГ, – сказала она. Закрепила на волосах Эдвина сетку, воткнув под каждый узелок ватку, смоченную соляным раствором. – Иначе чересчур длинное слово. Не знаю, кому нужны такие длинные. – Она занималась приготовлениями, подключала Эдвина к своей машине, высунув очень красный кончик языка. Машина смахивала на консоль органа с циферблатами; изнутри с валика пианолы на милю тянулась бумага.
– Что она на самом деле показывает? – спросил Эдвин.
– Как бы электрические импульсы вашего мозга, – ответила девушка. – Не совсем понимаю, что с ними делают, но процедура именно для этого. Ну, теперь просто расслабьтесь. Когда я скажу, открывайте и закрывайте глаза, только не шевелитесь. – И уселась за консоль. Позади нее за стеклянной панелью неслышно мелькали техники, мужчина и девушка. Где аквариум, гадал Эдвин, с этой или с той стороны? Те двое поглядывали на него, как на неодушевленный предмет,смеялись своим шуткам, вместе вышли. Эдвин безотчетно разозлился так, как давно не злился. И сказал:
– Думаю, вы на самом деле не верите, будто мы вообще человеческие существа. Пара рентгеновских снимков, чертовы импульсы… виноват, извините за грубость. Я имею в виду…
– Если не возражаете, – вставила девушка, – мне надо работать.
– Правильно. Вам надо работать, и вы полагаете, будто работаете с чем-то инертным, пассивным. Позабыли, что я человек.
Девушка взглянула на него по-новому.
– Если вас мой вид возбуждает, – откровенно сказала она, – не смотрите. Можете в потолок смотреть.
Эдвин ужаснулся. Что же это тогда для нее – профессиональный риск, пережиток социального положения, некая поза, усвоенная в кино или по телевизору?
– Я совсем не то имел в виду, – сказал он. И, высказав опровержение, ощутил какое-то шевельнувшееся остаточное желание или желание желания.
– Мы здесь для того, чтоб оказывать помощь, – рассудительно молвила девушка. – Сделать вас снова нормальным. Теперь держите голову неподвижно, а глаза открытыми.
Что сказали бы доктора, размышлял он, если бы в нем опять вспыхнул секс, и он бросился бы, как сатир, на какую-нибудь цветущую белоснежную нимфу-техничку, овладев ей на ее же машине, откуда еще льется бумага с дико смазанными чернильными линиями? Фактически, предположил он, они были б довольны. Взглянул на девушку, следившую опущенным взором за неуклонно вытекавшим электроэнцефалическим графиком. Она на миг подняла глаза, встретилась с Эдвином взглядом и снова чопорно опустила.
– Теперь закройте глаза.
Закрыв глаза, он сильнее ощутил биение в глазных яблоках, пульсацию крови. Кровь была еще молода. Попытался заполнить пустое пространство гаремом – томно раскинувшиеся бедра, пупки, соски, руки, – но не почуял реакции в чреслах, только чуть сжалось горло.
– Теперь откройте.
Эдвин, охваченный ненавистью, сорвал с девушки форменную белизну, разодрал цветные, скрытые под ней одежды, грохнул ее об стеклянную панель. Она чопорно смотрела вниз. Ничего хорошего не вышло: самый яростный воображаемый акт не вызвал никакой реакции. Он вздохнул – просто лежачая фигура в полосатой пижаме на жесткой лежанке, в смешной сетке с электродами на волосах, питающая машину.
– Не двигайте головой. Теперь снова закройте глаза.
Эдвин задумался о статейке, которую предназначал для журнала популярных исследований английского языка, – статья о билабиальных фрикативных звуках, столетиями присутствующих в разговорном английском. Разумеется, Сэм Уэллер не заменял «v» на «w» и обратно [15]15
Сэм Уэллер (Weller), слуга мистера Пиквика в романе Чарльза Диккенса, произносит свою фамилию «Веллер» (Veller).
[Закрыть], он использовал в обоих случаях одну и ту же фонему – билабиальный фрикатив. Но писатель вроде Диккенса, фонетически не образованный, думал, будто слышит «v», ожидая «w», и «w», ожидая «v».
– А теперь, – сказала девушка, – не открывайте глаза. Крепко закройте. Я сейчас пущу очень сильный свет. Постарайтесь держаться совсем неподвижно.
Казалось, руки в его мозгу тесно сомкнулись вокруг билабиального фрикатива, защищая его от всех этих людей с их белыми халатами, светом, гудящими машинами. Затем последовала вспышка: резкий цветной узор выгравировался изнутри на веках, безобразный, в чем-то непристойный.
– Ох, Господи Иисусе, – сказал Эдвин, – это ужасно.
– Да? – бросила девушка. – Ну-ка, еще разок.
Снова четкий непристойный узор – конусы, кубы, шары зловещих цветов, которым он не смог подобрать определение. Гудение мотора смолкло.
– Хорошо, – объявила она. – Все. Теперь можете открыть глаза. – Загудела столь же немелодично, как аппарат, снимая с Эдвина сетку, собирая влажные соленые ватные тампоны. Потом с холодной индифферентностью разрешила: – Можете теперь вернуться к себе в палату.
Эдвин стоял в коридоре, трясясь от трудно объяснимой злости.
– Сука, – выдавил он сквозь зубы, – сука, сука. – Но уже забыл девушку электроэнцефалографа. Непристойная вспышка как бы породила внезапную и весьма неожиданную ненависть к жене. Он чувствовал себя оскорбленным тем, что она сочла необходимым солгать, чтобы не оскорбить его чувств. Взглянул на часы у себя на руке: почти полдень. Надо ей позвонить, до конца разъяснить, что она вообще не обязана навещать его, если не хочет. Или, лучше: он будет весьма признателен, если она вообще перестанет его навещать. «Оставь меня, – хотел он сказать, – с моей болезнью и с моим билабиальным фрикативом». Потом понял, что, разумеется, вообще не сделает этого. Кроме того, предвидел утомительность поисков меди на телефонный звонок. Ну и ладно, решил он.
Она пришла в тот вечер, одна, сопя от подлинной простуды, и Эдвин сказал, неизбежно должен был сказать:
– Не надо бы тебе приходить.
– Я сама тоже так думаю, только мне показалось… ну, в конце концов, тебе не слишком-то весело лежать тут, никого не видя.
– Но ведь я хочу видеть не просто кого-нибудь, правда?
– Наверно. Ох, как мне хочется, чтоб все кончилось. – Слова выговаривала лихорадочно, словно ее несостоятельность по отношению к его болезни превосходила простое сочувствие любящей жены. И Эдвин подумал, что она безусловно посвящена в определенные тайны его болезни и прогноза. Шейла всегда с трудом хранила секреты: утрата свободной возможности разболтать все именно тому, кому меньше всех следует знать, была для нее мукой смертной; Эдвин связывал это с ее сексуальным непостоянством. И сказал:
– Если Рейлтон открыл тебе что-то, о чем меня не стоит ставить в известность… ну, ты меня вполне хорошо знаешь. Я все могу вынести. А секреты люблю не больше, чем ты.
Она нервно вскочила с койки.
– Я тебе уже сказала, – сказала она. – Ничего подобного, просто все будет хорошо, нечего волноваться, и все. Честно. – Взгляд умоляющий. – Наверно, – сказала она, – теперь мне действительно надо идти. Чертов звонок зазвонит с минуты на минуту, а я ненавижу, когда мне велятуходить.
– Но ты ведь только пришла. Еще полно времени.
– Слушай, – осторожно сказала она. – Ничего хорошего не получается. Я хочу сказать, все жутко неестественно. Нам фактически нечего сказать друг другу, и мы оба тайком поглядываем на часы. Правда? Такие вещи просто ненормальны, и я из-за этого дергаюсь. И ты знаешь, как я ненавижу больницы.
– Ты имеешь в виду, что не хочешь меня навещать, да?
– Ох, нет. Просто, пока ты тут, мне все кажется, будто это на самом деле не ты. Ведь так и есть, да? Ты больной. Как бы ждешь… понимаешь, о чем я? – как бы ждешь оживления. Кроме того, я терпеть не могу быть у всех на виду, и поглядывать на часы, и… это все неестественно. Поэтому, если не возражаешь, я не приходила бы каждый вечер.
– Ну, – медленно вымолвил Эдвин, – если ты в самом деле так это воспринимаешь. Знаешь, я понимаю, не думай. Может быть, – спросил он, – письма мне будешь писать?
– Да. Могу. Да, хорошая мысль.
– Хотя кажется глуповатой, не так ли, когда ты живешь всего в паре сотен ярдов отсюда.
– А, – живо подхватила Шейла, – в «Якоре» полно народу, который с большим удовольствием будет к тебе приходить. Чтоб тебе не было чересчур одиноко.
– Хорошо, если хочешь. Ты имеешь в виду, что мне следует ждать процессии колоритных бедняков, увеселяющих мое одиночество?
– Ну, такое предложение мило с их стороны, правда?
– А когда ты ко мне снова придешь?
– О, через несколько дней. В выходные. Пожалуйста, Эдвин, ничем меня не связывай. Знаешь, как я это ненавижу. Честно, скоро приду.
Глава 7
Для дальнейших анализов требовался не просто один оператор в белом халате, поэтому представилось больше возможностей для обращения с Эдвином как с неодушевленным предметом. Можно было обсуждать его, беспомощного на подвальном столе, или, при склонности к общению между собой, игнорировать. Анализы становились интимными и пытливыми, его чаще ощупывали, поворачивали, чаще журили его непослушные члены. Но когда он становился особо пластичным, податливым, поглаживали и трепали, возвышая до уровня домашнего животного.
Доктора хотели сделать артериограмму. Сестра – розовый пудинг с алыми губами – ввела в ягодицу транквилизатор, потом Эдвина вкатили в лифт, повезли вниз. Радостные приветствия рентгенологов – женщин более зрелых, может быть, более непорочных по сравнению с теми, кого он знал прежде. Его перетащили на операционный стол под сопла и глаза рентгеновского аппарата; в ожидании доктора, которому предстояло вскрыть артерии, шли веселые разговоры и суета.
– Я новый тубус вставила, Мейбл.
– О-о-о, хорошо-о-о. – Визг над головой Эдвина.
Эдвин видел перевернутые лица, без интереса глядевшие на него. Перевернутое человеческое лицо ужасно: слишком много отверстий; гораздо чудовищнее любого чудовища из космического пространства.
– И что она тогда сказала?
– Говорит, не собирается всю жизнь ждать, высматривать подходящего. Когда найдет, говорит, в любом случае поздно будет.
– Неужели надеется дождаться подходящего? Ты ее прическу видела? – Презрительное фырканье.
Вверх ногами лицо не урода,
А всякого данного представителя людского рода
Гораздо чудовищней, чем.
– Привет, девочки. – Доктор-канадец с острыми чертами лица, с густыми волосами en brosse [16]16
«Ежиком» (фр.).
[Закрыть]. Молодой, явно более доступный простым смертным. – Это наш пациент? Привет, мистер.
– Доктор, – поправил Эдвин.
– Да? – сказал доктор. – Точно, я доктор. Ну, теперь я вам укольчик сделаю. – Он ухватил артерию справа на шее Эдвина, ввел анестезирующий препарат. Потом сел и стал ждать. Вошли еще два разболтанных молодых врача и присоединились к нему. Последовали дружеские приветствия, женские голоса стали громче, продвигаясь вперед по короткой женской дороге к истерике. Hysterikos, hystera, – матка. Фрейд, однако, продемонстрировал отсутствие связи, невзирая на этимологию.
– Как провел время в Италии?
– По-моему, нормально. Molto buono [17]17
Очень хорошо ( ит.).
[Закрыть].
– Посмотрите на эти гласные, – почти автоматически предложил Эдвин.
– Пили vino, пытались ухлестывать за señoritas. Molto bella [18]18
Вино… за сеньоритами. Очень красивые (ит.).
[Закрыть].
– Señoritas в Испании, – поправила какая-то женщина-рентгенолог, – а не в Италии.
– Все одинаковые, как ни называй, куда б ни поехал. Все женщины одинаковые, это доказано.
– Нет, не все, – провокационно заметила рентгенолог, – большое вам спасибо.
– Не за что, сестра. Ну, пора за артерию браться.
Маленькое подземное помещение казалось битком набитым людьми, перевернутые, сплошь окружавшие Эдвина лица давали веселые советы доктору-канадцу, старавшемуся ухватить увертливую артерию.
– Как живая, – сказал он. – Змея, или вроде того. А теперь, – обратился он к Эдвину, – у меня вот в этом шприце что-то вроде красителя, краситель из йода. Когда он начнет циркулировать, кровеносные сосуды окрасятся, и снимок покажет, где тут неполадки. О’кей?
Но артерия жила своей жизнью. Зачарованный Эдвин видел ее глаза, словно наблюдал за смертельной дуэлью маленьких разъяренных зверьков.
– Проклятье, – сказал доктор, – просто не могу попасть. – Затем прозвучал общий триумфальный крик, контакт свершился, артерия была проколота, краситель впрыснут. Юная леди в белом халате принялась холодными руками кормить артерию физиологическим раствором. Делались приготовления к рентгенографии.
– Вы почувствуете, – предупредила одна громкая женщина, – как бы жар со всей этой стороны. Очень сильный. Но не двигайтесь ни в коем случае.
Сбитому с толку Эдвину казалось, будто снимки связаны с сигнальными криками. С громким криком, похожим на «есть», становилось все жарче и жарче. Боль была как бы зеленого цвета, со вкусом окиси серебра; вдобавок неким синэстетическим чудом она как бы наглядно показывала мучительно перекрученные на мгновение нервы, стреляла в лицо, выдавливала глаза, вытягивала зубы холодными щипцами. И снова дело было не в боли: дело было в тошнотворном сознании, до чего извращенные ощущения прячутся в ожидании в теле.
– Вы молодец, – похвалила соляная девушка. – Правда. – Правую руку Эдвина мимолетно погладили. Перерыв. Теперь надо было проколоть другую артерию и ввести в нее краситель.
Удвоившись, несущественное стало существенным. Если сложить и опять развернуть бумагу с грубо ляпнутой кляксой, она превратится в узор, пусть по-прежнему грубый, но вполне читаемый. И при повторении процесса с другой стороны шеи Эдвину открылся незнакомый прекрасный образ. Анализ стал ритуалом. Извивавшуюся змеей артерию поймали, укротили, насильно накормили. Принадлежавший Эдвину предмет – голову – установили под парящими в воздухе механизмами, издалека донесся истерический крик, и вновь сочетанье кислотного вкуса, зеленого цвета, – будто дерево изо всех сил голосило, – ощущение вырванного зуба и глаза.
– Хорошо, – сказали все. – Кончено.
Эдвина перетянули назад на каталку, покатили к лифту, вновь подняли. Мир никогда не меняется, чтоб приветствовать героя. Молодой человек с горбом Панча терпел побои и кашлял в подставленную плевательницу. Р. Дикки умиротворенно восседал королем на подкладном судне. Новичку с волочившейся ногой и взбивающей яйца рукой выбрили голову; он бродил по палате, волоча ногу, работая венчиком, в вязаной шапке с помпоном. Подошел к Эдвину, посмотрел на него сверху вниз сквозь толстые пучеглазые стекла очков, подрагивая седыми усами.
– Гест на вар вельш пурр? – спросил он.
– Пожалуй, что-то вроде того, – подтвердил Эдвин.
– Горш, – кивнул мужчина и, явно удовлетворенный, пошел из палаты к уборным. Р. Дикки сказал:
– Не говорит по-английски, как мы с тобой. В мозгах дело, понял? Как их ему вправят, сразу вспомнит королевский английский [19]19
Нормативный английский язык.
[Закрыть], – хоть на самом деле надо было б сказать – королевин английский, нет? – не хуже меня, тебя, кого хочешь. Бедолага. Мистер Риджвей его звать; кое-какие улицы знает в округе, где я всегда работал. Названия не очень-то хорошо выговаривает, но ясно, что к чему. Нынче утром стоял у меня возле койки, талдычил эти названия. Уважает меня, сразу видно. Потрясающе, да?
Проходил одурманенный наркозом день, Эдвин неподвижно лежал в койке. Вечером к нему явились двое визитеров. Одного он узнал, крупного мужчину с усами, изрыгавшего клич рога Зигфрида и крик «Nothung!». Зовут его Лес, вспомнил он. С Лесом была экзотическая женщина, на восприятие которой Эдвину потребовалось время.
– Письмо, – доложил Лес, – от вашей миссис. Попросила меня отнести. Синяков на шее немножко наставили, да?
Эдвин прочел:
«Милый,
пишу, как обещала, хотя, конечно, сказать особенно нечего. Надеюсь, с тобой все в порядке. Бородатый мужчина по имени Найджел, художник, ведет меня сегодня вечером в какой-то винный клуб. Постараюсь прийти в выходные. Будь умницей, дорогой.
Шейла».
– Очень любезно с вашей стороны, – сказал Эдвин. – Поистине очень любезно. Впрочем, знаете, на самом деле не стоило вам утруждаться. – Спутницей Леса была смуглая круглолицая женщина, явно средиземноморского происхождения, в синем джемпере, натянувшемся на выпиравшей тяжелой груди, в юбке с отштампованными названиями блюд: кебаб, ризотто, плов, чу-минь, нази горень. У нее были острые темные глаза, масса дроздово-черных волос и несметные бородавки. На горле вытатуирован таинственный знак. Эдвин ждал, что Лес ее представит, но тот сказал:
– Нынче вечером нечего делать, ну, думаю, вполне можно и сюда пойти, как в любое другое место. Вчера вечером «Зиг», завтра вечером – «Готт» [20]20
Лес имеет в виду оперы «Зигфрид» и «Гибель богов» из тетралогии Вагнера.
[Закрыть], а нынче делать нечего. Работа тяжелая, выходной нужен. Певцы все про себя талдычат, а я им говорю, пусть попробуют чертову Валгаллу на сцену выволочь, да все время помнить, где это чертово золото Рейна, чтоб опять его в воду швырнуть. Один раз пропало, искали, с ума сходили. Поэтому сняли меня с бутафории, снова бросили на всякую тяжесть. – С виду он вполне способен справиться с тяжестью, думал Эдвин, массивные дубовые плечи, шея мясницкой колодой, грудь – две литавры. Лес присел на край койки, дама осталась стоять, сложив руки, дымя сигаретой.
– Там, по-моему, – сказал Эдвин, – где-то есть стул. – Проблема заключалась в великом множестве посетителей у Р. Дикки: его койка смахивала на ложе умирающего Сократа.
– Кармен и постоять не прочь, – сказал Лес. – Кармен не настоящее имя, да я в первый раз ее встретил во время работы над оперой, показалось как-то подходяще. С декорациями настоящий содом – табачная фабрика, арена для боя быков, разбойничьи пещеры. Впрочем, не хуже «Аиды». Для нее весь Египет практически надо построить, пирамиды, Суэцкий канал и все прочее. Этот джентльмен, – заботливо разъяснил Лес Кармен, – болен. Поэтому мы пришли его навестить. – Кармен кивнула. – Она не очень-то говорит по-английски, – пояснил Лес. – Понимаешь, ее заманили сюда на работу из Северной Африки. – И подмигнул. – А я ее вытащил. Можно подумать, должна быть благодарна.
– Yo hablo Espagñol, señora [21]21
Я говорю по-испански, сеньора ( исп.).
[Закрыть], – сказал Эдвин.
Тогда Кармен заговорила, продемонстрировав в улыбке мешанину гнилья, голых десен, металла:
– Блин, слыш? Говорыт, как порадочный. Ты почему так не говорыш? Толко ругаешся чертовкой долбаной. Он говорыт señora. Ты говорыш чертова старая шлюха долбана. Почему не порадочно? Дэнь, два, тры не даеш денег. Я одын раз уйду. Найду, блин, порадочного. Вроде нэго.
– Немножечко бесится, что не замужем по-настоящему, – ровным тоном пояснил Лес. – Я ей говорю, не могу, только не в этой стране. Есть уже у меня одна в Гейтсхеде. В каком-то смысле хорошо иметь где-то еще одну. Тогда они на цыпочках ходят.
Кармен схватила какой-то голый журнал.
– Сучок ты, – сказала она, наградив Эдвина кариозной улыбкой. – Ох и сучок. – И, хихикая, быстро заработала рукой, как поршнем.
– Сейчас же прекрати, – приказал Лес. – Похоже, ничему не учишься. Тут Англия, а не Северная Африка. Мы тут цивилизованные. Дитя природы, – пояснил он Эдвину, – вот в чем ее проблема.
– Блин, я ничего плохого нэ сдэлала.
– Нет, мы знаем, что ты не хотела грубить, только всему свое время и место, девчоночка. В данный момент мы в больнице, навещаем джентльмена, с женой которого знакомы и которая, по твоим словам, тебе нравится. Ясно?
– Чьей женой? Его женой? У нэго есть женой?
– Да, да, та самая, что купила тебе двойной джин, когда ты станцевала фанданго. Ты еще волосы ей чесала.
– А, она? Черные волосы, нэ очень много. У мэня больше черных волос. Она тоже старая шлюха. С грэком танцевала.
– Не важно, кто с кем танцевал, – сказал Лес, – это их дело. И прекрати называть других женщин шлюхами или стервами просто из ревности, – грубо рявкнул он. – Я тебя сюда привел познакомиться с уважаемым и образованным джентльменом не для того, чтобы ты оскорбляла его прямо в лицо. Мы навещаем больного, – растолковывал он. – Как говорится, общее благородное дело.








