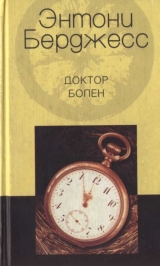
Текст книги "Доктор болен"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Глава 22
Пока речь шла о розысках по пивным, проблема заключалась во времени: очень уж мало его оставалось. Вскоре совсем не осталось – бармен четвертого бара объявил о закрытии. В каждом из трех первых баров Эдвин приобретал двойной скотч, двадцать «Сениор Сервис» и четыре фунта двадцать шиллингов с пенни, постоянно оглядываясь в поисках Шейлы. Радуясь нарастающему приливу подлинных денег в брючном кармане, начал гадать, зачем он ее ищет. Потом вспомнил: любовь. Вон оно что, любовь. Так он и знал, должно быть что-нибудь.
– Сними с головы эту штуку, – сказала медная женщина. – Гораздо без нее симпатичней. Честно. Люблю лысых мужчин. – Бармен объявил, что заказы последние, и она подошла к стойке бара. – Спасибо, милый, – сказала она. – Мне то же самое, что тебе, и лучше купи бутылку с собой.
– С меня хватит, – отказался Эдвин. – Хорошенького…
– Ни за что на свете, – заявила она. – Еще не вечер, а ты такой красивый, – и исполнила те самые легкие ритуальные колебания бедрами, которые порой проделывают женщины.
– На самом деле, это я должен был бы сказать, – заметил Эдвин.
– Не бери в голову, – отмахнулась она. – Хватит времени для комплиментов. И, – сказала она бармену, беря свой двойной скотч, – вот этот джентльмен хочет купить навынос бутылку «Мартеля» три звездочки. – Эдвин протянул еще пять фунтов.
– Да у тебя их навалом, шеф, – добродушно заметил бармен. – Сам рисуешь, или как?
– Сам, – сказал Эдвин. – Неплохо для любителя, правда? – Все от души посмеялись над этим шутливым обменом репликами.
– Милый, как тебя звать? – спросила женщина.
Эдвин быстро сообразил и сказал:
– Эдди Рейлтон.
– Кому ты мозги пудришь? Эдди Рейлтон играет по телику на трубе. То есть, надо бы сказать, играл. Он теперь доктор. Да, говорят, завтра вечером снова будет играть. Обалденно смотрится.
– Ладно, – сдался Эдвин. – Сдаюсь. По-настоящему меня зовут Боб Каридж.
– Ой, какое милое имя. Как у большой овчарки или типа того. Правда, прелесть? На самом деле надо бы волосы зачесать на глаза. – Эдвин послушался, низко надвинул парик. Она благодарственно громко расхохоталась, и он спросил:
– А тебя как зовут?
– Корал, – не без жеманства отвечала она. Забавно, подумал Эдвин, умение женщины приобщиться к своему имени, тогда как для мужчины это просто нечто ему принадлежащее. Имя отчасти смягчало ее металлургическую жесткость, привлекало внимание к губам, ногтям; благодаря его ассоциации с морем глаза приобретали цвет зеленой морской волны. Впрочем, имя, возможно, не настоящее.
Бармен объявил, что пора закрываться; мокрое полотенце задрапировало пивные крапы.
– Ты ведь на всю ночь хочешь, правда? – сказала Корал. – Не просто по-быстрому позабавиться перед последним поездом?
– Ну, – сказал Эдвин, – идти мне некуда. Я имею в виду, не хочу возвращаться, спать втроем в постели со всеми этими овощами. Думал пойти в отель или еще куда-нибудь.
– Знаю самое что ни на есть подходящее место, – заявила Корал, беря его за руку.
– Но, – объяснил Эдвин, – я должен объяснить. Не думай, будто дело в деньгах или еще в чем-нибудь, можешь все получить, что захочешь, только, видишь ли, есть осложненьице.
– В чем дело? Господи, холодрыга какая. – Было определенно холодно; холод восседал на улицах персонификацией холода. – Такси! – крикнула Корал. Эдвин перехватил бутылку «Мартеля» на манер дубинки, ибо ему не понравился вид каких-то итальянизированных антропоидов впереди. – Такси! – снова крикнула Корал, и подъехало такси.
– Ты, да? – сказал шофер.
– Ты, – передразнила Корал. – Что за «ты», когда она дома? – И назвала отель за Тоттенхэм-Корт-роуд.
– Суть в том, – сказал Эдвин, когда они тронулись, – что есть определенное осложнение. Называется: отсутствие либидо.
– Порядок, – заверила Корал. – У меня времени полным-полно. Не возражаю, если ты не чокнутый. Да я с первого взгляда увидела, что ты не чокнутый. Всегда можно сказать по глазам. Никогда не поверишь, даже наполовину, чего порой требуют.
– Суть в том, – сказал Эдвин, – что я фактически требовать ничего не могу.
– Был один, – рассказывала Корал, – приволок меня к себе домой, а дом полный гробов. А в одном сбоку дверца, чтоб выбраться. Дикость? Никогда не видала ничего подобного. Да платил он пять никеров за каждый гвоздь, а дела шли неважно, когда янки свалили. Ну, давай гвозди вколачивать, сам орет: «Приготовься отправиться и предстать перед Господом», а я внутри трясусь, как лист, будь я проклята, только надеюсь, та самая потайная дверца не подведет. Так и было, иначе я тут тебе не рассказывала бы про это, правда? А другие все отдадут, лишь бы их отхлестали. Все,чего пожелаешь. Скажи своим звездам спасибо, что моей профессией не занимаешься, не имеешь дела со всякими чокнутыми, больше ничего сказать не могу. Мне нормальные вполне годятся, можно чуточку пообжиматься до и после. – И немножечко пообжималась с Эдвином.
– Суть в том, – сказал Эдвин.
– Прибыли, – объявила Корал. – Не особенно раскошеливайся на чаевые этому хаму. – Эдвин расплатился настоящими деньгами, за что шофер особой благодарности не проявил. («Пятифунтовой бумажки, вот чего ты заслуживаешь, дружок», – подумал Эдвин.) И регистратору в отеле заплатил вперед подлинными деньгами. С виду отель не был чисто функциональным: имелась крошечная комнатка с телевизором, служитель проводил их наверх без подмигивания и ухмылок. В спальне стояла домашняя двуспальная кровать, под ней льдисто поблескивал ночной горшок; электрический камин, счетчик шиллингов. – Холод адский, – воскликнула Корал. – Открой бутылку, дай дернуть. – Эдвин в поисках шиллингов вывалил на постель серебро. – И десять хрустов заодно на каминную полку, – сказала Корал. – Потом можно будет позабыть про деньги, понятно?
Они сели в кресла у огня, попивая бренди из одного стакана для зубных щеток.
– Люблю мило поговорить, – призналась Корал, – прежде чем взяться за дело. Как-то больше по-человечески получается. И приятно поболтать с образованным, вроде тебя.
– Суть в том, – сказал Эдвин.
– Я и сама училась. Книги, музыка и так дальше. И что это дает? Что это тебе дало? Облысел раньше времени от учения, осмелюсь сказать, зачитался книжками, по глазам твоим вижу. Не то чтоб мне не нравились лысые головы. Я лысые головы очень даже люблю. Сними-ка эту штуку, – сказала Корал. – Правильно. Прелесть. По-настоящему привлекает. – И нанесла на скальп Эдвина липкий поцелуй. Потом несоблазнительно задрала юбку, принялась отстегивать чулки. – В постели теплее, чем в комнате, – заявила она.
– Суть в том, – сказал Эдвин, – что я не могу.
Корал остановилась, держа в пальцах подвязку.
– Чего не можешь? – спросила она, не сводя с него глаз. – На войне чего-то отстрелили или еще что-нибудь?
– Нет, нет, не то, все в порядке. Я просто не могу. Отсутствие либидо. – Эдвин сглотнул. – Так это называется.
– Ты уже говорил, – напомнила Корал. – Это еще что за член?
– Это не член, – объяснил Эдвин. – Просто я не способен почувствовать интерес. Ни к одной женщине. Поэтому моя жена ушла с другим мужчиной, с бородатым художником.
– С бородами нисколько не лучше, – заметила Корал, качнув головой. – С волосами нисколько не лучше. Вот тут Библия ошибается. Хотя меня волосы не особо волнуют. Так или иначе, что ты хотел сказать своим замечанием? Насчет интереса к женщинам?
– Пожалуйста, – попросил Эдвин, – не сердись из-за этого. Это вовсе не значит, будто я не считаю тебя привлекательной. Ты очень привлекательная. Только я ничего не хочу в связи с этим, и все.
– Тебе, что ли, больше с мужчиной понравилось бы? Ты, что ли, гомик? Тогда какого черта ко мне привязался?
– Ничего я не привязывался, – возразил Эдвин, – как тебе отлично известно. И нечего жаловаться. Вон деньги на каминной полке. Можешь просто уйти, правда? Десять хрустов ни за что ни про что.
– Правильно, – сказала Корал. – На мороз меня выставить. Выставить дурой чертовой перед администрацией. У меня тоже гордость есть, правда?
– Но ведь для тебя, – сказал Эдвин, – это, конечно, лишь способ зарабатывать деньги?
– Ох, деньги, – хмыкнула она. – Деньги – неплохо, по-моему. Только жизнь ведь не может быть просто в деньгах, и ни в чем больше, правда? Серьезно. Меня это обижает. Уязвляет в самое больное место. Я хочу сказать, ты не гомик, не чокнутый, на войне ничего не отстрелено. Потом я раздеваюсь, ложусь вон в ту постель или тут перед камином, а ты можешь только сказать, будто не интересуешься. Да еще с такой лысиной.
– И это действительно все, что есть у вас, девочек, на продажу? – сказал Эдвин. – Пассивность? Просто становишься вещью, куда время от времени грязную водичку сливают? Чтобы уязвить меняв самое больное место?
– Ты хочешь сказать, – изумилась Корал, – первый раз? Никогда раньше не пробовал? Я у тебя первая буду?
– Ну, не будешь ты первая, – сказал Эдвин, – как тебе отлично известно. Впрочем, – поправился он, – полагаю, да, первая. Никогда нужды не было. Понимаешь, я рано женился. Я имею в виду, никогда еще это не делал за деньги.
– И сейчас не придется, – объявила Корал, – если будешь разговаривать в таком тоне. У меня тоже есть чувства, как и у любого другого. Не собираюсь терпеть оскорбления.
– Прошу тебя, пожалуйста, – попросил Эдвин. – Я тебя не оскорбляю. Пожалуйста. Ты мне нравишься. Ты, по-моему, милая. Но я попросту ничего не могу. Вот и все.
– Ну, нет, – сказала Корал, – не все. – Поднялась с кресла, воинственно сдернула свитер, взялась за пояс для чулок, словно перед наступлением застегивала портупею. – Ты тоже раздевайся, – велела она, – иди грей постель. Скоро увидим, можешь ты чего-нибудь или нет.
Глава 23
Эдвин проснулся виновато поздно. Знал, что поздно, слыша громкий шум Лондона за работой. В любом случае, громкий шум Лондона. Корал ушла, оставив на своей подушке свернувшийся кошкой парик. Эдвин обессилел, но чувствовал большой аппетит. Вызвал в памяти рассеянные фрагменты ночи, грубо сложил воедино, как разорванный документ. Девка тяжело потрудилась. Заработала свои десять фунтов, которые – он видел – исчезли с каминной полки. Понадеялся, что проблем с ними у нее не будет. Голый вылез из постели, поежился, включил электрический камин. Ничего не засветилось; он вспомнил: они не позаботились его выключить вчера ночью. Полез в карман за шиллингом, с интересом узнал, что все серебро исчезло. И банкноты пропали, фальшивые и настоящие. Ладно, наверно, она заслужила. Только все же хотелось бы заплатить за какой-нибудь завтрак. Оставила все сигареты – добычу из нескольких одураченных пабов – и спички. Любезно с ее стороны. Эдвин надел брюки, рубашку, носки, бессистемно умылся в тазу, вытерся простынями. Девка тяжело потрудилась: многочисленная колонна тракторов-тягачей, чтоб расколоть соломенный арахис. Нет, это уж чересчур. Получено решительное доказательство возможности реабилитации: блестка золота в реке. Эдвин окончательно оделся и, прежде чем надеть парик, внимательно исследовал голый скальп незнакомца. К тому же там что-то росло: нечто вроде пушка, осязаемого на ощупь. Превратившись в сносного поэтика с растительностью, он, не испытывая полного неудовольствия, приготовился выйти. Карманы набиты сигаретами. Есть спички. Девка мудро сказала, деньги – еще не все. Только он чертовски голодный. Могла бы оставить, как минимум, фунт. Два фунта.
Эдвин спустился по лестнице в вестибюль. Дежурил другой регистратор, с фамильярной радостью приветствовавший его.
– Дама записку оставила, – сообщил он, протягивая свернутый клочок туалетной бумаги. Неподписанное послание гласило: «ВРУН». Места много, могла бы поговорить, правда? Врун, надо же. – У нас тут всякие бывают, – сказал веселый регистратор. – Каких только нету людей.
Шагая по деловой улице к большой цепочке ресторанов, владельцы которых во время войны кормили его индивидуальными фруктовыми пирогами, Эдвин сочинил литанию по самому себе:
Несоблазнительный соблазнитель,
Трахальщик бедных трактирщиков,
Котик котельного мафиози,
Чистильщик Часпера,
Молотильщик мебели,
Виртуозный врун,
Фальшивобанкнотчик
И бесплатноед —
Молись за нас.
С изумлением увидав на часах в часовой мастерской почти половину двенадцатого, поспешил к большому ресторану, с восхищением обнаружив безумное дробление и обособление, исключающее – для буквально мыслящих – возможность полного сбалансированного питания. Ибо там был кофейный бар, зал бифштексов, куриный гриль, картофельный кабинет (С Пылу С Жару Джамбо Мерфи Кусочками С Маслом), кондитерская, даже нечто вроде джунглей под названием «Мир Салата». Со временем Эдвин нашел бар «Пиквикский Завтрак», сел у стойки на стул, умышленно неудобный, и просмотрел меню. «С шести утра для Ранних Пташек до Полуночи для Полуночников», гласило оно. Прелесть. Усталая девушка (для нее никаких Пиквикских Завтраков) в высоком поварском колпаке приняла у него заказ. Он заказал оладьи с кленовым сиропом, пикшу с двумя вареными яйцами, свиную колбасу, бекон, rognons sautes [88]88
Тушеные почки (фр.).
[Закрыть], тосты с горчицей, мармелад, много кофе. Разнообразные пиквикские персонажи одобрительно поглядывали сверху вниз со стены. Увидев фрикативно-билабиального Сэма Уэллера, вспомнил о своей популярной статейке. Потом. Полно времени. Тем временем много чего можно было сказать насчет сексуального упражнения, фактически возбудившего вот такой аппетит. Эдвин с радостью отметил живой спрос на завтраки и удобно расположенный ватерклозет «Муж.». Прелесть.
Ел, как ворон, срыгнув по завершении богатый контрапункт ароматов. Покончил с кофе, закурил сигарету, увидел, что девушка-подавальщица хлопочет над гигантской урной, издававшей сдавленный звук. Встал со стула, пошел к «Муж.». Снял там галстук, парик, засунул под рубашку. Вышел, шаркая, старый, согбенный, прихватив швабру в уборной. Не спешил, даже мешкал, бросая на завтракавших цензорские голодные взгляды. Потом похромал к двери, трясясь, нерешительно посмотрел вправо, влево, медленно поплелся за угол. Легко, все чересчур легко. Теперь пора в «Якорь», в темных очках, чтобы спрятаться от возможного Боба, где, наконец, безусловно, окажется Шейла, любящая и встревоженная, все уже слышавшая; но, возможно, теперь она рада будет узнать о его исцелении. Об исцелении? У него есть доказательства. Вернулось желание. Восстановилось нормальное обоняние. Никаких больше обмороков.
Будущее? Не валяй дурака, будущего не существует. Жизнь одним днем чрезвычайно стимулирует и на удивление легка, думал он, выковыривая языком из заднего зуба колбасный хрящ.
Нужно, однако, немножечко денег, на пинту, если Шейла объявится поздно или, возможно, сегодня совсем не появится. В конце концов, нету никакой особенной спешки с Шейлой. Эдвин увидел публичную библиотеку, Рескина [89]89
Рескин Джон (1819–1900) – крупнейший английский художественный критик, публицист, теоретик искусства.
[Закрыть], засиженного голубями, изъеденного копотью, и вошел. В вестибюле слева и справа располагались уборные, он проследовал в одну, где его стошнило приблизительно пинтой мочегонного кофе, приладил парик, повязал галстук, приготовился к дальнейшим мелким преступлениям. Неужели к преступлениям в самом деле? Он ведь не только берет, но также и дает: теперь в «Муж.» были две швабры.
Эдвин вошел в читальню, многолюдную, мрачную. Обшарпанные мужчины стояли у откидных планшетов с газетами, точно каторжники у ступального колеса; здесь увядало редчайшее остроумие фельетонов, сообщения о графских разводах становились похабными. Старики на стоявших рядами фабричных скамьях читали в тесных обитых перегородках издания цвета молитвенников с выцветшими золотыми заглавиями: «Девятнадцатый век и далее», «Газета для птицеводов-любителей», «Парламентский журнал», «Ежеквартальник адвентистов седьмого дня», «Церковный органист», «Домашнее свиноводство». Один старик издал громкий лающий смешок, – вряд ли над чем-то увиденным в «Панче». Эдвин пошел к полкам с заплесневевшей Британской энциклопедией и «Боевыми кораблями» Гроува и Джейна. Выбрал довольно недавнюю, еще в чистой обложке, книгу по геральдике, не все страницы которой были попорчены библиотечными штампами. На формуляре стоял регистрационный номер, но экслибрис отсутствовал. Открыто сунув книгу под мышку, Эдвин, спокойно мыча, точно старец на солнышке, перекрутил планшеты с газетами, просмотрел заголовки. Отметил растерзание девушками-поклонницами очередного поп-певца-тинейджера; арест продавца контрабандных часов – к сожалению, не Боба; зима будет суровой; американский президент хочет мира. Интересно. Лениво, по-прежнему тихо мыча, вышел из читалки, вернулся в уборную. Там очень осторожно отодрал формуляр, путем неспешного анализа убедился, что книга теперь сирота. Вышел из здания с геральдикой под мышкой, отыскал улицу книг секонд-хенд. В самом что ни на есть темном на вид магазинчике работал вертлявый дерганый мужчина в трех очках. Эдвин запросил пятнадцать шиллингов.
– Выяснилось, – пояснил он, – что в моей библиотеке уже есть экземпляр. Не всякому даже самому ненасытному любителю предмета требуется более одного. – Против предложенных пяти шиллингов возразил, но в конце концов принял.
До чего легко жить в этом мире, в огромном невинном доверчивом Лондоне. Назад к природе; повсюду растут плоды, только рви. Действительно, только дурак вернется к тяжкому труду преподавания лингвистики под солнцем Бирмы. Полный ли он дурак, Эдвин еще не решил.
Глава 24
– Вот он, – закричал Гарри Стоун, сильно толкнув Эдвина, как только тот шагнул в бар. – Де вы были, проклятье? Де-то сляется без разресения, кода весь этот проклятый город за ним гоняется. – Лео Стоун и Лес укоризненно на него смотрели, наряду со всеми прочими за пределами круга, который Гарри Стоун заразил своим горьким воплем. – Даем вам полсяса, – пригрозил Гарри Стоун, – всего полсяса, а потом запрем у себя, независимо, будут там две немеские суськи или не будут. Видис, – обратился он к Лесу, – низя тебе доверять. Порусили тебе присмотреть, и сто выело? Он удрал, токо к носи вернулся.
– Слушайте, – сказал Лес, – я этого не перевариваю. Человек рожден свободным, и кругом в цепях, как сказал Дж. Б. Пристли. Просто недостойно запирать человека против его воли. Я так понимаю, у него должен быть здравый смысл. Если человек не может сам себя разумно вести, тут уже никто ничего не поделает.
– Это, – объявил Гарри Стоун, источая страсть всеми органами и членами, – исклюсение. Он не хосет или не мозет разумно себя вести, будь я проклят. Не собразает, как вазно сбересь эту лысую голову до завтраснего весера. Как бы все не поело псу под хвост, – говорил он, подняв взор на парик Эдвина. – Один Иисус Христос знает, сего он с ней сотворил. Ну-ка, глянем. – Сорвал с Эдвина кудри, метнулся пантерой вкруг голого скальпа. – Надо бы хоросенько пройтись, – заключил он, – а так все в порядке. Хотя удивительно, будь я проклят, уситывая, сто он всю нось невесть сем занимался. Ну, – скорбно сказал он, толкнув Эдвина, – нахлобусивайте обратно, а потом пойдете при Лео и мной.
– С Лео и со мной.
– При Лео и мной. Проклятье, я тоже пойду. – И Эдвин был немедленно эскортирован из бара близнецами Стоун, крепко державшими его с обеих сторон, и псом Ниггером с бесконечным лаем и прыжками.
– Моя жена, – сказал Эдвин. – Что насчет моей жены?
– Васей зене нам приелось наплести кусю клятого вранья, – сообщил Гарри Стоун. – Для идеальной завтрасней сохранности вот этой вот головы.
– Значит, вы ее видели? – сказал Эдвин, стараясь вырваться. – Где вы ее видели?
– Она сейчас в баре-салуне, – сказал Лео Стоун, – выпивает с тем самым бородатым молокососом. – Эдвин рванулся сильнее, и пес на него зарычал.
– Не говорил бы ты этого, Лео, – упрекнул Гарри Стоун. – Теперь он у нас возбудился, а это голове не к добру. Сюда слусайте, – горько сказал он, – не друг она вам, васа миссис. Знаете, сто стряслось? Посла она, понимаес, в больнису, взглянуть, как вы там, а ей говорят, ноги сделал, все зутко беспокоятся. Так она собралась обратиться к закону, расставить по всему распроклятому городу полисейский кордон, стобы вас отловить. Собралась заявить, мол, вы зутко опасный, вас таки надо поймать и засунуть обратно.
– Ох, – сказал Эдвин. – И она это сделала, да?
– Да, – сказал Гарри Стоун и, клацнув зубами, добавил с ядовитой квинтэссенцией горечи, с дистиллированной сокровеннейшей сутью желчи, полыни, алоэ в одном слове: – Зенссииа.
– Да только она никогда не узнает, где вы, – вставил Лео Стоун, – то есть узнает, когда поздно будет. Еще долго не выйдет из бара-салуна «Якоря».
– Почему? Как?
– Вы сто думаете, – сказал Гарри Стоун, – будто мы с ним без мозгов, вроде вас, хоть вы и распроклятый перфессер. Не видите своими глазами, проклятье? Не видите, треклятый грузовик застрял там, в переулке, никто не мозет ни войти, ни выйти, все надолго заперты в салуне? Да ведь там дверь салуна, – встряхнул он Эдвина, – вон в том переулке. Нынсе кое-кто на работу не попадет, – скорбно объявил он, – если тот самый софер своедело не сделает подобаюссим образом.
– Но, – сказал Эдвин, – если б я объяснил, если б я доказал… Знаете, ведь теперь со мной все в порядке. Я излечился. Всегда знал, что операции на самом деле не требуется. Если бы я ей мог объяснить… – Но его уводили от жены все дальше и дальше. – Телефон там есть? – допытывался он. – Если б я мог поговорить…
– Нету там телефона, – отрезал Гарри Стоун. – Токо будка серез дорогу, никто до нее добраться не смозет. Ну, теперь вам несего ни о сем беспокоиться до завтраснего весера, ясно? Кода приз завоюете, хватит времени для беспокойства, да тода узе беспокоиться будет не о сем.
– Какого вы ей вранья наплели? – спросил Эдвин.
– Ничего особенного, – заверил Лео Стоун, толкнув его в левое плечо. – Говорим только, будто вы живете с одной старой стервой где-то возле Степни. Говорим, стерва вроде мамаши, хлопочет про вас. А чтоб она не особенно беспокоилась, говорим, вы нет-нет да опомнитесь. Тут она и затеяла насчет обратиться к закону.
Они подходили к высокому фасаду эпохи Регентства, благородному в своем упадке; бывшая фамильная целостность ныне злобно расклевана на бесчисленные клетушки для съемщиков.
– Вот, – с отвращением сказал Гарри Стоун. – Вот тут вот мы торсим при крайнем неудобстве.
Через два пролета голой лестницы с ободранными, висевшими клочьями оригинальными обоями эпохи Регентства на стенах дошли до двери, давно лишившейся краски. За ней оказалась большая высокая комната с двумя кроватями. В одной лежала Рената, в другой две плоскогрудые девушки, которых Эдвин помнил по тому самому воскресному дню в клубе, – немецкие девушки, нашедшие его шлепанцы. Они молча, спокойно, эффективно спали; Рената нерегулярно всхрапывала и булькала.
– Вы токо поглядите на них, – с омерзением предложил Гарри Стоун. – Вставай, – крикнул он, – проклятая немеская корова, – и, атлетически высоко вскинув ногу, пнул презентабельный зад Ренаты.
– Вот этого не надо, – сказал Лео Стоун. – Не забывай, это я с ней живу, а не ты. – Впрочем, тон его жестким не был.
– Сутис? – отвечал его близнец. – Мы с ней оба зивем, прости Господи; хотя, если хосес, сам мозес пнуть. – И отвернулся, точно его тошнило.
Рената проснулась с невидящим взором, долго чмокала губами.
– So, – сказала она. – Wieviel Uhr? [90]90
Так. Сколько времени? (нем.)
[Закрыть]
– Время вставать таки с этой треклятой кровати, – сказал Гарри Стоун, – и поставить хоть сто-нибудь на плиту. Никто из нас не ел с последнего воскресного завтрака. – Применительно к близнецам Стоун, подумал Эдвин, это, возможно, буквальная правда, но, вновь проголодавшись, не стал отделяться от общего голодного крика. Рената села на краю кровати, зевая до смерти; прыгали, колыхались большие тевтонские груди, мозолистые ноги плоскостопо стояли на голом полу. Прозевавшись, она, видно, узнала Эдвина.
– Мой ты дорогой, – кивнула она. – Фунтов пять вчера, да, я на доппель джин вечером пропила. – И как бы с изумлением тряхнула головой. Потом надела туфли, мужское пальто, видно взаиморазделямое как с Лео, так и Гарри, и довольно миролюбиво занялась поисками еды.
Эдвин сел на свободную теперь кровать, оглядел комнату. Было там изрядное окно эпохи Регентства с видом на телеантенны и осеннее небо. Был комод с ящиками, гардероб, оба того типа, что нередко фланкируют двери мелочных лавок; богатая радиола за семь фунтов, блеявшая, как старуха, пытающаяся говорить на языке молоденьких девушек. Был газовый камин, газовая горелка и счетчик. Рената открыла горелку, но шипения не слышалось; чиркнула спичкой, огонь не загорелся.
– Шиллинг, – сказала она, – иметь надо.
Лео Стоун оглянулся так, словно у него была сломана шея, и молвил:
– Вчера была груда шиллингов. Что ты с ними сделала, а? Что ты сделала с грудой шиллингов, которую я собрал, ползая зачастую на четвереньках в этом районе, столь жадном до проклятых шиллингов для старых дев-сиделок, претерпевая смертельные муки и унижение перед лицом частых отказов, а? – Это был новый Лео Стоун, без драматических и торговых голосовых масок. Он приближался к своей любовнице, как обезьяна со сломанной шеей, с застывшими руками-крюками. – Шиллинги, шиллинги, шиллинги, – произнес он крещендо. – Что должно было пойти на подкрепление, на тепло и питание, уходит на джин. Так, верно? На джин. Сколько раз я приходил усталый домой, жаждая еды и уюта, – право каждого человека, независимо от цвета кожи и вероисповедания, – и вместо этого обнаруживал, что газа нет и на него нет денег? Вот какой награды удостоился я за то, что холил и лелеял ту, кто по всем основаниям враг? Да, враг, клянусь Богом. Ибо дом рабства в нынешние времена – это проклятый Дойчланд. Ах, ja, ja, richtig [91]91
Да, да, правильно (нем.).
[Закрыть]. Вот они, проклятые побежденные, купаются в роскоши, жиреют, жируют на еврейском поту, транжирят собранные на газ шиллинги, превращают их в джин для чертовой старой шлюхи, пропитанной джином, обожравшейся кислой капустой, в какое-то проклятое, ублюдочное и никчемное черт его знает чего для никуда не годной бездельницы, отвратительной и непривлекательной шлюхи. – Он перевел дух.
Гарри Стоун сказал:
– И я тозе так думаю.
Две немецкие дочки крепко спали в блаженном мифе: кольцо в лесу, стерегущий дракон, блистательный герой с мечом. Реиата громко сказала:
– Ach, жид. Жидовская свинья. Сало жидовских свиней для утучнения земли Германии. Больше хорошего ничего.
– Возьми свои слова назад, – сказал Лео Стоун, подходя ближе. – Возьми назад проклятую клевету, или я глотку тебе перережу вот этим вот хлебным ножом. – Рената заметно все больше пугалась. – Сейчас же, – сказал Лео Стоун, хватаясь за лацкан пальто, – возьми их назад.
– Жидовская свинья и собака, – настаивала Рената. – Жидовское сало на мыло для мойки свинарника. – Лео Стоун с озаренным долгой ненавистью своего народа лицом провозгласил:
– Единственное хорошее, что когда-нибудь у вас в Германии было, – евреи. Так?
– Нет, нет. Евреи свиньи. Ох, – сказала Рената, обхватывая себя руками, – да, да. Евреи хорошие, очень хорошие. Хватит теперь, свинья жидовская. Евреи очень хорошие.
– Вы, – яростно обратился к Эдвину Лео Стоун, – образованный. Кто великие люди Германии? Писатели и всякая дребедень?
– Ох, – сказал Эдвин. – Слушайте, у меня тут завалялись два шиллинга. Давайте зажжем огонь, ради бога. – Гарри Стоун подошел, скорбно забрал два шиллинга, зажег газовую горелку. Миниатюрные язычки пламени с шипением уютно горели. – Ну, – сказал Эдвин, – Гете, Шиллер и Гейне. Коцебу, Вагнер, Шуман. Ницше, Кант, Шопенгауэр и Бетховен. Ганс Сакс и Мартин Лютер.
– И все они были евреи, да? – грозно уточнил Лео Стоун. – Каждый этот немецкий ублюдок – еврей. Скажи да, будь ты проклята, или я с тобой разделаюсь.
– Нет, нет, – сказала Рената. – Да, да, – поправилась она. – Все евреи. Гитлер – грязная свинья чертова. Тоже еврей.
Лео Стоун уронил смягчившиеся руки.
– Пока ты помнишь, – предупредил он, – кто тут хозяин. На самом деле проблем нам не надо. Мы хотим любви, мира, согласия, как учили в старые времена. Мы хотим шиллингов в счетчике и готовой горячей еды, как только попросим. Ну, давай пошевеливайся. – Газовая горелка источала шипящий яд. Рената зажгла конфорки. Лео поцеловал ее в щеку. Все было забыто.
– Я тут таки думаю, – сказал Гарри Стоун, – мозно вон тех двух использовать. – Его печальные задумчивые глаза устремились на спящих сестер. Эдвин сказал:
– Разве клуб сегодня не откроется?
– Сутите? – закричал Гарри Стоун. – После визитов закона? После того, как вы отклюсились, внусив им подозрения? Нам придется на время поглубзе залесь.
– Кажется, я тебя понял, – сказал Лео Стоун. – Одеть и использовать в качестве пары подружек невесты. А он пусть возьмет в руки какую-то палку и следует взади. Типа на коронации.
– Правильно, – подтвердил Гарри Стоун. – Вон та занавеска сгодится. – И действительно, одним концом к багету над окном прикреплена была тонкая, побитая молью, длинная красная как бы фланель.
– Эти девушки, – сказал Эдвин. – Чем они занимаются на самом деле?
– Ну, – сказал Лео Стоун, – знаете, ночной работой. Мы не совсем в курсе, чем именно, по чем-то занимаются вместе. Две хорошие девушки, если узнать их поближе. Мы зовем их Лили и Марлен. – Мать их тем временем жарила какую-то чесночную мешанину и напевала:
При упоминании о Рождестве она тихо заплакала, роняя слезы на сковородку, думая о Младенце Христе, о свечах, о тихой снежной ночи, о звоне пивных кружек. Лео Стоун сказал:
– Господи Иисусе, чуть-чуть не забыл. Мне ж надо репетировать. Правда, мысль неплохая, на нем испробовать.
– Токо песню? – уточнил Гарри Стоун, протянув трость своему близнецу.
– Только песню. Прочее могу экспромтом. Знаешь: простите за чуточное опоздание, просто от непроходимости пострадал по дороге. И тому подобное. Вполне легко выходит. Свет, – скомандовал он. – Музыка. – Никакой музыки не прозвучало, однако Гарри Стоун включил единственную голую лампочку, отчего в комнате стало не столь уютно. Спящие сестры заворочались, застонали, нахмурились. Лео Стоун запел в старом хриплом стиле кокни:
Каждый вечер мой старик
Тащится в пивнушку.
Пропивать он там привык
Каждую полушку.
Когда явится домой,
Мне накостыляет
Да поднимет хвост трубой,
Только черти знают.
Крошке Джеку врежет
За кухонным столом,
Дядю Джо зарежет
И тетю Мейбл притом.
Дети в койке мирно дышат,
Помня, что он затевает.
А когда шаги заслышат,
Мы все вместе запеваем…
– А теперь, – объявил Гарри Стоун, – мы все хором вступаем. – Лео Стоун пел дальше, исполняя одновременно рудиментарный танец с тростью:
Он все равно, он все равно
Достанет их назло.
Он ведь просто алкаш,
В стельку пьяный.
Пузо пивом налил
И хохочет, дебил.
Все равно, все равно
Их достанет назло.
Тут погас свет, требуя шиллинга; Лео Стоун прыгал тенью на фоне горевшего газа и восклицал, репетируя хор.








