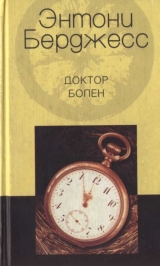
Текст книги "Доктор болен"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Глава 29
– Сейсяс, – сказал Гарри Стоун, бесштанный ведущий, – сей распроклятый сяс присутствуюссий тут перфессер продолзит свое первое сенсасионное выступленье по телику осередной демон-ей-в-дысло-страсией треклятых слов. В прослый раз – весь мир помнит, идут телеграммы с Китая, с Перу, и со всяких других загранисьных проклятых местесек, распроклятые телеграммы узе просто некуда класть, – он сказал одно слово, которое больсе нельзя повторить, но теперь полусивсее офисиальное определение в касестве, – он заглянул в отпечатанную шпаргалку, – эксплетивного отглагольного суссествительного, в проклятой фонетисеской структуре которого оглусенная клятая лабиодентальная переходит таки во вторисьную главную гласную номер сесть, закансиваясь оглусенным велярным взрывным, будь я проклят. Сейсяс он все это продемонстрирует в действии на омофоне [104]104
Омофоны – одинаково звучащие, но по-разному пишущиеся слова.
[Закрыть]. – Его редкостное придыхание бурей неслось по всему свету. – Просу, перфессер.
Лысая голова Эдвина в единственном числе заполонила экран монитора, исчерченная диаграммой первичной главной гласной. Он поднял трепещущие веки, а потом из носа у него обильно хлынула кровь.
– Перед всеми извиняюсь, – извинился он. – Не совсем здоров на колган, – подмигнул он. – Сегодня у нас в студии несколько омофонов. Вот, например. – Он повертел в руках плод, молвил волшебное слово, проводил его взглядом, падежный, бревенчатый, уплывающий без плотовщиков в ночь. – Или вот, – сказал он. – Наша подружка испанская. – Обхватил крепкий корпус Кармен, задрав юбку.
– Вот сучок, – сказала она. – Ох, блин. – Зубы ее две минуты шамкали на экране.
– В этом корпусе, – объявил Эдвин, – лестница. Теперь смотрите. – И Чарли полез по лестнице в Валгаллу с веревочными спагетти через плечо, Чарли жаловался:
– Жутко неудобно. Итальянская пакость.
– А вот, – продолжал Эдвин, – мое собственное маленькое изобретение, тикающие котлы, гарантированно кипятят любое количество времени, останавливаются только через три недели. Всего никер. Если считать на сороки, то восемь. Идут в комплекте со звонком на малине; удобно для пикников. – Из электрического счетчика посыпались, крутясь, деньги, – джекпот. Эдвин схватил пригоршню шиллингов, каждый из них умолял:
– Щелкни меня. Долбани посильней. Если ты меня не положишь как следует, позову мафиози, пускай вздуют твоючерепушку.
– Чудеса филологии, – с гордостью заключил Эдвин. – Возьмем вот этого пса, например. – И взял сопротивлявшегося Ниггера с рыбьей головой вместо носа. – Понимаете, это на самом деле Чурка. Собаке собачья кличка. Назови чурку чуркой. Из наилучших побуждений. – И поставил послушного Ниггера с сухим металлическим звяканьем. – Когда чурка будет болванкой, на нее лайку натянут. Собаку тянет к дереву. Все сходится. – И взглянул на небо-потолок, где Лес расхаживал по колосникам.
– Вянет мировое древо, – пел Лес. – Безмозглые безбожные боги. Верхний свет божий, видишь? Для летучего голландца.
– Теперь, – сказал Эдвин, – переходим от омофонов к вопросу о любви в целом, к любви, как к самому зубодробительному сочетанию фонем, когда-либо произнесенному промышляющей белкой. – Возникла Корал без юбки.
– Классная из нас с ней пароська, будь я проклят, – заметил Гарри Стоун без штанов.
– Трехнутый на своей как-то-фонии, – кораллово улыбнулась Корал. – Любовь, да? Зубодробительная как-ты-ее-там-назвал? Зубодробительная – хорошо.
– Моя жена Шейла демонстрирует сейчас любовь, – сказал Эдвин, – вместе с семью священными трансами. Не пытайтесь прибавить в своих ящиках яркость, ибо почти все это темное дело должно совершаться во тьме. Покажем. Продемонстрируем. Понимаете, два эти слова имеют одно и то же значение, но разное происхождение, англосаксонское и французское соответственно, что свидетельствует о несравненном богатстве английского. По мере продолжения демонстрации, на которую, может быть, скучно долго смотреть, постараюсь развлечь вас бесценными филологическими курьезами. Как правило, они продаются исключительно в общественных уборных. По особому разрешению Часпера я нынче вечером их представляю огромной зрительской аудитории. – Энергичные звуки любви нарастали крещендо. – Слово «крещендо», заимствованное в Италии, в родстве с восходом лунного полумесяца. Фоновые звуки, производимые моей женой и различными неизвестными мне персонами, вряд ли можно признать подходящими для лингвистического анализа. Где-то должен же быть предел.
Следует, – сказал Эдвин, – прояснить другой пункт, пока мое время не истекло. Время, кстати, любезно предоставлено котельной мафией. Едва ли справедливо абсолютно неподвижно привязывать меня к кровати, как Одиссей вместе с прочими в доску пьяными греками были привязаны к мачте, чтобы послушать безвредную непременную песню сирен. Ладно, ладно, слышу чьи-то крики: мистер, наденьте волосы. Только не мистер, пожалуйста. Доктор, если не возражаете. Вот мой диплом. – И бессильно вытащил клочок туалетной бумаги, измазанный губной помадой: «ВРУН». – Что касается волос, честно, я ничего лучшего и не желал бы. – Улыбаясь в камеру на потолке, поднес к своей голове паралично трясущийся палец. К его глубокому изумлению, волосы уже пробивались проволочной негритянской шерстью. В высокой шляпе, в безукоризненном фраке, вертя трость с серебряным набалдашником, на сцене танцевал Лео Стоун. Свой семитский нос он удлинил красивым воском телесного цвета.
– Теперь все вместе, – крикнул Лео:
Он все равно, он все равно
Достанет их назло.
Колос зреет в тишине,
Голос слышен в вышине,
Волос встал на голове,
Ох…
– Дутые омофоны, – негодующе заявил Эдвин. – Голос и волос.
Аристотель Танатос склонился над ним с орлиным черепом вместо головы. Заговорил на новогреческом с легким турецким акцентом. Благодаря любезности рентгеновского отделения его голый череп медленно одевался плотью.
– Давай, – поддержал Эдвин. – Еще немного. – Плоть, однако, остановилась на стадии разумной плотности. Эдвин заморгал. Все образы расплылись, кроме мужчины в халате, который не был Аристотелем Танатосом, хотя слюняво бормотал по-гречески над постелью Эдвина, словно на его речевых центрах отражался нейронный дефект. Эдвин проморгался, вызывал к существованию прочную белую палату, только не ту, откуда сбежал. Здесь он никого не знал. Где Р. Дикки, где насмешник, где юноша, горбатый, как Панч? Может быть, это другая больница. Если подумать, едва ли его привезли в ту же самую после столь непростительного, на их взгляд, поведения. Человек, говоривший по-гречески, наклоняясь над койкой Эдвина, казался безумным и радостным. Общительный, даже будучи моноглотом, он посеменил к соседней койке. На всех койках вдоль палаты по обеим ее сторонам лежали мужчины, кое-кто в темных очках, почти все с забинтованными головами, один – трясущийся от болезни Паркинсона. Эдвин нежно ощупал собственную голову. Там что-то росло: неподвижные кольца марли над хлопково-шерстяной клумбой. Наверно, отключившись, он сильно поранился. А потом вошел веселый доктор Рейлтон, вытирая губы, игравшие на трубе.
– Как, – испуганно спросил Эдвин, – вы сюда попали?
– Я здесь работаю, – отвечал доктор Рейлтон. – Как вы себя теперь чувствуете, доктор?
– Знаю, – сокрушенно признал Эдвин. – Действительно, вы были правы. Я слишком безответственный для столь высокого титула. Но не могу же я сам себя его лишить, правда? Не могу лишить себя того, что мне было присвоено. Правда?
– Не надо так волноваться, – сказал доктор Рейлтон. – И не чувствуйте себя виноватым. Чувство вины сильно препятствует выздоровлению.
– Значит, вы рассматриваете вину с клинической, а не с нравственной точки зрения? – уточнил Эдвин. – Но если бы вы давали мне нравственную оценку, что сказали бы?
– Это к делу не относится, – сказал доктор Рейлтон. – Не входит в наш с вами контракт. Теперь отдыхайте. Не думайте больше.
– В любом случае, простите меня, – сказал Эдвин.
– Если от извинений вы себя лучше чувствуете, – сказал доктор Рейлтон, – пожалуйста, извиняйтесь. – Он встал с края койки. – Навещу вас попозже.
– Вы с радостью играли на трубе вчера вечером?
– Я всегда с радостью играю на трубе, – сказал доктор Рейлтон. – Возможно, труба для меня то же самое, что для вас изучение слов. Только, – сказал доктор Рейлтон, – у меня еще и профессия есть. – Он вполне дружелюбно улыбнулся, а потом ушел из палаты.
Глава 30
Измерить температуру, сосчитать пульс пришла сестра с крепким ирландским телом, выкормленным картошкой, со сливово-яблочными щеками. Когда термометр на минуту шмыгнул в теплое гнездо, Эдвин попробовал задать пару робких вопросов.
– Где я? – спросил он. Сестра была крестьянской породы, на дух не выносила никакой саксонской чепухи, поэтому сказала:
– Не задавайте глупых вопросов. Вы в послеоперационной палате.
– Вы хотите сказать, меня прооперировали? Уже?
– Не спрашивайте, и не услышите лжи. Видите, я считаю ваш пульс.
– Какой сегодня день? – спросил Эдвин. Она записала пульс в карту, вытащила термометр, сняла показания.
– Для усердного труженика все дни одинаковые, – сказала она. И добавила нолик в температурный график. – Кроме воскресенья, но и тогда работа продолжается, – сказала она, дочка бедного фермера.
– Вчера вечером по телевизору ничего необычного не было? – спросил Эдвин.
– Откуда мне знать? Сплошная ерунда, можно точно сказать. У меня есть дела поважней, чем смотреть по телевизору сплошную ерунду.
– Не сомневаюсь, – сказал галантный Эдвин. – У такой милой девчушки.
– Не хамите, – сказала она и направилась к следующему пациенту. Но, стоя там за работой, бойко оглянулась на Эдвина.
До обеда с визитом явился священник англиканской церкви.
– Хочу спросить, не соизволите ли вы ответить на простой вопрос, – сказал Эдвин. – Какой сегодня день?
– День? День? – Это был рассеянный серебристый старик. – Ну да. – Полез во внутренний карман, вытащил ежедневник с примечательно немногочисленными, на взгляд Эдвина, записями. – Вряд ли это сильно поможет. С помощью этой книжечки по числу можно точно определить день недели. Полагаю, – сказал он, – среда или четверг. Не уверен. Но вполне уверен, – улыбнулся он, – что день нынче будний.
– Спасибо, – поблагодарил Эдвин. – А который час?
– Ну, – сказал священник, – к сожалению, свои часы я всегда забываю дома. Но, э-э, вижу, как я понимаю, ваши, вон там, на тумбочке возле кровати. А на них, э-э, почти шесть.
– Мои часы? – не поверил Эдвин. – Господи помилуй, как они там очутились? – Священник близко поднес часы к глазам Эдвина. Они тикали изо всех сил, точно высокомерный кот, который невозмутимо мурлычет, вернувшись домой после долгого отсутствия, равнодушный к пережитому хозяевами переполоху. Часы точно были его.
– Очутились? – эхом отозвался священник. – Ну наверно, неразумно, даже кощунственно постулировать в качестве объяснения сотворение чуда. Логичнее предположить, что вы туда сами их положили. Или вместо вас это сделал кто-то другой, не причастный божественной природе.
– Что такое «Прибой»? – спросил Эдвин.
– Прибой? Боже, сколько вопросов. Я бы сказал, это пенные волны, идущие с моря. По-моему, у Киплинга есть стихи, где прекрасно употребляется это слово. – Та-та-та-та-та-та-там, брызги пены с моря веют, та-та-та-та-та-та-там, и глупыш свободно реет. Стихи, – объяснил священник, – как вы, наверно, догадываетесь, про море. – И старчески причмокнул.
– Но еще стиральный порошок, стиральная машина или еще что-нибудь вроде того?
– Я отдаю стирать в прачечную, – довольно сухо сказал священник. – Можно полюбопытствовать, почему вы спрашиваете?
– Да просто так, – сказал Эдвин, – правда.
– Ну, рад был немного с вами побеседовать, – сказал священник. Эдвин пристально посмотрел на него, проверяя, не сидит ли он на унитазе. – Если, конечно, у вас ко мне нету других вопросов, – добродушно оговорился священник. – Простите, – добавил он, – я, разумеется, не имею в виду, будто был бы рад меньше, если б такие вопросы имелись. Мы порой пользуемся бессмысленными формулировками. Слова – ненадежная вещь.
– Как вы думаете, – медленно проговорил Эдвин, – мужчина всегда прав, оставляя жену?
– Нет, – мгновенно ответил священник. – Нас учат прощать до седмижды семидесяти раз [105]105
Евангелие от Матфея, 18:22.
[Закрыть]. Этим все сказано. – И с трудом ревматически встал со стула у койки. – Знаете, если хотите молебен, – смущенно сказал он, – или что-нибудь в этом роде, я с большим удовольствием… то есть буду рад…
– Вы очень любезны, – сказал Эдвин.
– По-моему, вы слегка надо мной подшутили, – с христианским всепрощением заметил священник. – Я теперь вижу на температурном графике, на самом деле Прибой – ваша собственная фамилия. Ах, ясно. Фактически, нечто вроде загадки. Ну, до свидания. Прибой, прибой, – добродушно бормотал он про себя, удаляясь.
Эдвин смог съесть небольшой обед (картофельная запеканка с мясом, к ней добавочная картошка – пюре, соте, одна печеная картофелина). И задумался, что скажет Шейле, если она, конечно, придет. Естественно, можно простить ее, но она посчитает прощение совсем неуместным, равно как и дерзким, ибо будет уверена, что прощать нечего. Возможно, фактически, это ему надо просить у нее прощения, поскольку жены, как правило, не блудят, не изменяют направо-налево, если счастливы дома. Все это уходит далеко назад, и, вероятно, в конце концов, он во всем виноват. Его нынешние намерения уже подпорчены потенциальным бременем вины. Но подобное соображение уничтожается той виной, которую она должна была – и никогда не чувствовала за собой, причиняя ему своими прегрешениями боль (а она ему причинила ужасную боль, пускай не говорит, будто он не имел права чувствовать боль). Он намерен оставить ее потому, что, оставив его в тот момент, когда была нужна ему больше всего, она совершила измену собственному пресловутому принципу: важно быть вместе, остальное никакого значения не имеет. Разумеется, разрыв с ней будет просто означать приказ убираться из его жизни. В Англии они были бездомными, их немногочисленное недвижимое имущество находилось в Моламьяйне. Эдвин был вполне уверен, что не собирается возвращаться в Моламьяйн, вполне уверен после всего происшедшего. Когда Шейла будет выброшена из будущего, придется перепланировать будущее.
Но, гадал он, действительно ли происходили все те фантастические события? Должны были произойти; они еще хранили в памяти сильный отзвук реальности. Звон аккорда КЛЕТЬ в клубе; блик света сценической рампы на отполированной трубе Рейлтона; невыдавленный угорь на верхней губе Гарри Стоуна. И прежде всего, жуткая, деловая, хрипящая нагота, подъезжающий к станции поезд, высокий, сводящий с ума, угасающий голос Шейлы. Этовполне определенно происходило. А если это было, то и прочее тоже. Однако как можно подтвердить или опровергнуть что-либо? Люди так слабо держатся за реальность, помня лишь то, что им хочется помнить. Даже самые продвинутые – Рейлтон, Часпер, Аристотель Танатос – сознательно будут умалчивать, не желая усугублять унижение упоминанием об унизительном факте.
Аристотель Танатос. Эдвин вдруг вспотел и испуганно задышал. Действительно ли он когда-нибудь знал человека с таким именем и фамилией? Он копался и шарил в памяти в поисках Аристотеля Танатоса. Можно выдумать имя подобного типа, вроде мистера Евгенида, купца из Смирны. Носит ли хоть какой-нибудь грек фамилию Танатос? Он старался придать четкость фрагментам университетской жизни, припомнить конкретные сцены, случайные встречи. Ценой расколовшейся головы вроде бы удалось увидеть на картинке самого себя с тремя-четырьмя другими молодыми людьми в пивной через дорогу от Мужского Союза, серьезно что-то обсуждавшими. Возможно, эстетику или падение Франции, грядущий призыв в армию или точное определение специального термина, природу барокко или еще что-нибудь. Он вроде бы видел на самом краю пухлого смуглого человека, более зрелого, чем его компаньоны. Эдвин вгляделся получше и выяснил: это студент-египтянин, изучающий технологию, по имени Хамид. Аристотель Танатос. Не встречался ли он с кем-то таким в Америке, обучаясь в аспирантуре? В Америке можно услышать подобное имя. Он увидел мужчину, говорившего на новогреческом, который шаркал по палате в халате и в шлепанцах, пускал слюни, притворялся доктором, неуклюже кивая над температурными графиками. И окликнул его:
– Эй!
Мужчина быстро подошел, неловко натыкаясь на кресла-каталки, вцепился в спинку кровати.
– Имя, – сказал Эдвин. – Как вас зовут? – Вспомнились крохи греческого из прошлого. – Кирие. Онома [106]106
Господин. Имя ( греч.).
[Закрыть].
– Джонни, – с готовностью брызнул мужчина слюной. – Джонни Дикикоропулос. С Кипра. Ни черта нет хорошего в турках.
– Бывает такое онома: Танатос? – спросил Эдвин. Киприот мигом заплакал.
– Черт возьми, – сердито сказал Эдвин. – Я говорю совсем не про смерть, не говорю, будто вы умираете. Бывает такое имя: Танатос? Есть у вас какие-нибудь знакомые греки с такой фамилией? Мистер Танатос. Мистер Танатос.Очнись, чтоб тебя разразило. – Но киприот продолжал бормотать. Раздались крики, стыдно обижать несчастного хмыря только за то, что бедняга – чертов иностранец, нельзя этого допускать.
– Вы, – сказала дежурная по палате сестра, – получите успокоительное. Мы не разрешим одному пациенту взбудоражить всю палату. Вы чересчур живой, вот что.
– Но, – сказал Эдвин, – ко мне должны прийти. Жена.
– К вам никаких посетителей. Вы еще не готовы к визитам, пока так ведете себя. Я вас сейчас ширмами загорожу. – Это была свирепая тощая женщина в очках в старомодной оправе.
– Но я должен увидеть жену, – твердил Эдвин.
– Вы увидите свою жену в надлежащее время. Только не сегодня. – И подкатила скрипевшие ширмы, отгородив Эдвина от живого больного мира. – Хватит времени повидаться с женой, когда поправитесь.
Глава 31
– Ну, – сказала Шейла, – кажется, ты теперь в полном порядке. Знаешь, все о тебе беспокоились. – Они сидела, темная красотка, в широкой черной юбке, в меловом свитере, меховая шубка на плечах. Было это следующим вечером. Эдвин чувствовал себя отдохнувшим; казалось, все будет хорошо. И разнообразные целебные силы слились в настроение всепрощения. Он простил себя. Простил несколько прошлых дней и все более дальнее прошлое. Простил Шейлу, но это оставалось секретом, известием, перешедшим от него к нему.
– Почему все беспокоились? – спросил он, беря Шейлу за руку. Рука была холодная, но и осенний вечер холодный, стучал в окно, выкрикивая свою боль.
– Да, наверно, ты мало что помнишь, правда? – сказала Шейла. – И наверно, на самом деле не особенно стоит рассказывать.
– Ты имеешь в виду то, что было после моего падения?
– А, помнишь, как упал? Решили отложить операцию. А потом, говорят, у тебя был какой-то послеоперационный шок. Ты явно был в коме. Я несколько раз пыталась с тобой повидаться, но меня не пустили.
– Как Найджел?
– Найджел? Этот идиот? Полный нуль, полней не бывает. Но почему ты спрашиваешь? Почему ты не спросишь, как я?
– Полагаю, отлично. Выглядишь замечательно. Никогда лучше не выглядела.
– Никогда так не мерзла. – Она чуть поежилась, теплее закутала в шубу плечи, выдернув при этом руку из легкого пожатия Эдвина. А назад руку не протянула.
– А как, – робко спросил он, – другой мужчина? Преемник Найджела?
– Тебя, видно, очень уж интересуют мои приятели, – заметила Шейла. – Что касается преемника Найджела, увы, не знаю. Верней, знаю. Преемник Найджела страдает тяжелым приступом небытия.
– Ох, брось, – сказал Эдвин, внезапно устав, ворочая забинтованной головой на подушке. – Это на тебя не похоже. О преемнике Найджела мне все известно, не так ли? Хотя как можно скорее хотелось бы позабыть.
– Зачем про него тогда спрашивать? Слушай, Эдвин, не надо бы мне говорить, но если ты думаешь, будто я провожу время в Лондоне, взапой занимаясь любовью, то очень ошибаешься. Пару дней общалась с Найджелом, думала, будет забавно. Потом оказалось, ничего забавного. Кажется, у него также сильное отвращение к хлорофиллу. Тухлый тип. В обоих смыслах.
– Ты забрала у него мои вещи из стирки?
– Нет, но это значения не имеет.
Эдвин пристально посмотрел на нее. Никакого преемника Найджела? Раньше она никогда не лгала. И сказал:
– У меня мысли слегка путаются. Мне не хочется говорить, что ты лжешь, но я думаю именно так. Беда в том, что я в данный момент меньше любого на свете могу утверждать, будто происходило то-то и то-то. Не знаю. Но у меня сильное ощущение, что со мной происходили определенные вещи, которых вообще вполне могло не быть.
– Ох, – сказала Шейла, – наркоз, кома. Ты был очень болен. – И тоже пристально на него посмотрела. – Ты меньше всех на свете, как сам верно признал, можешь утверждать, будто кто-то лжет. Знаю, сейчас ты на самом деле не отвечаешь за свои слова. А ложь – грязное слово.
– Я хочу сказать, – сказал Эдвин, – меньше всего на свете мне хочется, чтобы именно ты присоединилась к избранной компании, умалчивающей о моем поведении в те три дня, если тех дней было три. Знаю, я был болен, но все равно хочу отделить от фантазии факты, если была какая-то фантазия. Если, – добавил он, – были какие-то факты. – Казалось, Шейла озадачена. – Вопрос онтологии, – пояснил Эдвин. – Нельзя идти по свету с искаженным понятием о реальности.
– Ох, есть вещи похуже, – сказала она. – В любом случае, ты теперь вылечился. Мне сказали, операция прошла успешно. – Сказала это ровно, без радости, без облегчения.
– Скажи правду, – потребовал Эдвин. – Ради бога, расскажи мне, что было.
– Могу повторить только то, что слышала. Ты отключился, поранился. Решили отложить операцию.
– В какой день это было?
– Ох, откуда мне знать, в какой день? Все дни одинаковые, кроме воскресенья, а воскресенье умудряется стать скучней будней.
– Значит, – сказал Эдвин, – я не видел тебя в постели с другим мужчиной?
– Нет, – сказала Шейла, – определенно не видел. Я никогда не поставлю себя в столь дурацкое положение, особенно после скандала, закаченного тобой в Моламьяйне. Причем на самом деле мы с Джеффом в том случае ничего такого не делали. Тогда я и поняла, что у тебя мозги не в порядке.
– А как насчет близнецов Стоун, котельной мафии, конкурса на лучшую лысую голову Большого Лондона?
– Близнецы Стоун существуют более чем определенно. Конкурс кажется довольно симпатичной идеей. Но что за котельная мафия? Чем она занимается, – чинит котлы?
– Дерьмовые часы толкает, – объяснил Эдвин. – Кстати, я кое-что вспомнил. Как мои собственные часы, или, по твоим словам, часы Джеффа Фэрлава, вдруг умудрились вернуться обратно? Могу поклясться, тот самый Хиппо их украл.
– Точно, – подтвердила Шейла. – Кажется, он их продал мужчине по имени Боб как-его-там, с которым я встретилась в жутком клубе близнецов Стоун. Увидела их у него на руке, получила обратно и принесла сюда, пока ты бродяжничал в воображаемых мирах.
– Как ты их получила обратно?
– Забрала.
– А тот самый Боб спрашивал, не чокнутая ли ты?
– Фактически, да. Откуда ты знаешь?
– Вот что я имел в виду, – с силой сказал Эдвин. – Понимаешь, одна вещь должнабыла быть. Я имею в виду мой захват этим Бобом, который меня заставлял хлестать его кнутом. Не мог я такого вообразить, просто не мог, и все.
– Видно, ты много всякого навоображал, – заметила Шейла. – Когда я приходила с часами, то Чарли с собой приводила, – помнишь, мойщика окон. Вполне возможно, ты что-то все-таки регистрировал, хоть был в мертвой отключке. Я Чарли рассказывала историю про часы.
Неправдоподобно, неправдоподобно. Почему она врет? Почему не поможет добраться до истины? Что пытается скрыть?
– Ну, – сказала Шейла, – если уж тебе так приспичило соприкоснуться с реальностью, лучше я расскажу про свою встречу с Часпером.
– Он, наверно, действительно знает, что я шляпу у него украл, – сказал Эдвин. – Упоминал об этом?
– У него было о чем поговорить, кроме шляп, – сказала Шейла. – В целом стоял вопрос о твоем возвращении в Моламьяйн.
– Непонятно, – не понял Эдвин. – Почему он об этом с тобой говорил? Черт возьми, он мой босс, а не твой. Как вообще ты с ним встретилась?
– А он мне написал, – просто объяснила Шейла. – На отель «Фарнуорт». Помнишь, все должны были знать, где я остановилась. Ближайшая родственница.
– Но ведь тебя выгнали из «Фарнуорта», – заметил Эдвин.
– Меня, – заявила Шейла, – никогда в жизни ниоткуда не выгоняли. За исключением одного раза в церкви в Италии. Потому что я была без шляпы. Правда, я больше не живу в «Фарнуорте», но мы расстались вполне дружелюбно. Время от времени забегаю за письмами. Боже, кажется, в твоей фантазии я играла довольно жуткую роль. – Она прикурила, чуть не сунула сигарету в губы Эдвину, а потом передумала. Стала курить сама, предложив ему другую, скорее, как знакомому, не как возлюбленному; чиркнула для него спичкой.
– Ну, дальше, – нетерпеливо подогнал ее Эдвин. – Что Часпер сказал?
– Он пришлет тебе официальное письмо, по еще не сейчас. Попросил деликатно тебе сообщить, в Бирму ты не вернешься, контракт твой расторгнут по статье 18. О чем я деликатно тебе сообщаю.
– Весьма деликатно, – буркнул Эдвин, – деликатно, как хлыст по спине котельного мафиози. Впрочем, я этого ожидал.
– Правда?
– Когда Часпер увидел меня в общественной уборной, я знал – это конец.
– Если как следует отредактировать, – сказала Шейла, – вышел бы очаровательный заголовок для «Всемирных новостей». Кажется, впрочем, в статье 18 про общественные уборные ничего не сказано. Тебя явно уволили по инвалидности.
– Понятно, – понял Эдвин. – Мне не дали особенных шансов поправиться, правда? По инвалидности, надо же. Ты уверена, что статья 18 не связана с дурным поведением?
– Ты уволен по инвалидности, – повторила Шейла. – Вот что с тобой случилось. Но оплатят больничный за пару месяцев. Считается, видимо, неразумно посылать людей назад в тропики с такой штукой, как у тебя. Ты про дурное поведение говоришь? Ты никакого понятия о дурном поведении не имеешь, дорогой Эдвин. Билабиальные фрикативы не совершают дурных поступков.
– В каком-то смысле совершают, – с жаром возразил Эдвин. – Я хочу сказать, взять хоть ту фонетическую мешанину, которая имеется в Бирме. Билабиальные фрикативы вместо полугласных. Конечно, на определенных исторических фазах развития британского английского все было иначе. Отсутствовало наложение чужих фонемических правил на…
– Вот именно, – вставила Шейла. – Вот именно.
– Ох, – сказал Эдвин. – Да. – А потом молвил: – Больничный за два месяца. А дальше что нам делать?
– Я не знаю, что ты собираешься делать, – сказала Шейла. – Лично я вернусь в Бирму.
Эдвин с разинутым ртом таращился на нее, досчитав до пяти. Его сигарета медленно истлела до самых пальцев.
– Не понял, – сказал он. – На какую-то работу? Но у тебя квалификации нет.
– О нет, – возразила Шейла, – квалификация у меня есть. Кажется, по крайней мере, Джефф Фэрлав так думает.
Эдвин держал рот открытым, досчитав до семи. И сказал:
– Но ты не можешь выйти за Фэрлава замуж. Я тебе не позволю, развода не дам.
– Нет никакой особенной спешки с разводом, – сказала Шейла. – Дашь раньше или позже. Дашь, знаю. Не так уж тебе надо быть рядом со мной. Тебя, фактически, интересуют только билабиальные фрикативы, полугласные и прочая белиберда.
– А тебя Фэрлав сильно интересует? – Уголек сигареты коснулся кожи. – Чтоб тебя разразило, – сказал он, и пепел рассыпался по всей постели.
– Вполне, – сказала Шейла. – И Бирма меня тоже интересует. Климат нравится. Народ нравится. А еще нравится перспектива не быть больше неверной женой. Знаешь, не такой уж подарок – спать с билабиальным фрикативом.
– Может, заткнешься, – сказал близкий к слезам Эдвин, – насчет билабиальных фрикативов? Ты ко мне несправедлива, жестока. Знаешь, я еще не совсем хорошо себя чувствую. Тебе просто плевать, всегда было плевать.
– О нет, – сказала Шейла, – не было. Пока на дороге не встали билабиальные фрикативы. Извини. Ну, тогда полугласные. Фокальные взрывные. Ретрофлексия чего-то там такого. Жизнь, где правят закон Вернера и закон Гримма. Видишь, весь жаргон мне известен. Теперь, наверно, придется изучать жаргон хозяина тиковой плантации. Только не думаю, будто он тащит тиковое дерево с собой в постель.
– Ты всегда говорила, – медленно вымолвил Эдвин, – что есть только один тип неверности. Когда просто не хочется быть с человеком, которого якобы любишь. Ты говорила, что нет ничего хуже этого.
– Ох, все наши идеи меняются, – сказала Шейла. – Но все равно скажу, именно в это я сильно верила. Но когда личность перестает быть личностью, что тогда делать? Я не считаю себя обязанной любить кучу фонем, или как ты их там называешь. Куча билабиальных фрикативов – это ведь просто неодушевленный предмет, да? Нельзя любить неодушевленный предмет.
– Может быть, ты права, – признал Эдвин. – Странно, вчера я почти решил тебябросить. Из-за ощущения, что ты меня бросила. Из-за страшного физического удара, который мне продемонстрировал, что тебе чертовски плевать на меня. Наверно, я этого заслуживаю в каком-то смысле. Но я решил стать другим, или постараться стать другим. За последние несколько дней я столкнулся со словами, как таковыми. И кажется, соприкосновение с жизнью сделало меня лжецом, вором, распутником, сутенером, мошенником, беглецом. Но, по твоим словам, этих нескольких последних дней просто не было.
Значит, я по-прежнему тот же. Вот именно. Но именно тебя я искал в те последние дни. Везде тебя искал. Фактически, не имеет значения, было все это в действительности или не было, правда? Даже воображаемый поиск тебя говорит о любви, правда? Я люблю тебя, вполне в этом уверен. И могу стать другим.
Шейла печально качала темной головой.
– Не думаю, что тебе надо становиться другим. Ты вроде машины, а мир нуждается в машинах. Ты как рентгеновский аппарат или какой-то прибор для электроэнцефалографии, на который ты жаловался. Тебя можно использовать. Но мне машина не нужна. В любом случае, не для того, чтоб с ней жить и ложиться в постель.
– Все мы должны делать что-то на этом свете, – сказал Эдвин. – Всем надо на жизнь зарабатывать. На мои билабиальные фрикативы и минимальные пары куплены твои украшения из жадеита и бутылки джина. – Речь его была мягкой. – Просто так, к сожалению, вышло, что способ заработать на жизнь доставляет мне наслаждение. Видно, женатому мужчине кощунственно слишком радоваться своей работе. Больше я такого греха не совершу.
– Это вообще твой единственный грех, – вполне дружелюбно заметила Шейла. – Но так вышло, что для меня это грех непростительный.
– Я больше не буду, – пообещал Эдвин. Пауза. – Поэтому теперь у тебя будет шанс хранить настоящую верность. Больше никакой казуистики насчет разделения брака на физический и духовный, которые никогда не сливаются воедино. Так или иначе, возможно, этот самый Фэрлав не окажется столь терпеливым, как я. Возможно, ему не понравятся твои заходы с другими мужчинами время от времени. Если ты, – рассуждал Эдвин, – будучи моей женой, развлекалась со всякими типами вроде Фэрлава, с кем будешь развлекаться, выйдя замуж за Фэрлава?








