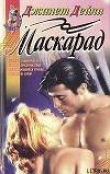Текст книги "Имя мое — память"
Автор книги: Энн Брешерс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
Шарлоттесвилл, Виргиния, 2008 год
Дэниелу удалось найти в режиме онлайн ее последнее и самое позднее местопребывание. Через пару месяцев ее жизнь вновь станет непредсказуемой. Видимо, она окончит колледж. Он не знал, что станет делать потом, и ему было неловко спрашивать. Увидев ее имя, набранное мелкими буквами на ярком экране, он очень обрадовался, что само по себе было грустно. А то, что он получил большое удовольствие, переписывая ее имя и адрес на листок бумаги аккуратным почерком, тоже представлялось абсурдным. Даже не ее настоящее имя, а то, которое у нее было сейчас. Это означало, что она живет в том же мире, что и он. Она находилась там, где он ожидал ее найти. Она была в безопасности.
Испытываемая им грусть отличалась от той тревоги и того отчаяния, которые он ощутил, снова потеряв ее.
Иногда Дэниел чувствовал, что его жизнь стала чересчур простой и жалкой. Он был счастлив, когда она была у него перед глазами, и беспокоился, когда исчезала. А исчезала она иногда на сотни лет. Если Дэниел знал, в какой она точке света, даже если не прикасался к ней, то испытывал глубокое удовлетворение, при этом немного презирая себя за то, что довольствуется малым.
«Я могу ее увидеть, – твердил он себе. – Я знаю, где она. Если захочу, я могу отыскать ее».
Слабое утешение. Это была та его особенность, которой он не доверял. Опасность столь долгой жизни, когда знаешь, что будешь возвращаться вновь и вновь, в том и состоит, что отсрочиваешь свою жизнь, и выходит, словно совсем не живешь. Именно так и могло быть.
Вот почему Дэниел три раза за прошедшее лето проезжал мимо ее дома в Хоупвуде и не остановился, чтобы постучать в дверь. Вот почему он в ноябре прошлого года мерз на скамье у общежития, но не окликнул ее, увидев, как она пробегает мимо. Вот почему вечерами, перед тем как лечь спать, он просматривал ее «Фейсбук» в поисках фотографии или обновления информации о ней, но не раскрывал, что именно он ее друг.
И хотя листок бумаги делал его счастливым, этого было недостаточно. Прежде чем сесть в автомобиль и поехать обратно в Шарлоттесвилл, Дэниел полторы недели носил его с собой.
Он на день отпросился с работы. Надел мягкую фетровую шляпу, которую хранил с сороковых годов прошлого века. На нем были солнцезащитные очки, два дня назад купленные в магазине «Таргет». Ему казалось, следует постараться быть неприметным, но вскоре он сообразил, что больше похож на карикатуру человека, стремящегося быть неприметным. Дэниел спрашивал себя, не хочет ли он быть замеченным. Если и не она его заметит, то кто-нибудь, знакомый с ней, и он, может, скажет ей вечером или на следующий день: «Помнишь того чудака из школы? Дэниел. Я недавно видел его в кампусе».
Что она об этом подумает? Подумает ли она об этом вообще?
Дэниел ждал ее на скамье у тропинки, тянувшейся мимо ее общежития. Судя по карте, именно по этой тропинке она ходила на занятия. Он держал перед собой газету, не видя в ней ни строки. Из него вышел бы плохой сыщик, подумал он.
Каждый человек заставлял Дэниела вздрагивать. После первого часа ожидания он успокоился. Наверное, организм освободился от запаса адреналина.
Через два часа он стал сомневаться в самом ее существовании. Было даже удивительно, что ему, прожившему миллионы часов, два из них могли показаться столь долгими. Когда она наконец пришла, он едва ее не пропустил. Она была не такой, как прежде. С ней не было стайки щебечущих подруг. Голова у нее была опущена, и взгляд устремлен в себя, поэтому, глядя, как она проходит мимо и удаляется от него, Дэниел не сразу узнал ее. Это была ее походка, неуловимым образом напоминающая ее поступь в прошлых жизнях, но более медлительная и отрешенная от окружающего мира. Сзади ее темно-красной вельветовой куртки свисал кусочек подкладки и болтались короткие нитки. Смотреть на это было грустно.
Дэниел поднялся и двинулся вслед за ней на безопасном расстоянии. Ее легкие скользкие волосы были небрежно перехвачены наверху резиновой лентой. Часть волос выбилась из-под ленты и торчала в разные стороны, чего с ней раньше никогда не бывало как в этой жизни, так и в прошлых. С плеча свисала сумка. Кто-то бросил на тропинку мяч, и Дэниел вздрогнул, а она едва его заметила.
Он дождался окончания занятий у Брайан-Холла, а потом пошел вслед за ней по красивой петляющей дорожке через сад, мимо ротонды, в сторону библиотеки. Поднялся за ней на второй этаж, стараясь соблюдать дистанцию, пока она шла к одному из тихих учебных кабинетов, отделенному стеклянной перегородкой. Дэниел мог бы войти туда и остаться незамеченным. Хотя искушение было велико, но он сдержался. Ему мешала к ней приблизиться ее отстраненность. Люди часто применяли к нему слово «отстраненный».
Дэниел прошел мимо классов, где сидели студенты, глядя на экраны компьютеров. За окном виднелось чудесное ясное небо. Стояла, пожалуй, лучшая погода, какая бывает в Шарлоттесвилле, но тем не менее окна были занавешены, и все эти крепкие студенты, цвет рода человеческого, склонились над экранами. По непонятной причине он вдруг вспомнил оливковые рощи на Крите во время праздника урожая, ритмическое покачивание множества молодых прекрасных тел. Подумал о том, как кипела молодая кровь на палубах судов, возвращавшихся в Венецию, о том, какое количество детей зачиналось и сколько болезней передавалось в первые ночи на родном берегу. Дэниел вспомнил кампус университета в Сент-Луисе конца сороковых годов прошлого века, вечеринки и пледы, расстеленные на лужайках в солнечные сентябрьские дни. Можно было бы подумать, что современное поколение более прилежно в учебе, чем предыдущие, но при беглом взгляде на экраны компьютеров оказалось, что студентов интересуют в основном «Фейсбук», «Ютуб» и сайты с новостными блогами. «Вам следует чаще выходить на улицу», – хотелось ему сказать.
Дэниел нашел стол, откуда она была ему видна. Она так и не открыла сумку и не достала книги, а сидела, прижимая сумку к коленям и устремив взгляд в окно.
Вскоре сгустились сумерки. Ее печальное лицо казалось ему прелестным. В чем причина печали? Если бы иметь хотя бы малейшую уверенность в том, что его вмешательство может стать для нее благом. Дэниел сделал первые робкие шаги к взаимопониманию, сознавая, что они могут завести далеко, но, куда именно, не понимал.
Хотелось видеть ее и находиться рядом с ней. Он боялся потерять ее из виду. Но его одолевала неуверенность – Дэниел не знал, как найти к ней подход. Он разучился это делать. Что он мог бы ей предложить? Долгую и счастливую жизнь? Он никогда не жил долго, часто находил способы преждевременно прервать жизнь, но даже и без этого очень долго он не жил. А счастье? На его долю выпало немного счастья – в основном с ней. В этом он тоже не был силен. Дэниел мог черпать счастье в общении с ней, но был ли он сам в состоянии дать ей хоть толику счастья?
А как насчет детей? Дети являются естественной и весомой составляющей долгой и счастливой жизни, и в этом он тоже не преуспел. Дело не в том, что Дэниел не был силен в сексе – на это он был вполне способен, вероятно, даже превосходил многих, хотя в последнее время ему мало доводилось им заниматься. Но он жил в мире свыше тысячи лет, в большинстве жизней достигая половой зрелости, и занимался сексом, когда представлялся случай. И хотя все это происходило в основном в эру, предшествующую контролированию рождаемости, у него никогда не было детей, чего он не мог себе объяснить.
Казалось, многим это удается часто и без усилий. Только подумайте обо всех случаях, когда парень забирается на заднее сиденье автомобиля с девчонкой, фамилии которой даже не знает, и вдруг – он снова отец. Обладают ли эти мужчины достоинствами, которых нет у него?
Дэниел убеждал себя, что, возможно, стал отцом нескольких детей, но просто не знает об этом. Но по-настоящему он в это не верил. Было достаточно примеров, когда он узнал бы, случись это. Суть была не в том, что он чего-то не сделал, а в том, что был не в состоянии это сделать. А почему, Дэниел не знал.
Когда-то давно он полагал, что воплотится в теле с парой исправно работающих яичек, вырабатывающих живую сперму. К тому времени он понимал, что наверняка ими обладает. Проблема заключалась не в половых железах. Проблема была в нем, в том необъяснимом воздействии, какое он всякий раз оказывал на свое тело.
Видимо, проблема в памяти. А если она каким-то образом передается по наследству? Может, Бог осознал свою ошибку и не сумел полностью устранить ее, но принял меры, гарантирующие, что она не повторится.
Дэниел встал и подошел к стеклу, отделяющему его от нее. Приложил к стеклу ладонь, потом коснулся лбом. Если сейчас она поднимет голову, то увидит его. Вероятно, она его узнает. Если сейчас она поднимет голову, то он подойдет к ней. Если не поднимет, то он оставит ее в покое.
«Не поднимай голову».
«Пожалуйста, подними голову».
Дэниел вспомнил, как видел ее на том ужасном вечере. Вспомнил, как всегда, со стыдом. Тогда он принес ей лишь страдание. В состоянии ли он сейчас предложить ей нечто лучшее?
Пока она сидела там, он все смотрел на нее до тех пор, пока не стемнело за окнами, но она так и не подняла головы. Он не подошел к ней, а стоял, обуреваемый собственными проблемами.
Он много думал о ее спокойствии, но забыл подумать о ее счастье.
Фэрфакс, Виргиния, 1972 год
Мне все-таки удалось умереть естественной смертью в битве при Кхе-Санх весной 1968 года. Ближе к концу той жестокой осады, перед тем как операция «Пегас» в апреле добралась до базы, я был убит артиллерийским огнем.
Вслед за тем я родился в семье учителей из Тускалусы, штат Алабама. Наш дом стоял около большого пруда, куда прилетали на зимовку гуси. Родители моей матери, дед и бабка, жили у дороги неподалеку от нас.
В 1972 году, когда мне было четыре года, мы переехали в Фэрфакс, штат Виргиния. Моего отца назначили школьным инспектором. Я помню, как мне было грустно прощаться с гусями и моими стариками, особенно дедом Джозефом, который любил авиатехнику не меньше моего.
Мы с двумя братьями спали в одной комнате, и поскольку на сей раз мне посчастливилось быть старшим, то я задавал тон нашим потасовкам. С одним из братьев я служил в Первую мировую войну. А другой был таким непоседой, что за ним было не уследить, и отличался необыкновенной изобретательностью, особенно когда дело доходило до хлопушек.
Моя мать в предшествующей жизни была моей учительницей в первом классе, и я полюбил ее за голос рассказчицы, домашний сок и печенье. Она читала научно-фантастические романы и выращивала великолепные георгины. Она была замечательной матерью, одной из моих самых лучших. Когда она чесала мне спину или рассказывала нам на ночь сказки, именно это я и думал: «Ты одна из моих самых лучших».
Через несколько месяцев после нашего переезда в Виргинию случилось одно поразительное событие. Мы сидели в церкви, все пятеро. Помню, младший брат был еще младенцем. Я смотрел на свои мокасины, болтавшиеся примерно в футе над полом. Пролистывая молитвенник, я читал отрывки на латыни. Это один из характерных стыков моих жизней, когда я начинаю в ускоренном темпе вспоминать и осмысливать свои прошлые жизни. Пока мы не оказались в этой церкви, я не помнил, что знаю латынь, поскольку в наших молитвенниках в Алабаме латыни не было.
На скамье рядом со мной было много свободного места, а чуть поодаль сидела женщина лет пятидесяти, и рядом с ней, с другой стороны, еще одна. Я решил, что это ее мать. Я внимательно посмотрел на более молодую женщину: седые волосы и темно-синее платье с узким пояском, чулки и практичные коричневые туфли со скругленным мысом. У нее был несколько мещанский вид, но меня привлекла сеточка вен на тыльной стороне ее руки – таких голубых и сильно выдававшихся. Захотелось их потрогать и узнать, мягкие они или нет. Я пододвинулся к ней.
Мой маленький брат Рэймонд начал повизгивать, и дама повернула голову. Я ожидал увидеть на ее лице досадливое выражение, какое часто бывает в церкви у седовласых людей, когда принимается плакать ребенок, но ее розовое лицо выражало благожелательность.
И вдруг я сообразил, что знаю ее. Я лишь приближался к возрасту узнавания людей из прошлых жизней, однако началось это пару лет назад, до того, как мне стала сниться София.
У меня возникло ощущение, будто голова моя очень медленно взрывается. Женщина снова стала смотреть вперед, а мне отчаянно хотелось видеть ее дольше. Моя мать стала поспешно пробираться к концу ряда с Рэймондом на руках, а потом отошла к выходу из церкви, чтобы ребенок не мешал своими криками прихожанам. Я скользнул поближе к даме. К тому моменту, как она взглянула на меня, я был практически у нее под мышкой.
Помню свое изумление четырехлетнего ребенка. Это была София. Водянистые печальные глаза, обвислая кожа в пятнышках. Я вспомнил о ней, какой видел в последний раз, когда она была Констанцией. Тогда она была такой молодой и хорошенькой, а теперь – нет, но я знал, что она осталась прежней. К изумлению примешивалось смущение, и лишь через несколько минут я догадался, в чем дело. Размышляя о себе, каким я был несколькими годами раньше, до своей смерти, когда работал врачом, я вспомнил, что ожидал встретить ее либо очень старой в облике Констанции, либо совсем молодой – как я или даже моложе – и в новом облике. Я не думал, что она может оказаться в облике женщины, но только не Констанции.
«Ты по-прежнему Констанция?» – сомневался я. Для меня проще было признать в ней Софию, чем пытаться выяснить, является ли она по-прежнему Констанцией, но я был почти уверен, что она не Констанция. Поэтому я пытался уяснить себе, как это произошло. При всем совершенстве моей памяти смущенному разуму четырехлетнего ребенка сложно было воспользоваться ею в полной мере.
Когда тебе четыре, легко забыть, где твое тело и где оно должно находиться. Предаваясь размышлениям, я незаметно прижимался к ней. Когда до меня дошло, что я давлю на нее, я поднял голову и увидел, что она по-прежнему смотрит на меня. Если я был смущен, то и она тоже. Если я размышлял, то и она тоже. В тот момент я считал, что, вероятно, это объясняется тем, что она меня тоже узнала. Но, скорее всего, была смущена тем, что незнакомый четырехлетний мальчуган залез ей под мышку.
Женщина смирилась с моим присутствием, обняв меня одной рукой. Я заметил, что отец, не менее смущенный, вытягивает шею в нашу сторону. Потом увидел, как она кивнула ему, словно говоря, что все в порядке.
Женщина прижала меня к себе, и я расслабленно привалился к ней. Затем она положила ладонь на мой пухлый животик.
Я был несколько разочарован, но, испытывая физическое удовольствие находиться рядом с ней, едва ли не подчинялся чувству долга по отношению к своим прежним взрослым «я» и будущему взрослому «я». Это всегда проявлялось у меня рано – бессловесное чувство преданности моим прежним «я». В этот раз София должна была быть маленькой, как я, а не старой и большой, и мне хотелось знать, почему так случилось.
– Наверное, в прошлый раз ты должна была умереть молодой, – уткнувшись носом ей в ребра, произнес я.
Разумеется, в этом было разочарование. Но мне было четыре, и она обнимала меня, а когда тебе четыре, телесное удовольствие почти не страдает от неудовлетворенности разума.
Я дотронулся до вены на ее руке, и она оказалась такой мягкой, что исчезла под моим пальцем.
Мы посещали ту церковь в Фэрфаксе примерно еще год. Я находил Софию и всякий раз торопился сесть рядом с ней. Мои родители называли ее моим особым другом и однажды пригласили ее после службы к нам на лимонад, но она, поблагодарив, отказалась, объяснив, что ей надо проводить мать домой.
В конце концов Молли, моя мать, устала от сексистских, как она выражалась, проповедей в той церкви. Она нашла в Арлингтоне нетрадиционную церковь, в которой священник распевал проповеди под акустическую гитару. Припоминаю, там было много песен из мюзикла «Годспел». Я, конечно, предпочитал новую службу, но очень горевал, что не вижу Софии. Думаю, отец испытывал неподдельное облегчение. Он считал мою привязанность к ней весьма странной. Мои суетливые попытки найти ее телефонный номер не нашли сочувствия у взрослых. Я называл ее Софией, но, когда дело дошло до того, чтобы отыскать в толстой телефонной книге ее номер, я сообразил, что не знаю ее настоящего имени.
Когда мне было девять лет, я ездил на автобусе в старую церковь. Я делал это каждое воскресенье в течение двух месяцев, но женщина туда больше не ходила. Я увидел ее только в 1985 году, когда мне было семнадцать лет.
Дед по материнской линии, Джозеф, был при смерти. Молли, моя мать, решила поместить его в хоспис поблизости от нашего дома. Некоторое время назад ее мать скоропостижно скончалась от сердечного приступа, и Молли хотела иметь возможность ухаживать за отцом. Я ходил с ней навещать деда, движимый скорее не своим состраданием к нему, а состраданием к нему моей матери. Весь дом был заполнен ее горем. Я помню, как думал: «Все в порядке. Не так уж это страшно. Его место займет кто-то другой». И все-таки вопреки тому, что я постоянно твердил подобные слова, они не казались правильными. То, что я живу уже очень долго и многое храню в памяти, позволяло мне надеяться, что я разбираюсь в подобных ситуациях лучше Молли, но это было не так. По сравнению с Молли я ничего не знал о любви.
Я продолжал размышлять о том, что Лора, которую я встретил на детской площадке в Джорджии, казалась ее матери вполне обычной. Меня это поразило и опечалило. Я нередко задумывался о том, какую роль играю в жизни других людей. Каждый раз я жаждал играть свою роль; прочие лишь сменяли друг друга в эпизодических ролях. Потому что они забывали, а я помнил. Они вскоре исчезнут, а я продолжу свой путь. Лучшее, что я мог сделать, – держаться за них после того, как они позабудут сами себя.
Дело не в том, что я не исполнял свой долг; я его исполнял. Я заботился, чтобы мои матери – все, за исключением немногих, которые бросили меня или умерли до моего взросления, – имели еду и основные удобства. Я позаботился о том, чтобы за ними ухаживали в болезни и старости. Более чем кто-либо другой, я тратил на них накопленные деньги. Но я не задумывался о чем-то большем. В такой жизни, как у меня, приобретаешь много матерей, но и теряешь много. Не слишком ценишь то, что имеешь, но плохо переносишь потери. После первых нескольких потерь я научился лучше с ними справляться. «Одна мать из многих», – всегда говорил я себе.
В горе своей матери я усмотрел то, как сильно она любила своего отца. Любила не потому, что он являлся ее отцом, она любила именно его. Ценила за доброту, проявленную к ней, за то, что отец посвящал ей много времени. В том, как мать любила его или любого из нас, не было ничего отвлеченного. «Со временем ты позабудешь о нем», – думал я, но в глубине души знал, что это не так.
Во время второго посещения хосписа я случайно заглянул в палату, находящуюся поблизости от палаты Джозефа, и увидел высоко лежащую на подушках очень больную женщину. Я сообразил, что знаю ее. Это была София. Никогда не видел я ее в таком состоянии. Она выглядела примерно так, как в нашей старой церкви, но была больной и постаревшей. Попрощавшись с дедом, я вернулся в ее палату.
Я сидел рядом с ней, держа ее за руку. Она открыла глаза и взглянула на меня. Я знал, что эти слезящиеся глаза принадлежат Констанции или Софии, но мне не хотелось видеть их такими. Какая-то частичка моего существа словно старалась загипнотизировать само это горе. У меня возникло странное ощущение, будто я поднимаюсь и удаляюсь прочь, пока все предметы не становятся меньше и меньше и я не начинаю видеть большие узоры вместо мелких разрозненных частей.
«Ты не останешься такой надолго. Скоро ты вновь станешь молодой и сильной», – мысленно говорил я. Это было не ради нее, а ради меня.
Я навещал ее еще два раза и сидел рядом с ней, разговаривая обо всем на свете. Думаю, говорил в основном я, но она была счастлива от моего присутствия. Один раздражительный санитар сказал мне, что она по нескольку раз на дню спрашивала, приду ли я еще. Он сообщил, что у нее нет детей и внуков.
В один из дней она показалась мне более настороженной, чем обычно, и смотрела на меня как-то странно.
– Вы меня помните? – спросил я.
– Помню, был кто-то с твоим именем.
– Правда?
– В давние времена.
– Кто-то, кого вы знали?
– Не то чтобы знала, нет. Я его ждала. Мама говорила, что я глупая, и так оно и было.
– Что вы имеете в виду?
– До того как умер мой отец и мы переехали на восток, я росла в Канзас-Сити. Мы хорошо проводили там время. Много вечеринок, разных планов. У меня была романтичная душа, но мать утверждала, что мое воображение заменяет мне любого из парней. Это было для нее разочарованием.
Теперь я стал понимать, что ее одиночество происходит не только от старости. До моего сознания начала доходить ее подлинная сущность. Все те годы, когда я пытался найти Констанцию, представляя, что она живет где-то за океаном, она росла, как и я, всего лишь в двух сотнях миль от меня. Я вспомнил о голубе по кличке Щеголь. Я не смог отыскать ее, потому что она умерла.
До меня не доходила эта трагедия во всей полноте. Я был подростком, таким же эгоистичным, как двухлетний ребенок. Хотел, чтобы она вернулась вместе со мной, и она вернулась. По крайней мере, пыталась. Я ждал ее, и она находилась рядом, ожидая меня. Так что, на свой манер, она помнила.
Постаревшие глаза Софии наблюдали за мной, и я отвернул от нее лицо. Она даже не знала всего того, что мы потеряли.
– Он тоже вас ждал, – промолвил я.
– Я всегда была глупой.
Я пробыл в ее палате допоздна, пока меня не выставили после десяти вечера. Мысли в голове так и бурлили.
Вернувшись на следующее утро, я стал рассказывать ей давние истории. Часами держа ее за руку, я рассказывал о нашем путешествии через пустыню, о Первой мировой войне, о том, что она была хозяйкой Хастонбери-Холла, как его превратили в госпиталь и она стала за мной ухаживать. Я называл ее Софией и говорил, что люблю ее. И всегда любил. К тому времени она уже уснула, но мне необходимо было, чтобы она знала. Я боялся, что на сей раз потеряю ее раз и навсегда.
К концу третьего посещения я знал, что сделаю.
– Не волнуйтесь, – произнес я. – Я тоже уйду. Мы вернемся вместе.
Именно это она хотела сделать раньше, когда была Констанцией, но я сказал тогда «нет». На сей раз мы должны были это совершить. Ее жизнь заканчивалась, а моя только начиналась. Я был тот, кто мог бы проводить ее в иной мир. Так было бы легче.
– Это наш шанс, – объяснил я.
Мне было жаль отказываться от такой жизни, особенно жаль из-за моей матери Молли. За короткий промежуток времени она должна была потерять отца и сына, и я понимал, что для нее это окажется губительным. Но я применял стратегию противодействия потерям, которая не предполагала много размышлений.
Мне хотелось бы сказать Молли, что именно в этом состоит мое желание и скоро я вернусь. Заставить поверить ее в то, что все хорошо. Но какой-то голос у меня в голове нашептывал другие слова: «Она любит тебя. Она не хочет терять тебя».
В душе я понимал, что так оно и есть, но мне удалось проигнорировать эти мысли. Я был молод, глуп и очень спешил вновь быть с Софией. Как еще мог бы я это сделать? Удивительно, какие вещи мы подчас считаем само собой разумеющимися.
Я противился любви Молли. У меня даже хватало наглости полагать, будто я в этом преуспел. Сложно, переходя из жизни в жизнь, привязываться к одному человеку. И сложно заставить любимого человека всякий раз забывать себя. Возможно, Бен был в состоянии удерживать любовь множества людей, а я с трудом мог привязаться к одному.
Зимним вечером накануне своего восемнадцатилетия я отправился в одно печально известное место округа Колумбия. Я нечасто вспоминаю об этом вечере, но, признаюсь, вспоминаю о том, что произошло накануне вечером. Пожалуй, впервые за долгое время я всерьез задумался о чувствах матери и попытался попрощаться с ней. Не стану описывать то, что она говорила, и то, что я при этом чувствовал. Недаром Уитмен писал о чувствах матери, «перед которыми так ничтожно все лучшее, что я могу сказать».
Я не слишком преуспел в проживании значимых жизней, однако, когда это возможно, стараюсь сделать значимыми свои смерти. Стремлюсь, чтобы они хоть немного послужили во благо какому-то человеку или делу, но на сей раз я был слишком молод, очень спешил и не придумал ничего лучше, как напугать до смерти нескольких наркоманов.
Я пошел к тому месту недалеко от Ди-стрит, где иногда слушал музыку. Нашел комнату в закутке, куда приходили наркоманы. Не курильщики марихуаны, а серьезные клиенты. Чтобы произвести впечатление, я принес достаточно денег. Разыскал одну наркоманку, ужасного вида женщину лет тридцати, по руке которой можно было прочесть ее историю. Я обещал, что куплю ей тоже, если она найдет для меня лучшее, самое сильное зелье. Она полагала, что я к такому привык, и я не стал разубеждать ее. Приготовив иглу, женщина в возбуждении стала накладывать мне на руку повязку.
Это был единственный раз, когда я попробовал героин. Умереть от него означало никогда больше не начинать. Возможно, совершив это, я прогневил судьбу. Это не было самоубийством, но подходило к нему очень близко. Я сжульничал, постарался уклониться от него с помощью технического приема. Надеялся, что мое горячее желание воссоединиться с Софией поможет мне быстро вернуться, и, слава богу, так и случилось. Я не стремился к смерти, и осознание этого пришло в мой последний миг. Я очень хотел жить.
Но когда природа предлагает вам один из своих истинных даров, а вы бездумно отмахиваетесь от него, то подвергаетесь особому наказанию. Я вернулся назад, но, если поверить в это, можно объяснить, почему в следующей жизни мне досталась такая мать.