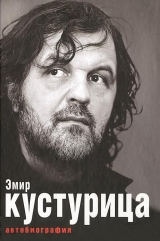
Текст книги "Смерть, как непроверенный слух (ЛП)"
Автор книги: Эмир Кустурица
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
В тысячу девятьсот девяносто втором, 29 сентября, в Херцег Нови умер мой отец. Скорбную эту новость узнал я странным образом. Мирослав Чиро Мандич, режиссер, некоторое время живший у нас в Париже, разговаривал с Майей. Она позвонила в Нью-Йорк, чтобы сообщить мне скорбную весть, но, не сказав еще «Алло!», не подозревала, что связь уже установлена и я все слышу.
Как раз в тот момент Майя советовалась с Чиро, сообщить ли мне сразу, что Мурат умер, или сделать это по приезду в Париж? Новость эту я переносил, замкнувшись. Сидел до самого рассвета и курил свою последнюю пачку сигарет. Где-то после полуночи ко мне присоединился Момчило Мрдакович. Нервозный любитель и работник кино, мечтавший, уже в преклонном возрасте, снять свой первый игровой фильм. Он идеально подходил к тому, чтобы в тяжелую минуту оказаться под рукой. Принес он с собой бутылку ракии и два стаканчика. Разлили мы ракию и выпили за упокой моего отца. Завтрашние лекции в Университете были отменены и на доске объявлений написано: No class today, Emir`s father passed away.
Когда мы со Стрибором пришли на Норвежскую 8, в дом, где теперь жила одна моя мама, на стеклянных дверях, ведущих во двор, висела смертовница [39]с пятиконечной звездой, именем и фотографией Мурата Кустурицы. Это зрелище было только первым шагом к окончательному осознанию смерти моего отца. Когда у тебя умирает близкий человек, время не течет обычным образом. И сам ты, в то самое мгновение, когда слышишь эту новость, немного умираешь. Хуже слышишь, тише говоришь, становишься чем-то вроде едва горящего уличного фонаря, от которого непонятно, есть ли вообще какой-нибудь свет. И только добравшись до места похорон, только тогда ты снова, не желая быть мертвым, полностью оживаешь.
Стрибор посмотрел на фото своего деда и спросил:
– Кончится ли это все когда-нибудь? – имея в виду несчастья, обрушивающиеся на нас одно за другим, а я ему ответил:
– Хоть и кажется что нет, лучше так не думать, ведь это не может продолжаться бесконечно.
Подумал я, как же тяжело приходится Стрибору. Хотелось мне как-то его утешить и развеселить. Так же, как когда-то мой отец успокоил меня, когда я сам впервые увидел мертвеца. Развеял тогда отец страх смерти перед моими глазами с той же легкостью, с какой могучий северный ветер разгоняет на небе облака. Воспоминание об этом потом, когда было необходимо, укрепляло мою раненое сердце. Если про смерть можно сказать, что она «непроверенный слух», то эта лучшая анестезия, обезболивающая ужас конца человеческой жизни.
То, как отец умалил смерть, сведя ее на уровень газетного афоризма, снова и снова приходило мне в голову, вместе с воспоминаниями об отцовском остроумии и его радостном, герцеговинском характере, возвращая мне присутствие духа. Неважно, насколько тяжел свалившийся на тебя груз, главное, не надо тащить его на своих плечах. И хорошо иметь отца, способного объяснить, как совладать с тяжестью постигшего тебя несчастья.
Из какого источника мой, ныне уже покойный, отец черпал теплоту и нежность, откуда родом было его заразительное очарование, благодаря которому в друзьях у него ходила половина Сараево? Как стал он важнейшим столпом, поддерживающим здание моей жизни? Родителей его я едва помнил. Но их история и есть тропинка, ведущая прямиком к источнику и запруде, которые я стремился обнаружить.
Муратов отец Хусейн Кустурица был в Травнике важным судейским чиновником, человеком, который, с отточенным карандашом и в черных нарукавниках каждое утро точно в семь часов отправлялся в суд. И точно в пол-десятого, когда в суде наступал перерыв, возвращался домой и готовил кофе с завтраком для своей эфендиницы [40]. Это было неслыханным примером мужской эмансипации не только для Травника, но и для Вены. Жили они на одну его зарплату, и жили в достатке, благодаря исключительному трудолюбию чиновника Хусейна. В конце концов из суда он вышел на пенсию. Тщательно ухаживал он за огородиком возле дома в травницкой Потур-махале, видимо, чтобы уменьшить расходы. Была это одна из немногих травницких семей, из которой все младшее поколение ушло в партизаны, а тетка Биба и перед войной была членом СКЮ. Отец в самом начале Второй мировой войны убежал вслед за своей сестрой в лес и присоединился к народно-освободительному движению. Если б он не сделал этого, то пострадал бы от чернорубашечников, из-за которых вынуждена была убежать и тетка. Проводил он свою сестру и стал думать о том, что скоро пора и ему в леса. Ушел в партизаны и стал бойцом Первой краинской народно-освободительной бригады. Мой отец и его сестра прошли в той боснийской провинции сквозь историческое решето. Мало кто готов был встать на сторону «ненормальных сербов, которые опять начали воевать с немцами». В том числе и другая их сестра Лала скептически смотрела на эту их политическую деятельность, но делала все, для того, чтобы об их довоенных революционных акциях, о которых ей было известно, не узнал никто другой. Большинство боснийской райи [41]не имело особой склонности к революционным и, тем более, социалистическим идеям. Мурат с Бибой, встав на сторону пострадавших, выразили свою склонность к левым идеям и своим сербским корням. Поэтому-то, принадлежа к армии-победительнице, оба они в конце Второй мировой войны праздновали победу над фашизмом по другому, чем большинство, лишь в конце войны переметнувшееся на сторону победителей. Они-то на этой стороне были всегда. Мурат получил образование в Иисусовой гимназии в Травнике. Там он получил много расширивших его горизонты знаний, но одновременно именно там церковная идеология, посчитавшая усташскую оккупацию исторической закономерностью, полностью отвратила его. Часто Мурат, варя на кухне яйца, читал на латыни: Отче наш, иже си на небеси – и так отсчитывал, короткой или длинной версией «отче наш», будет ли сварено яйцо всмятку или в крутую.
После окончания Второй мировой войны, тетка Биба переселилась в Билград, как называли ее родители столицу ФНР Югославии. Вышла замуж за Славко Комарицу, который вскоре стал послом ФНРЮ в Швейцарии. Тетка была счастлива, что может теперь устраивать незабываемые приемы. Молодая травничанка наслаждалась тем, что в ее квартире собираются теперь важные люди и что она сама, а не только Славко, стала частью такого видного общества. Когда она, в качестве жены посла, переехала в Берн, счастью не было конца. Получила она от государства роскошную шубу и полные карманы денег. Мало того, что она все эти деньги получила, она еще и любила об этом говорить: «Молодец наше государство, все делает, чтобы в мире о нас сложилось хорошее впечатление и никто не мог нас подкупить!»
Когда она развелась и сошлась с Любомиром Райнвайном, тетка с нетерпением и любовью зазывала родителей в Белград, чтобы принять их в своей квартире на Теразие 6. Попытки организовать этот визит были делом непростым. Вроде бы, никаких препятствий не было, потому что видная белградка, работающая в Международном рабочем институте, давно уже послала своим отцу с матерью билеты, купленные со скидкой, благодаря ее почетному ордену. Но эфендиница никак не могла представить себе, как эта она будет ходить по Белграду в старом пальто!? Решить эту, как и все другие в ее жизни, проблему взялся чиновник Хусейн. Он до сих пор с пониманием относился к подобным желаниям жены. Со сбережений, отложенных им на покупку участка на кладбище, о которых жене не было известно, купил он на это пальто сукна. Денег заплатить портному все еще не хватало, и потому было продано радио. Отец прочитал об этом в письме, пришедшем на его сараевский адрес, вместе с посылкой, которую ему ежемесячно высылали мама с папой из Травника. В письме они извинялись, что не могут послать больше одной бутылки оливкового масла, двух килограммов травницкого сыра и двух кило чернослива. Никогда и никому не будет открыта правда о том, как было пошито это пальто и как Кустурицы посетили Белград. Говорят, Кустурица-мать обошла весь дом на Теразие 6, от двери к двери, выпила со всеми соседками по чашечке кофе и совершенно покорила их сердца.
– Настоящей царицей была моя мама! – сказал мне однажды отец. Когда закончилась война, антифашистский женский фронт выдвинул программу борьбы с паранджой и связался с Бибой, ища среди травницких семей поддержку и пригодную для продвижения этой пропагандистской акции женщину. Выбор пал на мать партизанов Мурата и Бибы Кустурицы.
Собравшимся женщинам она убедительно поведала все причины, по которым следовало расстаться с мрачным прошлым. Это было несложно, поскольку она происходила из рода Авдичей. Они, как и Кустурицы, были герцеговинцами, и в их среде так же была распространена борьба герцеговинца и человека. После успешного рассказа о необходимости избавления от паранджи, эфендиница стала одной из первых лиц в Травнике, даже в большей степени чем ее дети, и получила много благодарностей.
– Выбрать бы тебя, Кустурица, в градоначальники, вот это было бы дело!
Между тем, уже на следующий день произошло неожиданное. На базар вышла она покрытая паранджой! Когда перепуганная дочка узнала об этом неожиданном повороте событий, послала она брату телеграмму из Белграда. «Что ты наделала, мама?» – спросил отец, который сразу же примчался в Травник. А она ответила:
– Ну, не знаю, по-моему красиво, когда у женщины видны одни глаза.
– Нельзя тебе так, эфендиница, у тебя же партийное задание, – говорил ей мой отец.
– Да ладно тебе, сынок, нельзя же все так сразу! Немножко носишь, немножко не носишь. Вот как это делается!
На самом деле, вела она бои совсем на другом фронте. В ближайшем от нее соседстве находился дом беговской семьи Вехбие Шахинпашича. Принадлежавшая к нему ее соперница была против снимания паранджи и, так как они с ней боролись за престиж в махале [42], моя бабушка боялась, что из-за этой истории с паранджой потеряет свое влияние на женщин нашей улицы и, когда они соберутся за кофе, не сможет как раньше держать марку. Отсюда и это компромиссное предложение «немножко носишь, немножко не носишь». Умирая в кошевской больнице, за ночь до смерти, она попросила у отца мою подушку, да так и, опершись на нее, и умерла.
Отец умер вместе с любимой страной. Ушел вовремя, чтобы не видеть, как распадается дом, в который он лично вложил не один кирпич и большую часть своей жизни. Фундамент этого дома давно уже разрушали иностранные разведки, нерешенные исторические споры между сербами и хорватами, да еще и те самые умники. Они свое место элиты народа, к которому принадлежали, уступили специалистам по разрушению общего фундамента, а сами все больше предавались размышлением над вопросом, изложенным в заглавии этой главы.
За полгода до отцовской смерти на учебу в Париж приехал Абдулла Сидран. Он рассказывал о невыносимом состоянии дел в Боснии и о мире, который на территорию Боснии и Герцеговины могут принести, по его мнению, только Объединенные Нации. Партизан Первой краинской бригады сказал ему гневно:
– Во Второй мировой войне я боролся за то, чтобы избавить мою страну от иностранного сапога, а ты мне тут ООН в Боснию зазываешь?
Тогда Сидран стал развивать теории, с которыми его собеседник согласиться не смог:
– Первого марта на референдуме о независимости Боснии фактически начаты военные действия. Если у нас треть населения не принимает участия в референдуме и не хочет выхода из Югославии, будет в Боснии война, – на что Сидран ему ответил:
– И все же на референдуме выражено желание большинства граждан Боснии.... – и Мурат, в конце концов, засадил кулаком по столу и завершил разговор о Боснии и Югославии так:
– В крови создана, в крови Югославия и распадется, запомни мои слова!
Теперь мне надо было взять что-то из своих чувств и воспоминаний, чтобы подбодрить Стрибора и на время преуменьшить тяжесть дедушкиной смерти. И, как часто бывает в жизни, добился я обратного. Четырнадцатилетний Стрибор стал утешать меня. Когда мы поднимались по ступенькам на Норвежской 8, он обнял меня и сказал:
– Это ведь как яблоко. Сначала оно цветет, потом появляется плод, который растет, питается соками земли, становится яблоком, выросшим из маленького зеленого плода, наливается цветом. Солнце его купает, дождь его милует, орошает... И вот проходит лето, а яблоко так и висит на своем черенке. Приходит осень, плод мерзнет, яблоко съеживается и, где-то на пороге зимы, черенок резко рвется, сморщенный плод падает на землю, и нет больше яблока.
Хотел Стрибор объяснить мне, что смерть вещь естественная. И только зайдя в херцегновскую квартирку и обняв Сенку, только тогда я осознал, что никогда больше не увижу отца. Смерть близкого человека превращается в великую скорбь именно тогда, когда подходишь к ближайшему свидетелю его смерти, представляющему собой самую сильную, теперь уже символическую, связь между тобой и покойным. Умирая, отец мой кричал:
– Сенка, Эмир, ухожу я от вас! – и мы были в отчаянии о того, что он больше никогда не вернется!
Стрибор заплакал, когда увидел, как мы с Сенкой оплакиваем Мурата, а я наконец нашел способ успокоить сына:
– Твой дедушка не умер, просто отправился на тот свет, отдохнуть от своей доброты, – сказал я, продолжая плакать.
Теннисный локоть.
По горицким холмам, где остались друзья моего детства, волна за волною прокатывались трагедии. Началась новая война. В моем Сараево, в той Горице, которую я знал подошвами. Где на столбах мерцающими отблесками разбитых фонарей еще висит моя тоска, на Черной горе ночными бабочками шелестят мои вздохи, а по крутым ступенькам, на которых я пробовал достичь скорости космонавта и медлительности влюбленного, все так же вприпрыжку скатываются мячи. А я будто и не переставал бегать за ними.
Привычку прогуливаться от Свракина села до городского центра, которой Паша с женой неукоснительно следовали в мирные времена, теперь, во время войны, им пришлось позабыть. Паша был очень огорчен, что больше не удается ему посчитаться с «сексуальными маньяками», жадно пялящимися на задницу его жены, но все ж таки в центр города он выбирался, перебежками, зигзагами, от стены к стене, хоронясь от снайперских пуль. Так добирался он из предместья до центра и Горицы, чтобы поддержать своего друга Ньегу Ачимовича. На сараевских улицах царил хаос, беженцы из Восточной Боснии, изгнанные из своих домов мусульмане Рогатицы и Вышеграда, искали себе новую крышу над головой, в основном, квартиры, чьи хозяева тоже были вынуждены бежать. Часто врывались они и в квартиры тех сербов, кто не успел покинуть город. Быть выставленным на улицу было тем страшнее, что хуже этого была только смерть. Кратчайшей дорогой на тот свет для сараевских сербов могла стать случайная встреча с гармонистом Цацой – музыкантом, убивавшем сербов без помощи нот. Этот убийца имел обыкновение отводить сотни, а очевидцы утверждают, что и тысячи сербов на место казни в Казан-махалу, чтобы отомстить за страдания мусульман на Дрине. Страшные вести доходили даже до Парижа, и я спрашивал себя, знают ли борцы за мультиэтническую Боснию, чем заняты их музыканты в свободное от игры время.
Первые дни войны Ньего Ачимович провел, в страхе забаррикадировавшись в своей квартире на горицкой улице Калемова дом 2. Боялся он любого голоса, доносившегося со двора. Звонить с угрозами и дубасить по ночам в двери вошло в обыкновение у тех, кто хотел вселиться в его квартиру. Знал он, что не поможет ему ни то, что он не ходит в церковь, ни то, что никогда и ничем не подчеркивал он свое происхождение. А помогла ему, в конце концов, искренняя дружба.
Пробираясь под огнем снайперских пуль, Паша ходил к другу и носил ему еду. Ньего считался в компании самым слабым, а Паша – силачом. Их дружба являлась живым примером того, что избегали показывать телеканалы всего мира – с самого начала войны ни на одном из них нельзя было увидеть трогательных историй дружбы сербов и мусульман. Паша появился на Горице, занес сестре Аземине немного еды, и поспешил вниз, на Калемову 2. Подойдя к ньегиному дому, разогнал собравшуюся там шелупонь – просто подошел к самому здоровому из них, молча двинул по зубам, и только потом сказал:
– Не хочешь остаться без зубов – вали отсюда!
Здоровенный увалень в панике собрал манатки и побежал, а Паша кричал ему вслед:
– Еще раз постучишь в дверь, где написано «Ачимович», живьем с тебя кожу сдеру, понял?
Ньего долго не хотел открывать, потому что боялся что слышит подделку под пашин голос. В конце концов, разглядев своего приятеля через дверной глазок, он открыл двери и сразу же почувствовал уверенность, вызванную близостью могучего друга. И чувство это было сильнее голода, мучившего его последние два дня.
– Что, четник, усрался небось, ааа, очко-то играет?! – смеялся Паша, и потом боевые товарищи отправились в магазин за хлебом. Прошли они мимо граждан, стоявших в длинной очереди за продуктами. Увидев, что какой-то неизвестный тип глянул на него исподлобья и фыркнул, Паша сразу влепил ему затрещину и сказал:
– Слышь ты, гандон, хочешь так вмажу, что глаза повыскакивают? Ты зачем стучал в ньегину дверь, а?! – и хорошенько его отметелил.
Так Паша давал знать остальным, что их ожидает, если они посягнут на квартиру или жизнь его друга.
А по другому быть и не могло, потому что связывали их общие прошлое и воспоминания. Не смогли они позабыть как закалялась их дружба на горицком асфальте, как учились они уличным правилам и понятиям. И они знали, что теперь эту связь им надо пронести сквозь испытания войны.
И разве Ньего не сделал бы для Паши того же, окажись Горица на сербской территории?
Потому что их связывали незабываемые и сумасшедшие проделки, к примеру, то, как мы взламывали киоски на Заостроге, а потом продавали украденные бритвенные станки и жвачки по пляжам в Макарске, и на эти деньги жили неделями на море, а море было нашей жизнью! Потому что в их памяти навсегда останутся воспоминания о драках на пляжах и танцах, в которых каждая победа запоминалась сладким чувством превосходства и торжества, так необходимым взрослеющему человеку. Причем, когда они дрались или сами получали по полной, каждый знал, что, что бы ни случилось, оставить товарища в беде нельзя. Выше прочих законов стояла самоотверженность и понятие о том, что нельзя быть «чмошником без характера»!
Должен ли я закончить в Париже «Arizona Dream», продолжая монтировать этот так нелегко дающийся мне фильм, или вернуться в Сараево? В растерянности, днем и ночью я названивал в Сараево. Когда перед зданием Скупщины Боснии и Герцеговины начались беспорядки, мне позвонили, чтобы узнать, что я об этом думаю. Мое идея заключалась в том, что горожанам ни в коем случае не надо воевать с ЮНА, потому что они гораздо слабей и будет много жертв. Я просил передать, что не стоит играть в партизан и немцев, и что ж теперь, при таком разделении ролей, получается, что сербы – это немцы-фашисты, а мусульмане и прочие – партизаны?! Немало народу были тогда были моими словами оскорблены, но я уверен, что многие думали так же, но были вынуждены молчать из-за страха, переживаемого ими в тяжкой реальности осажденного города. На мою пацифистскую идею откликнулся только некий поп-певец, но и он представил дело в соответствии с имеющимся запросом: надо поднять людей на оборону Сараево, точнее, на войну против сербов, а не на мир любой ценой, что имел в виду я.
– Эмир, нам нужен твой крик, а не шепот, – сказал певец и стал городским героем, а автор «Долли Белл» и «Папы в командировке» уже без пяти минут государственным изменником.
И я твердо решил, что должен вмешаться в трагедию родного города. Купил уже себе билет на самолет до Сараево, но это мое намерение было пресечено Зораном Биланом, позвонившем мне в Париж:
– Братишка, не приезжай ни в коем разе, – сказал он. – Ты тут – человек, которого хотят убить.
– Кто хочет меня убить? – спросил я, а он говорит:
– Патриоты!
– За то, что я написал в « Le Monde» что Алия – генерал без армии?!?
– Не знаю за что, но не приезжай!
– Ну так я же, говоря это, и тех, кто обстреливает город тоже не пощадил!
– Не важно, что ты там сказал, ты, братишка, ничего не понял, тут все переменилось. У нас тут слова больше не работают, у всех мозги поотшибало. То же и у сербов. Пойми, тут как в ковбойском фильме. Как Нока наш говорит: «Не знаю, кто хуже, те, кто на меня нападает или защищает!»
– Неужто и впрямь у Алии есть армия? – спросил я братишку, а он говорит:
– Забудь ты про эту хрень, у кого есть армия, у кого нет, главное – не приезжай. Если что изменится, я тебе позвоню!
Разрушитель вышеградского памятника Андричу тоже сыграл в самом начале войны свою роль. Не такую значительную, как собирался, но и ее хватило, чтобы получить свое место в очереди на памятник. Любой, ненавидевший сербов и партизан, приобретал репутацию правозащитника и кандидата на увековечивание. Если бы представился случай провести тот эксперимент по принуждению к прочтению сочинений Андрича, то, я уверен, Шабанович по другому оценил бы предложенную ему умниками роль. А именно: взорвать дамбу вышеградской гидроэлектростанции! Репортеру «Вечерних новостей» Радою Андричу он объяснил это так:
– Затоплю все Сербию от Дединья до самого дома Милошевича.
В разговор с этим человеком вмешался генерал Куканьяц, комендант Сараевского военного округа. Народным языком говорил он с взволнованным Шабановичем, который обещал взорвать дамбу чтобы отомстить за злодеяния аркановых гвардейцев в зворницкой области. В конце объявился и Алия Изетбегович и их разговор показали в теленовостях. Президент говорил с Шабановичем участливым тоном, как с родным сыном. Тот настаивал, что уничтожит все, а президент говорил ему:
– Подожди, Шабанович, брось ты это, прошу тебя, ну, не сейчас же, честное слово...!
А мы, телезрители, понимали, что до затопления дело дойдет обязательно, сейчас или позже ночью. Это было похоже на титры немого фильма, описывающие будущие события.
Несмотря на президентские уговоры «... ну, не сейчас же...» Шабанович спустил часть воды с вышеградской плотины.
И, поскольку дом Шабановича находился в Незуцах, предместье Вышеграда, он ради великой идеи затопления Сербии от Дединья до милошевичева дома затопил и свой собственный дом! Бурный поток перевернул строение и утащил его с собой, причем в общем-целом дом остался невредим и не развалился. С глубочайшей тоской смотрел Шабанович на свой дом, уносимый потоком в Сербию, и уныло вспоминал предвыборные обещания СДА в Фоче, где сторонники Изетбеговича клокотали от ярости и обещали, если дело дойдет до войны, отомстить сербам за каждого убитого на Дрине во времена Второй мировой мусульманина. Те, кто обещал все это Шабановичу, уже сбежали от сербской армии в Сараево, а он остался один и смотрел на речной поток. Молил он о чуде, кланяясь Аллаху и молясь, чтобы какая-нибудь сила повернула течение реки вспять. И если этого не сможет сделать Аллах, то, может, получится у американцев? В конце концов он и сам сбежал от сербов из Вышеграда в Сараево и продолжал там просить чуда.
Молиться, чтобы Дрина потекла назад и его дом вернулся из Сербии в Незуцы.
А я все ждал звонка Зорана Билана из Сараево. Может, что изменилось, думал я? Нет ли каких хороших новостей? Неужто я действительно был так быстро вычеркнут из списка сараевцев?! Но скоро все надежды были похоронены. Телефонная связь с Сараево была прервана, и я, уже без особых сомнений, отказался от возвращения в родные места. Билан так больше и не позвонил, и не только из-за оборванной связи. Как это ни ужасно, но биланова мама Кайя была зарезана на пороге собственного дома в Яйце. Партизанку и ветерана войны, как утверждала ее оставшаяся в Белграде сестра, зарезали члены военного формирования «Белые Орлы». А я и так уже знал, как мало у них общего с гордыми птицами, символом героической борьбы сербского народа за свободу. Тот, кто прирезал тетю Кайю на пороге ее собственного дома, был не орлом, а крысой.
Возвращение в родной город становилось все более проблематичным. И вовсе не из-за страха. Дело было в сложности психологической. Чтобы вернуться в Сараево, я должен был пойти на компромисс, к которому не был готов.
Вместо возвращения в родной город я пытался представить, что будет, если я внезапно в нем окажусь? Пришлось бы мне там нахлобучить себе на плечи новую голову, а эту старую снять, завернуть в газету и выбросить в Миляцку. И той новой головой должен был бы я оплевывать все, что думал, во что верил и что говорил! Все то, что оставил мне в наследство отец! Никогда эта новая голова не прижилась бы ко мне, даже если бы хирургическая операция прошла успешно. Обе головы ругались бы без остановки, и это превратилось бы в настоящий кошмар. Старая упрямо требовала бы от новой своей сестры, чтобы та отринула разжигающие войну суждения, потому что вовсе не была согласна с подобным пониманием вещей. А ведь именно это от нее и потребовалось бы, согласиться, потому что доверять только своим глазам стало непозволительно. Особенно тяжело было с этой старой головой из-за ее упрямства. Она никогда не позволила бы своей сестре позабыть о причинах, приведших к войне, как бы жестока та ни была. И тогда эта новая голова стала бы кричать и говорить то, чего в тяжелую минуту говорить не стоит, вот до чего ее довели. То есть, одна голова страдала бы потому, что ей надо изменить себе, а вторая потому что ее мучает сестра.
Из-за всего этого, а также из-за многих других не упомянутых здесь причин, в Сараево я не поехал. В жизни, как и в кино, я оказался слишком старомоден. Ну не нравилось мне все это международное сообщество с этим его невероятным гуманизмом, что уж говорить о наших простаках. О последних лучше всего свидетельствует протокол, который Сенка раздобыла от нашей родственницы Дуни Нуманкадич. В этой бумаге описывается, как некий высокий чин военной полиции Боснии и Герцеговины, небезызвестный Эдо Лучаревич, вместе с несколькими полицейскими ворвался в квартиру Мурата Кустурицы на улице Кати Говорушич 9а, и нашел в шкафу бомбу, которую спрятал там «террорист», как написано в бумаге, Мурат Кустурица. Протокол был, в качестве понятого, подписан нашей соседкой Родич:
– Что ж они с ней, беднягой, сделали, что ей пришлось подписывать такую ложь.
Кстати, борцы за независимую Боснию, помимо обороны города занимались кое-чем еще:
– Вот ведь паршивцы, в том шкафу я хранила две с половиной тысячи долларов, которые ты отдал нам на хранение, когда мы возвращались из Америки домой, – сказала мне Сенка.
Когда я перевез Сенку из Херцег Нови в Париж, мы поставили себе спутниковую антенну и смотрели новости, освещавшие войну с разных сторон, и в этом была теперь вся наша жизнь. Смотря все эти передачи на разных каналах, наблюдая разницу в толковании одних и тех же событий, понял я, что Гитлеру, для успеха его злодейской политики, не хватало только телевидения. Никто не справился бы с ним, имей он свой телеканал!
На деньги, полученные за " Arizona Dream" купили мы дом в Нормандии. Сомнений больше не оставалось: жизнь в Америке оставили мы в прошлом, с Сараево простились навсегда. Думаю, что это произошло бы, даже не случись войны. Большие свершения влекут за собой перемену образа жизни и привычек, и когда попробуешь уже японской еды, и источники твоих доходов находятся далеко от родного города, то никогда уже запах чевапчича [43]не поманит вернуться домой. Наш большой дом в Нормандии был копией домика в Високо, с той разницей, что этот нормандский по сравнению с тем старым был настоящим основательным домом. Будь жив Мурат, он с гордостью показывал бы херцег-новинским пенсионерам фотографии, подтверждающие метраж жилплощади и количество комнат, принадлежащих семье его сына.
Искусство устройства жизненного пространства Майя довела в этом доме до совершенства. Свой стиль она создала, полностью разрушив каноны прочих стилей. Когда Джонни Депп зашел в этот дом, он сказал:
– It feels good, like if I was in Visoko.
Наш нормандский дом стал в конце концов настолько уютным, что можно было просто сидеть и смотреть в окно, не испытывая никакого желания говорить. Полностью погрузиться в возвышенные мечтания. Джонни Депп и это прекрасно почувствовал и, после, в этой тишине сделал своего первого ребенка. В том доме, пока мы были в Черногории, была зачата Лили Роуз, дочь Джонни и Ванессы, девочка, для которой я позже стал вроде крестного отца.
Дом этот был обустроен с невероятной продуманностью. Предметы здесь сочетались между собой как кинокадры у хорошего монтажера, связанные друг с другом так, что ни одного из этой цепочки уже не выкинешь. Расставленные майиными руками, предметы кухонной обстановки по своим цветам, формам и расположению и создавали этот возникающий на наших глазах стиль, разрушающий схемы и стереотипы холодных и отчужденных, хоть и с претензией, гостиничных номеров... в которых я, кстати сказать, провел большую часть своей жизни. Тогда в Белграде идеалом устройства жизненного пространства считался гостиничный номер. Все делалось для того, чтобы гости могли почаще говорить: «Чудесно, чудесно», что особенно действовало мне на нервы.
Тайна майиного стиля состояла в том, что в существующую раму картины, в данном случае дома, ставились неброские предметы, причем не обязательно дорогие, часто даже дешевые. Она умела приправлять всю картину детальками, делающими ее потрясающей. Вопреки забвению меняла Майя наше представление о пространстве. То же происходило у нее и с одеждой. Часто в обычном супермаркете покупала она дешевое платьице, сидевшее на ней как влитое. При этом на ногах ее были дорогие туфли, а на локте висела супер-дорогая сумочка. Потому что так ей нравилось. В точности как и ее отцу. Мишо Мандич был известным в Сараево судьей, говорили даже, что лучшим специалистом по гражданскому праву. Работал он в Окружном суде за не то чтобы очень высокую зарплату, но умудрялся прикапливать на покупку дорогих фотокамер. Особое уважение этот человек испытывал перед тонкими немецкими технологиями. И, хотя перенес усташские нацистские лагеря, никогда не говорил плохо о немцах. Да и усташей предпочитал не поминать.
Вернувшись с учебы в Праге и пропагандируя писателя Богумила Грабала, никак не мог я взять в толк, почему никто не понимает моего литературного героя, сказавшего: «Небеса отнюдь не гуманны, как не гуманен и мыслящий человек: не то чтобы он не хотел, но это несообразно его понятиям». Мишо снял цейсовский объектив со своей «Лейки М2» и сказал:







