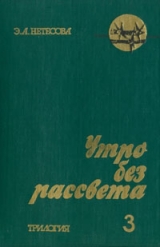
Текст книги "Утро без рассвета. Книга 3"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
А недавно я на десятой свадьбе посаженым отцом был. Десятого ученика своего женил. Вроде, как наравне с родным отцом. Значит, люди меня простили. А сам себя я до конца жизни простить не смогу.
Перед памятью деда стыдно, его имя я замарал. И землю свою. Погибшую в войну деревеньку нашу. Порою Кажется, что будь я там в это время, не случилось бы такой беды. И вроде не только в воровстве, а и в крови земли своей руки я испачкал. По ночам, как вспомню все, даже жить больно.
Прости, Яровой, что вот так о таком тебе пишу. Вряд ли тебе это интересно. И не нужны, и смешны тебе мои запоздалые раскаяния… Но ты не обижайся, что отнял у тебя время. Ведь ты понял меня. Понял и пощадил. А если бы не понял? Мне страшно об этом даже подумать. Мой сын мог остаться сиротою и, возможно, я никогда не увидел бы его. А ты понял. И мы вместе. У меня семья! Спасибо тебе, Аркадий.
Я хотел бы увидеть тебя еще раз. Ведь я уже не поселенец. Давно стал свободным. И обязательно побываю еще в твоей Армении. Но без дурных мыслей. Ведь Армения подарила мне Ануш и уберегла от зла.
Я приеду с больным, но чистым сердцем. Я был виноват. И за это буду наказан до конца своей жизни уже самим собой. А ты – прости меня. Жаль, что именно этому я сам научился слишком поздно.
И все ж, Яровой, у жизни и у судьбы своей я выиграл самое главное– свое имя. Ведь если я и умру, не успев с тобою свидеться, я умру со своим именем. Без клички. И не на нарах, не старым «кентом», а человеком, отцом. И кто-то даже пожалеет о смерти моей, и вспомнит добрым словом. А значит, остаток жизни не прошел впустую. Он был нужен. Нужен не только мне, а и детям моим. И людям. И если я сделал им хорошее, то в этом есть и твоя доля, Аркадий».
А еще через годы пришло письмо от Сеньки. Яровой прочел на конверте адрес. Улыбнулся воспоминаниям.
«Это я – Муха. Конечно, вспомнишь. Я даже не спрашиваю тебя и не напоминаю. Меня все помнят, даже те, кто хотел бы забыть.
Вот видишь, живу я на Карагинском. В селе Ягодное. Селом, сам знаешь, его можно назвать лишь летом, когда приезжают сюда сезонники на обработку рыбы. А зимою я снова остаюсь один. Как мэр острова, как единственный его президент.
На Сахалине «бугром» был, а на воле – повысили. Хозяином целого острова стал. С тою лишь разницей, что на острове, кроме меня, ни одного «кента». Сам себе я хозяин, сам себе судья. Сам себе враг, сам себе друг. Сам себя наказываю и прощаю.
Вот и теперь, пишу тебе письмо и никто надо мной не посмеется. Давно я хотел тебе написать, да все то времени нет, то не решался. А теперь вот выкроил ночь. Она моя и твоя. Побудь со мною, Яровой. Посиди в моем доме у окна. В него сейчас пурга бьется. Черная, лохматая и злая. Аж стекла от нее стонут. В избе тепло. А мне холодно. Ты знаешь, от чего это бывает? Конечно, понимаешь. И я, тоже. Мне б по летам моим сейчас бы внуков нянчить, байки им всякие рассказывать. Да нет у меня внуков. И не будет. Жизнь дала мне все, кроме продолжения своего. Видно, не заслужил я его, и не вымолю теперь. А и баек не знаю. То, что мне ведомо, не для детвы. Им лучше не знать такого и не слышать.
Холодно стало бы им от моих баек и страшно. Самому иногда невмоготу от пережитого. Да что теперь толку ворошить прошлое. Разве вот тебе кое о чем немного расскажу.
Знаешь, тогда, в зале суда, да и до того, думалось мне, что будешь для нас просить на всю «катушку». Чтоб о свободе мы и мечтать не смели. А ты положился на суд. И попросил, чтобы не лишали нас возможности умереть на свободе.
Нам дали по десять лет. Ты это, конечно, помнишь. А я думал, что нам дадут по четвертному [23]23
Т. е. 25 лет лишения свободы. По УК, действовавшему до 1958 года.
[Закрыть]. В день суда мне было сорок пять. А с двадцатью пятью годами, я никогда не вышел бы на волю. До семидесяти лет там не дожил бы. Я отбывал пять лет все там же, на Колыме. А потом опять вышел на поселение. И снова на Карагинском. Привезли меня сюда те же люди, в тот же дом. Тою же работой занимался. Пять лет. По зачетам отработал я свое за три года. Мог уезжать. Ведь освободился. Даже справку об этом имею. И паспорт! Свободного человека! А на что они мне теперь? Куда ехать? К кому? Кому я нужен? И кто нужен мне? Теперь поздно начинать заново. Я упустил. А потому остался добровольно вечным поселенцем Карагинского. И нет мне отсюда пути. За кромкой берега не ищу дорог. Стар стал. Ноги не держат. Да и глаза не ищут другой жизни. Есть пристанище. Оно мое. Незарешеченное, без глазков и охранников. Здесь каждый угол моя свобода. Вот только сердце мое проклятое, все еще не верит. И в каждом крике пурги слышит свое – голоса охраны, стоны кентов, сигнал к работе. В каждом шорохе чудится прошлое. Страшно это, Яровой. Старик ведь я теперь. А вспомнить из прожитого нечего.
С Клещом я после суда не виделся. Его в другое место отправили. А куда – я не знаю. Не переписывались мы. Адресов не было. А и были бы, о чем писать. Навсегда расстались. Видно, никогда уж не свидимся. А и ни к чему. Вспомнить не о чем. Теперь я на Карагинском сам себе «кент» и «бугор». А остров мой нынче заповедный. Волков я сторожу. Слежу, чтоб не убивали их. Сказали мне, что поизвели их крепко за эти годы, а они хоть и звери, и хищные, но тоже нужны. Навроде санитаров.
Не знаю я, кому нужны они. Ведь убийцы. Не хуже меня, душегубы. Но ведь меня-то не убили. Дали жить. Значит, нужен я. А чем я их лучше? Они звери. Значит, без разума. Коли имеется, так и то – звериный. Хватай, где ближе. Прямо как я. И глотка у них, скажу тебе, ненасытная, что у «кентов». Вот и живем мы тут все вместе, как музейные редкости. Кто кого охраняет, порой трудно понять.
Недавно видел я, как они своего бывшего вожака из стаи выгоняли. Тот, старый хрен стал, навроде меня. Змей облезлый. Видать, удачу потерял, иль «засыпался»… Ну «кенты» этим и воспользовались. Налетели на него. Как когда-то на меня, в бараке. Меня тогда за Скальпа, а этого не знаю за что. Глянул я, ну точно как зэки, все в пах зубами норовят вцепиться. Враз всего лишить. И власти, и жизни. Ну и давай они его мордовать. А я не стерпел. Свое вспомнилось. И озверел. Ухватил кол понадежнее и к своре. Они на меня сигать стали. Мол, хоть ты и «бугор», да не наш. Не признали. Не допускали в свои дела. У них, видать, тоже своя «малина». И злее нашей, человеческой.
И все ж я с ними занимаюсь. Приучаю их к своему виду, чтоб на людей они никогда уже не кидались. Где силой, где добром их порою укрощаю. Появятся в ином логове волчата, я их враз наведываю. Чтоб после родителей своих и меня помнили. Чтоб люд не трогали. Я ж их не только считаю поштучно, а и в морду знаю каждого. Характер их, нрав, повадки. Даже клички им дал. Есть у меня здесь и Клещ, и Магомет. И Дракон имеется. И даже Скальп. Такой же паскуда. Отменная лярва. Мать его, старая волчиха, издохла. Я его, падлу, вырастил. А он, змей окаянный, меня же объегорить норовит. То мясо стянет все подчистую. То в избе нашкодит в мое отсутствие. А потом издали наблюдает – злюсь я на него или уже отлегло.
А недавно он на олененка напал. Подоспел я вовремя. Не дал забить оленя. Так Скальп до сих пор обижается. Не подходит ко мне.
Скоро его увезут от меня. Так каждые два года бывает. Отлавливают на острове волков и увозят их в те места, где они нужны и где их нет. Я отдаю. Не знаю, на что волки, кому понадобились. Я их за эти годы почти две сотни отдал. Сам и вырастил. Целый барак – если поштучно.
Не знаю, как они приживутся на новом месте, как оно их встретит. Но ведь они, как и я нынче. Только с виду звери. На гадости не способные. Отучил я их. Исхай хоть и по зверьим законам живут, а человеков не забижают. Это я им заповедываю, с самого сызмальства.
Вот и теперь, волчонка рощу. В избе. На койке вместе со мной спит этот гаденыш. Может смерть моя – он. Ведь Мухой зову. Чтоб кличку свою не забывать. А ведь она меня сгубила. Зверя с меня, с человека сделала. Не знаю, может иное удастся. Из зверя друга себе взрастить. Он, кажется, понятливее других. Понятливей «кентов», с кем хлеб делил. Последний кус. Даю я ему мясо. Изо рта. А он не берет. Руки лижет. Скулит. Голодный, а не отнимает. Три дня его не кормил, заставлял отымать, а он в клубок скрутился и не взял. Мне б таким быть. Он больше Сенька, чем я сам… И больно мне было. Три дня не кормил. Ведь я хоть и человек, а не выдержал бы, а он – зверь и устоял.
На койке ноги, душу мне греет. Глаза не отводит. Единый друг мой. Как мое начало чистое смотрит на меня – глаза звериные, а понятие человечье. Многое он умеет. Лихая беда научила. И хлеба в пасти принесет, и спину погреет. И коли кто к селу едет дает знать. Он как я зверь вне стаи, всюду – ворона белая. Вот и теперь смотрит на меня, задравши удивленную морду. В жизни не видел, чтоб я письма писал. Не понимает. И хотя мог бы дрыхнуть себе спокойно, компанию составляет.
Ты не смейся, Яровой, скажешь, верно, что к старости я в детство впал. Это не так, Яровой. Хотя и не мешало б мне вернуться в детство свое, только с нынешними мозгами. Но нет… Ничто мне не вернуть.
А жаль, жаль, что жизнь уже прошла.
Мне ничего не вернуть. Я даже научился радоваться чужим радостям. Ты же знаешь, что летом к нам на остров приезжают дети. Им здесь все нравится. Волки к ним и близко не подходят. Отучил я. И ребятня здесь чувствует себя свободно. Слушаю я их смех и радуюсь, что они умеют смеяться. Что их жизнь еще только начинается. Радуюсь, что дети не боятся моих волков. И хотя живут бок о бок, никто никого не трогает.
Кстати, я все хочу спросить тебя, знаешь ли ты хоть что-нибудь о Вовке? Как он? Вылечился? Как себя чувствует? Я не прошу его адреса потому, что если ты и знаешь его, все равно не дашь. А мне он и не нужен. Ехать я отсюда никуда не собираюсь. И к нему. Писем я ему писать не буду. – Стыдно мне перед ним. Очень стыдно. И знаю, что не простит он мне. Как и я бы не простил, будь на его месте. Но хочется мне знать, вылечился ли он? Ведь в его болезни и я немало виноват. Если он здоров, мне спокойнее будет жить. Одной виной будет меньше на моей совести. А если болен, я постараюсь помочь ему. По мере сил. Конечно, иначе, чем материально, ничем другим не смогу. Моя совесть только меня беспокоить будет. Вовке до этого дела нет. Болен он или здоров. Но он много моложе меня. Ему еще можно наладить и жизнь, и здоровье. Но от меня он ничего не примет. Никакой помощи. И все же, если Журавлев болен, ты сообщи мне. И я через твою работу вышлю ему деньги. За ошибки нас наказывает сама жизнь. А моральные издержки мы должны возмещать друг другу сами.
И, все же, как перед Трубочистом, так и перед Клещом виноват я. Я старше их. И больше видел в жизни горечи. Я их должен был остановить. Обоих. Вразумлением своим. Да только у самого ума не хватило. Вовка-то ладно. А вот Бенька! Как-то он теперь? Ему жизнь совсем не улыбалась. Жаль мужика. Клянет он меня, верно, на чем свет стоит. И себя заодно.
А я тут. Один. Волком среди волков иной раз выть готов. На жизнь, на судьбу свою горбатую. Да только не выпрямить мне ее. Никогда.
Тут вот иногда летом бабы приезжают в Ягодное. Всякие. А я гляжу на них и думаю, что будь мое прошлое иным, может и у меня б своя баба была. Жили б вдвоем. Все легче. Хоть воды было бы кому подать при хвори. А то чуть прихватит– хоть загнись, одни волки под окном воют. Будто заживо отпевают.
Одна баба даже насмелилась в прошлое лето. В избу ко мне зашла. Воды попить. Разговорились. Холостячка она. И, видать, серьезная. Не растеряй я своего, ни за что б не упустил. А теперь… К чему? Себя злить, ее мучить? Нет. Не стоит. Так и простились А мне на себя еще долго досадно было. Сам ведь дурак-то. Сам и виноват.
Конечно, не все ж я вот так сиднем среди волков сижу. Бываю и в Оссоре. У меня своя моторная лодка имеется. Сам купил. Сразу. Когда харчи нужны езжу. В магазин. Даже в кино один раз был. Да не повезло. Кино про любовь было. Я не стал смотреть, Ушел. Думал, серьезное покажут. Про мужичье. А это… Решил у себя на Карагинском память людям после себе оставить. Прошлое мое кто с них добрым вспомнит! Так хоть теперь. Покуда имеется у меня время.
Никто, кроме тебя, о моей затее не знает. А я для ребятишек дом делаю. Там, где они обычно летом отдыхают. Но дом необычный. Резной. Со ставнями, с расписной стрехой, с резным крыльцом. И внутри под сказку сделаю. Снаружи все готово. Даже петуха на трубу примостил. А в доме хочу все стены резными рисунками украсить. До лета еще время есть. Думаю, что успею. Если доживу.
А знаешь, может и посмеются они, но я хочу, коль умереть мне здесь придется, чтоб хоть кто-то навещал, остров. И мою могилу. Вот и приучить хочу ребятишек. Хоть этим домом. Взрослые, может и не поймут, может осмеют мою работу. А детям, я знаю, обязательно понравится. Может хоть они, остановившись у моей могилы, когда-нибудь добрым словом помянут. И на том спасибо.
Потому, стараюсь. Привыкнув к острову – полюбят домик. А там глядишь и не останется остров сиротою. Найдется и хозяин. Останется. Может, ему здесь будет светло.
Слышал я, что здесь хотят что-то искать, геологов пришлют. Не знаю, приедут ли они. Мне б все отрадней было бы с голосами человеческими.
Ну да ладно об этом. Какая тебе разница, как я живу. Ты ведь обо мне никогда хорошо не подумаешь и не вспомнишь. Тяжелым было наше знакомство. А память о себе ты оставил во мне светлую. Это я тебе по совести скажу. Жаль, что встретиться больше никогда не доведется. Я не ездок нынче. Никуда. И в Ереван – тем более. Ездят туда – где ждут. Где память по себе оставил добрую. Какой бы ни бил Скальп, я был неправ. Все ж, не человеку решать судьбу себе подобного.
Прости, что я дал тебе забот тогда, что измотал и обижал частенько. За все с лихвою воздала мне моя судьба. За каждую обиду, какою награждал людей, она мне сторицею вернула. С насмешкой…
Не веришь? А ты поверь. Не раз я подыхал от болезней здесь. Один. На весь остров. По несколько дней не евши. Глаз от боли сомкнуть не мог. Ни руки, ни ноги не шевелились. А стояла зима. Холод. Я примерзал к кровати. Лицом и спиной. Я кричал. Но кто мог прийти? Моя старость и смерть! Кто ж более?
Конечно, я мог уехать отсюда. К людям. Навсегда. Никто ж меня силой здесь не держит. Ведь я свободен. Никто не держит, кроме собственной совести своей. Я болен и стар. Но я делал больными других. Хотя бы Вовку! Я несчастен? А счастлив ли Бенька и его семья? Да только ли они? Я сам себя наказал. И сам себя заставляю терпеть. Ведь там не легче было. Я не могу жить среди людей. Я не могу просить у них помощи и пользоваться ею. Потому, что был виноват. И эту вину свою я не сотру даже собственной смертью. Ведь живы те, кто не рад жизни из– за меня! А это горе – горше и больше моего.
Нет! У меня нет теперь врагов. Я сам себе враг. И друзей нет. Я не могу их заводить. И сам себе никогда не стану другом. Я – убийца собственной жизни. Я сам себя убил, сам вырвал у себя все, что было человеческим. А потом я не вернусь к людям. Не имею на это прав! Простившие меня в который раз, они не знают, как прощенный сумеет наказать самого себя. А жалости я не хочу. Я сам себя не жалел. И об одном молю свою судьбу проклятую, чтоб хоть чьи-то, чужие, уже не узнанные мною руки похоронили меня рядом с Николаем. Я хотел бы жить, как прожил он, да не довелось. Пусть бы на нашем погосте я был бы и в могиле сторожем его могилы, его памяти.
Прости, Яровой, ну что это я тут несу. Ты, наверное, подумаешь, что я с ума спятил от одиночества. Но я же на свободе! И в окно ко мне, как моя недалекая смерть, смотрится злая ночь. Она скулит пургой, крадется к сердцу.
Если я умру, пусть мои деньги отдадут Вовке, как мое первое и последнее в жизни – прости…»
Прошло еще время. И Яровому пришло письмо от Беника. Пухлый конверт из города Оха – на Сахалине.
«Здравствуй, Яровой! Давно собирался написать тебе. И наконец-то выкроил время.
Как видишь, я снова на Сахалине. Но теперь уже не в «медвежьем» углу, где все же чувствуется некоторая изоляция от жизни и людей. Теперь я живу в городе. Это Сахалинская столица геологов и нефтяников. Конечно, Оха не Одесса. Но во многих отношениях даже лучше. Город небольшой, но кипучий и очень молодой. Типичный для Севера. Здесь средний возраст жителей тридцать пять лет. Так что я старик в сравнении с этим. Кто-то молодой взял на свои плечи мой остаток. Ровно двадцать лет. Мне ведь в этом году пятьдесят пять лет будет. Много. Почти старик. Из них больше половины не свободными. А это, считай, что не жил. Вычеркнуто, потеряно. Да вот из памяти не выгнать прошлое свое.
Знаешь, я теперь работаю оператором на нефтепромысле. Слежу за работой качалок, они нефть из земли качают, а еще за исправностью нефтеперегонного оборудования. В общем, стал я хозяином на нефтепромысле. Даем нефть людям. А это– все. Говорит, что из нее больше сотни разных компонентов получают. И все важные. А с виду, мазут, да и только. Ан нет. Возьмешь ее в руки, а она теплая, как кровь земли. Она и греет, и кормит. И одевает нас. Я до того, как на нефтепромысел поступил, ничего не знал о нефти. А теперь каждую ее каплю берегу.
Я в Охе живу давно. На поселение сюда прислали. Пять лет. После пяти лет в Магадане. Давно уже свободен. А все здесь. Уезжать не хочется. Свой смысл нашел. Нужен я здесь. И на работе. Вот иду по нефтепромыслу, а качалки на все голоса поют, в пояс мне кланяются. Кроме них, кто ж еще со мной поговорит, отнесется уважительно, как к другим? Только они. Для них все люди одинаковы. Зимою ли, летом, качалки, что послушные лошади. Работают на человека, не требуя взаимности. А вот люди… С ними посложнее. Все, с кем я работаю, строили этот город. Каждый дом, каждую улицу. И промысел… Тоже их руками… Я на готовое пришел. Как опоздавший поезд. Правда, не упрекают, никто не стал кивать на мое прошлое. Но я-то… Я же знаю! Уж лучше бы ругали. Ведь и правы были бы! А они молчат. Хлеб пополам со мной делили. Заставляли есть! А за что? Что я сделал для них? И кто я им? Почему дают и давали, зная, кто я? Я брал. Их руки – не мои. Они чисты. А сам… Долго стыдился. Целый год не решался предложить им свой хлеб. Боялся. А вдруг не возьмут. Что тогда? Ведь это для меня было бы равносильно смерти. И как-то решился. Но не под шумок, чтоб незаметно. Положил я свой хлеб прежде других. И смотрю– возьмут ли, будут ли есть? Ведь вокруг были люди – мне ровесники. А жизни – как стеклышко, нигде не запачкались. Не знаю, секунды прошли, или больше, мне они годами казались. Никто не прикасался к хлебу. Ну, думаю, надо в другую вахту проситься. И… Взяли. Буханку поровну. Я и ожил. На душе легче. Пусть и не чета я им, сам знаю, но они меня, руки, хлеб мой не оттолкнули. Не побрезговали. А разве обратное легко было бы пережить?
Учили они меня. Особо один старик. Петрович. Он с двадцатых годов тут в Охе живет. Ох и придирался поначалу. Пока своему делу меня учил, чего я от него не наслушался в свой адрес! Но без зла и упреков. Зато когда у меня получаться стало, он первый стал хлопотать о присвоении мне разряда. Вот и теперь, я только на один разряд ниже его, а он все подсказывает, советует, а ведь и не родня. И в приятелях не состояли. И доброго я ему ничего не сделал. А он, будто о кровном, обо мне заботится. Ко многому я уже успел привыкнуть, а вот к этому не могу.
Тебе странно, Яровой, что я в общем-то неглупый мужик, что ты даже в суде признал, пишу тебе все эти глупости, какие тебе покажутся смешными и нелепыми. Какое тебе дело до меня? Ну, попался! Ну, заловил ты меня! Ну, отсидел! Зачем же теперь писать? Верно? Ятоже вот так думал. Потому долго не мог сесть за письмо тебе. Но пока я раздумывал, жизнь еще много раз заговорила со мною твоими словами. В каких я сомневался. Помнил их все годы и не верил. Ведь если бы хоть на секунду допустил правоту твою, значит, мне нужно было бы перечеркнуть всю свою жизнь, проститься со всем, чем гордился и дорожил. И все же… Ты оказался прав.
И я, как недавно родившийся на свет ребенок, учился делать первые шаги. Я часто падал и набивал синяки. Они болели. Единственная разница была в том, что, получая их, я не плакал, а запоминал… Свои промахи. А они были. И немало. Я как слепой щенок путался в банальных ситуациях. Все потому, что мое представление о жизни и людях было иным. Я видел все в перевернутом виде. Вверх ногами. Привык к этому и считал правильным. Но ошибался. Первым помог мне ты. Не удивляйся. Не сразу это случилось. Лишь на суде. Я-то думал, что ты потребуешь так, как потребовал бы я на твоем месте. Ведь тебе больше, чем кому-либо на суде стоило не только презирать, а и ненавидеть меня. А ты оказался сильнее. Сильнее всех моих представлений и убеждений. Сильнее моей жизни. И меня самого. Я помню твое обвинение. Многое на память. И это перевернуло все мое. Имея право на ненависть, ты был объективен. Это не вязалось с моим представлением о вас, моих бывших врагах.
Потребовалось немало лет, чтобы я все понял и осознал. Но твои слова засели колом. Я помнил их даже во сне. Проверял в жизни на людях, в разных ситуациях. Ты прав! Я проиграл свое.
Единственно, что осталось мне в награду, сын. Мы живем все. вместе. Втроем. С женой и сыном. Я простил своей жене ее прежнее… А какое право я имел не прощать? Ведь мне прощено преступление, а ей я простил лишь ошибку. И она, как и я, всегда помнит о тебе.
Все хочу я рассказать тебе подробнее о своей жизни. Да все вразброд получается, ты не осуди. Писем-то я давно никому не пишу. Тебе первому. С того самого дня. Памятного для всех нас. Тебе я написал завещание. А вот теперь письмо.
Когда меня прислали сюда, в Оху на поселение, ко мне вскоре приехала семья. Город, конечно, был отстроен, но с жильем еще было туго. И все же мне в первую очередь выделила благоустроенную квартиру в новом доме. Она предназначалась другому. Он в Охе уже двадцать лет. Фронтовик. Дали мне. Он уступил свою очередь. Согласился ждать, пока построят второй дом. Сказал, что его дети большие. А моему нельзя жить без квартиры. И я вспомнил тебя. Ведь этот мужик, как и ты, о сыне моем, вспомнил.
Потом рабочие нефтепромысла удивили. Еще больше. Получил я квартиру, а они ее мне всю обставили. Сами мебель купили. В подарок на новоселье. А кто я им? Чужой. Совсем чужой.
Сын теперь уже в школу ходит. В седьмой класс. Изменился. Очень похож на жену. Глаза голубые. Не мои. В них мое утро. Пусть бы оно было чистым. Как хочется мне, чтоб в его глаза не заглядывала беда и ничто бы их не омрачало.
Ты знаешь, старики любят смотреть на девушек. Нет, дело тут не в грубом. В них они видят свою молодость, свое начало. Светлое и чистое. А парни любят смотреть на солнце. Как на свою мечту.
Каждый греется у очага воспоминаний прошлого или мечты. Мне не о чем мечтать особо, а вспоминать ни о чем не хочется. Моя девушка– моя жизнь, не успев расцвесть, замерзла в северных льдах, завязла в глубоких сугробах. И, не успев улыбнуться мне, состарилась без времени. Так и не порадовав меня своими руками. А может, не она виновата, не ее руки, а мои ослабли, и не удержали ее. В старых руках тепло и радость не держатся. В другом были крепки мои руки – погибель свою цепко удержали. И упустили жизнь. Потому, что не дорожил ею, подарком судьбы.
Ты был прав, не тому я радовался. Думал, что всю жизнь проживу молодым и без печалей. Ан, оглянулся, а рядом, не весна, зима лютая. Смеется в лицо. Всеми моими пороками оскалилась. Впереди – тьма могилы. Позади – оглянуться жутко. Одни ошибки. Как ножи. Их много. Их так много, что страшно сделать хоть один шаг назад, даже во сне.
Они того и гляди вонзятся в спину. И проколют насквозь не только тело, а и душу. Ох и трудно мне будет умирать. Ведь я за все свои ошибки, за все грехи свои сначала расплатиться должен. При жизни. Это вроде долги перед смертью отдать. Всех кредиторов ублажить. У всех испросить и вымолить прощенья. А долгов много. И кредиторы свирепы. Кто жив – не простит. А кого нет? У тех не вымолишь пощады. Собственной кровью за их боль и обиды плати. Сполна и с процентами. Да только ни сил, ни крови моей на всех уже не хватит. Видно, так и сдохну несостоятельным должником. А что есть состояние, Яровой? После суда я часто над этим задумывался.
Жизнь? Но я не могу считать ее таковым. Ведь состояние либо приумножают, либо проматывают, по собственному желанию, а я не жил, приговоры отбывал. Счастье? А что это такое? Неузнанное нельзя считать состоянием.
Сын? Но родив, я не воспитал его. А и теперь боюсь этим заниматься, чтобы не принести вреда вторжением в его жизнь. Он есть у меня, мой сын. Но я не имею права считать его своим счастьем. Яслишком запоздало осознал себя отцом его и принес ему немало горя. Он рос без меня. Зная, что я не умер, что не ращу его по своей глупости.
Пожалуй, мертвым легче осознавать свою невольную разлуку с детьми. А вот живому, мне, как быть? Ведь я не только себя запятнал. Я поставил клеймо и на сыне. Ведь его спросят когда-то обо мне. Возможно, дети его. Мои внуки. Что ответит он им? Положим, они поймут. А люди? Чужие? Все ли простят? Возможно, за мою жизнь еще и сыну не раз горько будет. Услышит насмешки, укоры. Меня не раз недобрым словом вспомнит. Помехой я ему буду. Не сможет, глянув людям в глаза, не стыдясь назвать мое имя. Позором покрыто оно. Его я ничем не смою.
Ты прав, живущему бездумно, наградой перед роковым часом бывает раскаяние. Но и оно не поможет, не исправит прожитое.
Вчера, когда я проходил по промыслу, вдруг в голосе качалки послышался мне предсмертный стон Скальпа. Мне стало жутко. Будто я вовсе не на работе, а снова в Ереване. В том доме.
Нет, мне не показалось. Я помню. Я хорошо помню все. Это его голос я услышал. И это моя совесть убивает меня. Моя, отогревающаяся среди людей, замороженная совесть. Она идет за мною по пятам и смеется вслед. Голосами Скальпа и Гиены, голосами всех, кого я обижал. Голосами живых и мертвых. Она издевается и не прощает. Она, не ты. Она преследует меня каждую секунду, в любой момент, выбирает самое неудачное время. И ловит, словно загоняет в ловушку. И тогда мне промысел кажется большой зоной, а качалки «кента– ми», живыми постоянными свидетелями непутевой жизни моей. От них не убежать. Они умеют стонать и говорить, плакать и хохотать вслед. Я бегу от них, они кричат вдогонку и приходят ко мне во сне. Они сживают со света, гонят от людей, от семьи, от самого себя.
Ты был прав. Правосудие– этап в нашей жизни. Его можно помнить, можно и забыть. Но самый страшный и жестокий суд– это суд памяти, суд разума. От него не уйти. Он пишет свой приговор. Лишает сна, покоя, отнимает радость и здоровье. Его приговор однозначен. И суровее всех судов он потому, что исполнение его длится до самой смерти. Никакие сроки наказания не сравнятся по суровости с этим приговором. И его мы сами себе выносим. Прости, но в этом письме моем не ищи меня прежнего. Не суд, не лишения заключения, не разлука с семьей сделали меня иным. Люди… Они. Они сделали то, что со мною происходит. И уже давно.
Я лишь призрак среди них, жалкое подобие того, кем мне надлежало быть в этой жизни. Я не могу поднять на них глаза потому, что не достоин. А они не пользуются этим и не хотят замечать моей никчемной жизни, и делятся со мною тем, на что я не имею прав. Но за что? Выходит, прежнее, надумано мною. И я ничего не извлек из жизни. Ведь всегда сильный смеялся над слабым, и не помогал ему подняться до себя. Уничтоженный не имел права на жизнь. А я убедился теперь в другом. А значит, ты снова прав. Мораль, не подтвержденная примером, не имеет права на существование. Как дерево, не имеющее корней. А потому сыпятся «малины». Ведь закон, противоречащий естеству, не воспринимается и породившие эти законы «малин» обречены на гибель.
Тебе это было понятно давно. А я только недавно осознал. Но ведь зашедшее солнце не дарит утро. За закатом наступает ночь, жизнь кончается. Ничто не вернуть. Жизнь не повторится. Мне не ждать утра. Я слишком поздно проснулся. И проспал свой рассвет.
Ко мне все чаще приезжает «неотложка». Врачи еще стараются помочь мне. Всеми силами. Но что они могут сделать. В гнилое дерево весна не дарит вешних соков. Вены пересохли. И устало сердце. Смерть, как сестра милосердия у изголовья усталой посиделкой нахмурилась. Прикорнула. А чего ждет? Чего она еще от меня хочет? Других испытаний? Но разве недостаточно я испытал? Разве мало выпало на голову мою? Забрала б сразу. Теперь ведь можно. Но она медлит. И сжимает сердце ледяными пальцами. Нет мочи дышать. Приступы стали продолжительнее и больнее. Это расплата. Горькая расплата за сладкие минуты. Когда она закончится, не знаю. Да и кто может сказать наверняка? Все мы не вечны. Вечна лишь жизнь. Покуда живет в людях доброе, она жива. А суть добра – в прощении.
Прости! Чтоб в голосах своих качалок стало меньше одним голосом упрека. Я сам себя упрекну. За все, всех и за себя…
Они молчат иногда, мои качалки. И смотрят на меня выжидательно, будто удивляясь, что я еще живой – в насмешку себе самому. И тогда… Вот в этой тишине я слышу твой голос. Отчетливо, как наяву. И ты снова жалеешь меня. Как тогда. А может мне кажется? Но если – нет, прости, Яровой, прости, как должника, без раздумий, и оглядок. Я понял все. Я проиграл. А жизнь – скупой кредитор. Я хочу уйти прощенным».
Прошло еще время. И вот Аркадий получил письмо от Владимира Журавлева. Его трудно было назвать письмом. Пухлая тетрадь была исписана от начала и до конца. Чувствовалось, что написано оно не за один день. Володька несколько раз садился за него. Писал. Потом отвлекался. И снова садился за письмо.
«Здравствуй, Аркадий. Получил я от тебя письмо Мухи. Прочел его. И долго, этого я не скрываю, раздумывал, что мне ему ответить. И стоит ли вообще отвечать ему.
Только пойми меня правильно, не из страха, не из боязни его приезда или мести раздумывал я. Нет. Дело совсем не в этом. Все проще. Ведь помощь мне его совсем не нужна. И предложение в отношении денег смешно и нелепо. В данной ситуации жизнь поменяла нас местами. Когда-то я мечтал откупиться от них за ошибку. Теперь они.
Только они воспользовались тогда моею слабостью. Болезнью моею. А я не хочу. Они хотели выиграть за счет меня. Но победа за счет слабого – позор. И в нашей игре, вернее в их, не стало победителей. Все проиграли. Мы в долгу. О какой плате может идти речь?
А главное, что и нуждайся я в деньгах, никогда не принял бы их от Мухи. Я предпочел бы смерть от своих рук, чем спасение из его…
Да и смешно все это. Ведь я теперь работаю в геологии. В топографическом отряде. Партия наша круглогодичная. И хотя вес считают, что Сахалин давно освоен и новых открытий никто не сделает, все же и на нашу долю остались удачи. И на счету нашего отряда есть теперь буровые вышки, эксплуатационные скважины, поселки нефтяников. Но они остались далеко за нашей спиной. Это позади. А впереди манящее, неизведанное; вечно зовущая тайга.








