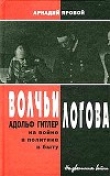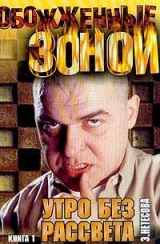
Текст книги "Утро без рассвета. Книга 1"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
Вода уже лижет сапоги. Начался прилив. Еще немного. Еще пятьдесят метров. Не больше. Вон тот поворот. Он там! Где ж еще? Там! Под скалой. Забыл! Он просто забыл! Вода уже подбирается к коленям. Песок захватывает сапоги. Бежать становится трудно. На минуту в памяти всплывает лицо бабки Тани, испуганное, бледное.
– Сын! – кричит испуганный Гиря.
Еще метров тридцать, не больше. Надо успеть! Скорее! Скорее! А там – на скалу. Еще можно успеть. Как дорога сейчас каждая секунда.
Вода уже обхватила колени ледяным обручем. Какая она холодная. Семен глянул в расщелину.
– Вот! Вот он!
Бриша стоял у скалы, прижавшись спиной к ее ногам. Улыбался. Вода уже охватила его до пояса. Слепой сделал усилие. И, оторвавшись от скалы, сделал шаг навстречу морю. Но в эту секунду цепкие руки Гири схватили его, выдернули из воды. И, взвалив на плечи Григория, Семен побежал к скале. Там есть узкая тропка. Сейчас! Только надо найти ее. Вот она! Вот!
Но вода уже сдавила грудь тесным панцирем. Семен двумя руками держит Гришку. Вот дурак! Но с ним потом! Сейчас – успеть бы. Из– под ног летят камни. Какие они острые, скользкие. Как трудно удержаться на них. Но нет. Надо скорее! Что это? Пот заливает глаза. Ничего не видно. Кто кричит? О чем? Ладно! Все потом. Вода! Скорее от нее. Ох, как тяжело подниматься! Но что это надумал этот дурак? Утонуть? Сам? Ну и дурак! – сплевывает Семен воду, попавшую в рот. Смотрит вверх. Кто это там? А ладно! Какое тебе дело? Осталось немного. Еще метра четыре и ты там. Наверху!
Гиря вдохнул воздуха. Шаг. Еще! Еще! Ну! Вот и все! Вода внизу. Там! Далеко. Но останавливаться нельзя. Быстрее! – Семен идет вверх. В глазах темно. В голове шумит. Вот! Все! Выбрался.
Он снимает с плеча Гришу. Тот молчит. Гиря смотрит на скалу. Вот она – надпись. Как он забыл о ней. Ведь просил же его этот! Но почему? Качины – Сергей, Олег, Владимир, Григорий. А почему Григорий? Ведь трое погибли! И моментальная догадка мелькнула.
– Он сам себя причислил к ним. Сам! Эх-х…
– Оставь меня, – отстраняет его руки Гриша.
– Заткнись, – схватил слепого Семен и, закинув мешком на плечи, побежал в село.
– Я все равно! Я должен! Я не могу жить! – текли слепые слезы по шее Семена. – Пусти меня!
– Заткнись! А то не гляну, так вломлю, что забудешь про геройство! Ишь, не может он жить! А я смог? Сдохнуть легко! Стоит захотеть! А ты жить захоти! Выжить! А то ишь расползся! Фронтовик! Баба ты паскудная.
– Пусти!
– Пущу! Принесу, вломлю и пущу! Скотина! – орал Гиря. А перед глазами снова лицо бабки Тани всплыло. Доброе. Тихое. Она одна, не гнушаясь, звала сыном и его… Мать солдатская, безвременная вдова, она любила по-своему, по-матерински и его – Семена. Любила одна. Одна за все село, за всю жизнь… А за что, и сама не знала.
– Сынок! Спасибо тебе, – седые пряди спутали руки Гири. Она все поняла. Сердцем…
Семен тихо вышел из избы. Через час ему уходить. А дел еще много. Очень много.
– Прости меня, мать, – обнял старушку Гиря.
– Как же мы без тебя будем? Что же ты? Зачем уезжаешь? Ведь не чужой! Свой ты мне. Останься, сынок! Чего по свету мотаться?
Гиря боялся этих слов именно от нее. Ведь вот недавно совсем она его выходила. А мог бы и умереть. Мог. Целый месяц она от него не отходила. И вытащила. Живым из могилы. Сколько кентов при этом в лагерях умерло. А она его спасла. Сама. Хотя свой сын слепой. Но и на Семена ее сердца хватило.
Но нет! Нет! Надо ехать! Скорее! Скорее от этих глаз! От села! Он торопливо закрывает дверь. Скорее. Не надо оглядываться. Ведь квиты! Она тебя, а ты Гришку спас. Подумаешь, некуда ехать! Есть куда. Там Скальп. Скорее!
Под ногами песок замер. Обсох валун. Пора идти. Прощай село. Прощайте воспоминания. Здесь умерли шесть лет. А он выжил и уходит. К воспоминаниям нельзя возвращаться.
– Жж-ив, жж-ив, – скрипит под ногами песок. Семен оглядывается. Вот и все. Исчез из вида совхоз. Скрылся за поворотом. Лишь узелки на песке. Но их тоже смоет. Кто вспомнит о нем. Скоро забудут. Да и что помнить? Кто он им? Чужой человек. Чужая жизнь. Она никому не нужна.
– Торопишься?
Гиря удивленно оглянулся. Панкратов! Ему-то что нужно?
– Тороплюсь, – ответил Семен.
—К кому?
— Не знаю.
– Останься.
— Зачем?
– Житьостанься. До сегодняшнего дня я не просил тебя. Сам знаешь.
– А что изменилось.
– Многое. Трудно нам без тебя будет.
– Кому?
– Мне, Андрею. Да и бабке.
– Не надо, Василий Иванович, жили же без меня.
– Жили. Покуда пришлым считали. А ты вон свою жизнь подставил. За Гришку. Не испугался. Не бросил. Жить заставил. И уходишь. А к кому?
– Найду что-нибудь.
– Зачем искать? Останься. Наш ты нынче. И хоть нелегко тебе приходилось, привык.
Гиря задумался. Что делась? Остаться? Но к чему? Да еще здесь? Но тут хоть уговаривают. Привыкли. Знают. Здесь он нужен. А там? Что там его ждет? Кто? Скальп? Да! С ним надо рассчитаться.
– Пошли. Пошли домой, – взял Семена за локоть Панкратов. И тихо укорил себя, что за все эти годы не замечал в Семене человека. А вон он какой. И рука не отпускает локоть.
– Вернешься?
– Да.
– Когда?
– Скоро.
Рука Панкратова тихо опустилась. Семен пошел медленно. Потом быстрее. Вот он оглянулся. Рукой машет. «Вспомнил, значит не обманет!» – подумалось Панкратову.
– Мы ждем тебя! – доносится до слуха Семена.
ТРУБОЧИСТ
Соболево… Он думал, что попадет в глухое, затерявшееся в лесах село. Где, вероятно, соболи сотнями бегают от дома к дому. Где в лесу можно прожить спокойно весь срок своего поселения. Не работая, не заботясь ни о чем.
Когда он увидел село, понял, что жестоко обманулся. Широкая, немощенная улица вела мимо домов, утопающих в зелени. Оттуда слышались смех, голоса. Около одного дома Трубочист остановился. Втянул носом воздух:
– Котлеты жарят.
– Иди живей! Ишь рот разинул! – прикрикнул сопровождающий. И он неохотно поплелся следом за ним.
В милиции дежурный оглядел Трубочиста с ног до головы. Ничего не сказал. Но глаза выдали. Они сказали за дежурного: «Не было беды на нашу голову. Так нате вам – свалилась». Начальник отделения милиции – брови сдвинул. Помрачнел заметно.
– Прибыл, значит? Ну-ну. Посмотрим. Учти! Если где напакостишь – щадить не станем. Враз назад в лагерь.
– Я работать приехал, – попытался успокоить его Трубочист.
– У тебя одна профессия. Знаю. Налетчик. Но у нас ты будешь скотником.
– Кем? – не понял поселенец.
– Скотником. На ферме!
– А это что такое?
– За коровами будешь смотреть. Чистить стойла, корм получать, раздавать. Воду носить коровам.
– Я их в глаза не видел ни разу! – признался поселенец.
– Мы тоже впервые вора видим. Но не пугаемся. Присмотримся, ник оно у нас получится. Склеится – живи. Нет – простимся.
– А заработок там какой будет?
Хороший. Никто не обижается. И тебе хватит, – улыбался чему– то своему начальник милиции.
Жить я где буду? – глянул на него поселенец.
– Жилье тебе готово. Комнатушка. Как одинокому, можно там пожить.
– Значит, к коровам? – грустно вздохнул поселенец.
– К коровам. А куда же еще? Иль не по нраву вам, Владимир Журавлев? Так что же мне тогда говорить? Или думаете, мы вашему приезду должны радоваться, как празднику? Не хотите – поезжайте назад.
– Нет-нет! Но я хочу работать там, где от меня польза будет! А тут! Я же городской человек! И ни разу в своей жизни не жил и не был в деревне.
– А жаль! Деревня – голова всему. Это – пробел в твоей биографии. Вот и восполни его! Познай, как хлеб насущный дается. Иди! Польза! Слышали мы про вас – трудящиеся воры! Иди! Да помни! Глаз с тебя ни днем, ни ночью не спущу! – И, глянув на сопровождающего, сказал: – Отведи его к Емельянычу. Скажи, чтоб в скотники. И пусть позванивает мне о нем.
Трубочист безнадежно вздохнул.
– Иди, либо человеком около скотины станешь, либо сам оскотинишься.
Поселенен хмуро побрел вслед за сопровождающим. Он уже не смотрел на село. Не слышал смеха, голосов. Дощатые тротуары скрипели под его ногами, будто смеялись старыми, иссохшими глотками над ним.
Заведующий животноводческой фермой, круглолицый Емельяныч, увидев поселенца, довольно разулыбался:
– В нашем полку прибыло! Это хорошо! Не горюй! Работа у нас, конечно, нелегкая. И с навозом придется повозиться. Но ничего – где воняет, там и пахнет. Заработок неплохой. Молока пей сколько влезет. Сметану тоже. Сливки. Ну и бабы у нас тоже – кровь с молоком. Половина холостячки. С ними не соскучишься. Иди! Знакомься! А вечером на жилье поведу тебя! – и подтолкнул Владимира к ферме.
Он открыл тяжелую дверь. И нос заткнул. В лицо ударило такими запахами, что в глазах потемнело.
– Эй ты! Или входи, или уматывай! Живо! Чего стал, открыв рот! – услышал он голос.
Поселенец закрыл за собою дверь. Шагнул. Огляделся. Глаза понемногу привыкли к мраку.
– Мм-уу! – прогудело совсем рядом. Поселенец впервые увидел коров. Они косили на него большими, черными глазами.
– Спокойно, милашки! Спокойно! – испугался поселенец, завидев, что у каждой из них есть крепкие рога.
– Спокойно, – подошел он к крайней рыжухе, которая, как ем показалось, смотрела на него дружелюбнее других. – Как зову тебя? А! Ромашка! – прочел он кличку на табличке, висевшей н головой коровы.
– Ромашка, Ромашка, – гладил он рыжуху, сдерживая брезгливость и заставляя себя не морщиться.
Корова задрала хвост и не успел Владимир отскочить, как брюки и ботинки его насквозь мочой пропитались.
– Курва облезлая! – ругнулся поселенец и только шаг сделал – попал ногой в сточную канаву. По щиколотку в навоз влез.
Где-то рядом бабий голос смехом зашелся.
– Ты что? Навоз от дорожки не отличил?
– Эй! Бабы! Спасай! Тут мужик в говне тонет! – крикнули рядом.
– В чьем? – послышалось неподалеку.
И не успел поселенец глазом моргнуть, как около него доярки собрались. Толстая, старая баба сочувственно головой качала:
– Угораздило эдак! До шеи весь перепачкался.
– Говно к говну липнет, – рассмеялась вторая, конопатая, пухлая бабенка.
– Ох! Скорей иди отмойся, – потащила Владимира к бочке с водой рыжеволосая, громадная доярка. И, вытряхнув поселенца из телогрейки, быстро очистила ее. Поворачивая его самого во все стороны, счищала с брюк налипший навоз.
– Ты не робей. Не гляди, что языкатые. С коровами о чем говорить? А друг с дружкой – никто не уступит. Вот и тебе досталось. А ты чей будешь? Что к нам занесло? Кто ты? – засыпала она вопросами поселенца.
– Скотником к вам пришел. Работать буду.
– Вот и хорошо. Помощник, значит. А звать тебя как?
– Владимир.
– С семьей?
– Один я.
– А кто ж тебя послал к нам?
– Заведующий Емельяныч.
– Где живешь?
– Сам не знаю. Что дадут.
– Эй! Бабы! Это же скотник, новенький! Идите знакомиться! – крикнула баба.
– Пусть подождет. Управимся вот тут!
– Успеем!
– Невелик начальник – прыщ на заднице.
– А чего знакомиться?
– Ладно, ну их! Возьми-ка лопату. Почисти стойла. – Помоги сено разнести. Так-то оно лучше будет. А управимся с дойкой – познакомимся, – сказала баба и ушла на другой конец фермы.
– Дикарки какие-то! Впервые в глаза человека видят и тут же осмеять норовят. Эх, деревня-лаптежница, – досадливо крутит головой поселенец.
Лопата выскальзывает из рук. Три стойла почистил, а устал. Владимир взялся чистить стойла напротив. В темноте не увидел доярку, сидевшую у коровы. Задел лопатой скамейку, на какой сидела баба. Та упала с грохотом. Выронила подойник. Корова шарахнулась в сторону.
– Прислали недоделка! Своих таких полно! Так и этот! Слепая задница!
– Чего орешь? Дура! – не стерпел поселенец.
– Кто дура?
– Ты! Кто ж еще?
– Ладно. Посмотрим, – поджала доярка губы и… запомнила.
Когда поселенец заканчивал чистить стойла, зашел Емельяныч.
– О! Уже работаешь? Молодец!
– Кого ты прислал, Емельяныч? – подошла к нему доярка.
– Скотника прислал.
– Он же пьяный. Меня обозвал. Вон бабы слышали. Убирай его от нас!
– Не слушай ты ее, малахольную, Емельяныч! Она сама его тут облаяла. Ну задел ее человек нечаянно. Она и заорала – вступилась за поселенца старуха.
– Это я малахольная?
– Ты! Брехунья!
– А ты – старая потаскуха!
– Эй! Бабы! Тихо! Не то обоим сейчас поддам. Ну, замолчите!
– Чего рот затыкаешь? Неспроста ее в передовики тянешь! Знать тоже у нее бываешь?
– Да заглохни, ты! – оттолкнул ее поселенец от Емельяныча. Старуха, вытирая фартуком глаза, молча отошла к своим коровам.
– Не буду я этой помогать, – указал Трубочист на горластую доярку – свою обидчицу.
Та насторожилась.
– А что, я за тебя за ее коровами ходить буду? Коровы при чем? Тебя ж никто не заставляет за дояркой ухаживать! – перебил Емельяныч.
– Еще чего! Это ж черт в юбке.
– А скотина не должна за нее ответ держать.
– Ладно. Хрен с ней, – сплюнул поселенец. И пошел разносить сено.
Когда доярки заканчивали дойку, поселенец уже накормил, напоил коров. Положил на подстилку солому и стал ждать, когда Емельяныч закончит принимать молоко у доярок. Те, сняв халаты, мыли руки. Собирались расходиться по домам.
– Как зовут тебя? – спросила поселенца старая доярка. Все бабы оглянулись на Трубочиста.
– Владимир.
– Ты б молока попил. Устал наверное. С нами тут не то живой человек, бес не сладит. Но ты не обращай внимания. Попей-ка вот молока. У моей Зорьки – самое хорошее, – взялась она за подойник.
– Хлеб есть у кого, бабы? – спросила старуха.
– Есть, – достала из сумки буханку хлеба та, которая приводила поселенца в порядок.
– Ешь. Володя. Не обращай на нас внимания, – подвинула она поселенцу громадную кружку молока и ломоть хлеба.
Поселенец ел с жадностью.
– Так, значит, работать мы начинаем с шести утра. Это первая утренняя дойка. Она заканчивается в восемь утра. Потом вторая дойка. В двенадцать дня. До двух. Потом в шесть вечера. И до восьми. На твоем попечении двести коров. Понял? – глянул на поселенца Емельяныч.
– Понятно.
– Так вот. Очистка, кормежка– это твое. На твоих плечах висеть будет. Кроме того, у нас есть десять быков. За ними тоже ты будешь смотреть. Но это с завтрашнего дня. Сегодня там без тебя все сделают. И еще знай: опаздывать на работу у нас нельзя. Прогуливать и тем более. Мы за это строго наказываем.
– Этого не будет, – сказал поселенец.
– Посмотрим, – и, повернувшись к дояркам, Емельяныч спросил: – Сегодня все довольны скотником?
– Довольны. Хорошо помог.
– На целых полчаса раньше управились.
– Мужик он и есть мужик, – говорили доярки. И только одна стояла молча в стороне, поджав тонкие, покусанные губы и зло косилась на поселенца. Он и не думал, что так скоро обзаведется здесь врагом.
Прямо с фермы, повел его Емельяныч на жилье, как он говорил. Комнатушка оказалась маленькой, темной.
– Вот, пока здесь поживи. А там посмотрим. Завтра под аванс денег выпишем, купи, что тебе нужно. И живи на здоровье.
Емельяныч вскоре ушел, а поселенец покрутив головой, в магазин пошел. Решил взять необходимое. Деньги имелись.
К ночи комнатка посветлела. Здесь уже прижалась к стенке раскладушка. Что ни говори – вдвое дешевле койки. А если учесть, что бабой он решил не обзаводиться, временное, если и подвернется – не и счет, то пять лет и на раскладушке потерпеть можно. Все ж не нары. Вон матрац какой пухлый. Хоть бока от досок отдохнут. И подушка есть – толстая, как вымя у коровы. И одеяло ватное. Красное. Даже глаза режет.
Поселенец подмел пол. Открыл банку консервов, бутылку пива:
– Ну! С новосельем тебя! – чокнулся он с собственной тенью на стене и залпом осушил стакан.
А вскоре на душе повеселело. И Владимир, опорожнив бутылку, улыбался довольный.
Соболево… Самые что ни на есть заброшенки. Здесь его, сколько ни старайся, никто не найдет. Ни один кент, ни одна малина. Да и кому придет в голову искать его на ферме? Среди коров. А он отсидится тут спокойненько за свои пять лет. За это время все его успеют забыть. Особенно те, с кем отбывал в лагере. У каждого свои заботы. А когда подойдет время – выйдет с поселения. Сам начнет промышлять. Сам. Без кентов. Так надежнее.
Вот только бы этот Клещ его не нашел. Ведь что ни говори – должок перед ним имеется. И немалый. Заплатил. И надо сделать. Ведь согласился. Взялся убить Скальпа. Но где искать этого Скальпа. Он же не дурак. Хотя вряд ли догадался. Да… Но… могли и его, Трубочиста, заложить кенты проклятые. И тогда Скальпа не так-то просто будет найти. А все ж интересно, сколько он на нем подзаработал? Лучше всех, конечно. Клещ платил. Да и Медуза. Муха – обижаться не приходится. Пайки – не в счет. Деньги! Золотишко! Вот это – ценно.
А они-то его простачком считали! Эх! Тоже еще! Воры! Вот он, к примеру, засыпался на вшивой лавчонке. Ну и черт с ней! С кем не случается? Они вон – считались ворами покрупнее, а тоже погорели. На одних нарах спали. Кто как попал. Кто сам словился, кому помогли. Какое это теперь имеет значение? Зато вот он! Даже из лагеря сумел все на волю вынести. Все. Весь заработок. До копейки. А на это голову иметь надо. Дураку не удастся. Они вон – «в законе», а даже с воли в лагерь не все смогли пронести. Хотя это гораздо легче, чем вынести из зоны. А он – обычный. «В законе» не был. Не ввели. А голова не глупее, чем у них. Всех вокруг пальца обвел. Всех! А сам и жив, и здоров, и с заработком. Две зоны обвел. Через два лагеря. И никто не догадался, что находится в вате его старой телогрейки. А ее, если тряхнуть – ого! Целое состояние! А этот дурак Муха за тряпки держался! Кому они нужны? Тряпки – мелочь. Надо прикидываться уметь. То ли дело он – Трубочист! Все в одной телогрейке ходил. Как в замусоленной шкуре. Никогда ее не снимал. Нигде. Зато уж если снимет, у многих глаза от зависти лопнут. Но он не дурак! Он рисковать не станет! Он походит в ней. На старье кто позарится? В ней ему тепло и безопасно.
Поселенец поглаживает задубелую от грязи телогрейку. Ее – если на пол поставить – не упадет. А все потому, что потом он в ней деньги зарабатывал. Помогала она ему. От глаз и сглаза берегла. От беды. А теперь вон! Тройной подклад! Ему любой бы позавидовал!
Владимир ложится на раскладушку. Спать пора. Утром чуть свет – на работу. Опаздывать нельзя.
Утром он бежит на ферму всприскочку. Как раз успел. Быстро за лопату схватился. Но коровы лежат, не хотят вставать. Поднимать их было нелегко. Помогали доярки. Старая Акулина сама своих коров подняла. Тихо, без шума. Другие так не умели. Взяла ведро. Помыла корову. И, зажав подойник коленями, принялась доить Зорьку. Тихо звенькали по подойнику тугие струи молока. Старушка что-то тихонько напевала. Корова жевала сено, стояла тихо, словно замерла.
Трубочист не мог оторвать взгляда от них. Чем-то тихим повеяло на него. Спокойным, древним. Будто когда-то он уже видел это. Хотя знал, что нет. Не приходилось. И стоял, как привороженный.
Где-то шумели другие доярки, бранились с коровами, поднимали их окриками. Те вскакивали испуганно. И вытаращив глаза-сливы, шарахались от доярок в разные стороны. И только старую Акулину коровы слушались с первого слова.
«Какие они у нее понятливые. Может потому, что с добром она к ним подходит, и коровы не ждут от нее плохого для себя?» – думал поселенец. И поневоле свое вспоминалось.
Большая была семья у отца Владимира. Одних детей восемь человек. Все голодные, полураздетые. Всегда злые, нервные. Отец – сапожник, день и ночь работал, чтобы семью прокормить хоть как-то. Чужим людям шил ботинки, туфли, сапоги. У своих огольцов и тапок не имелось. Чуть снег сошел – и до самых морозов носились ребятишки по улицам босиком. Всяк себе промышлял пропитание. С другим не делился. Знал, что тот от себя тоже не оторвет. Так в семье повелось. Мать – прачка тоже чужим стирала. В доме всегда стоял запах мыла, сырости. Покуда мать и отец были заняты каждый своим делом, в доме было терпимо. Но к ночи, когда каждый подсчитывал свой заработок за день, вспыхивали ссоры. Потом драки. Так было всегда. А потом отец запил. С горя. Или с усталости. Ему надоело жить. Надоело драться за жизнь, какая потеряла для него весь смысл. А мать ушла. К другому. Одна. Бросила всех. Забыла. И не видевшие от нее ласки, дети скоро забыли ее и ни разу не пожалели о ней. Она была и не была. Она была как сон – ругливый, оборванный. Хотелось другого. Ведь вон соседки – иные. Но то чужие… Можно заменить хлеб калачом. Но мать, какая ни на есть, одна на всю жизнь дана. Но и той не стало. Сама ушла. За долгие годы нужды возненавидела мужа. А заодно остыла и к детям. Она ни разу не пришла к ним. Не проведала. Не принесла гостинца даже на праздник. Будто их и не было у нее. Старшие – ладно. Но вот трехлетнему меньшому брату туговато приходилось. И, дождавшись, пока пьяный отец уснет, подкрадывался потихоньку, воровал из пьяных рук хлеб, кусок селедки. И убегал под стол. Там ел оглядываясь, как бы старшие не отняли добычу. Сказки, гостинцы, подарки, все это миновало семью. Дети не знали этого. Они не имели игрушек. Да и до них ли.
С того дня, как ушла из семьи мать, ребятня стала быстро взрослеть. Много лет никто из них не знал, куда делась их мать. Никто ее не видел. Никто. Кроме Владимира. Но и он встретился с нею случайно.
В эту ночь он с кентами сорвал неплохой куш. Тряхнули галантерейный магазин. И обмывали удачу. А тут– милиция. Пришлось срочно смываться. Выскочил на улицу и Трубочист. А тут – похоронная процессия. Пристроился к идущим. Шел за гробом целый квартал. Милиция его не тронула. Отстала. Хотел он уйти. Глянул на покойника. И… узнал. Мать лежала в гробу, чистая, тихая, нарядная. Женой адвоката умерла. При жизни никогда не помогла сыну. Смертью своею его спасла. Случайно. Сама того не знала.
Владимир снял шапку. Прошел за гробом еще немного. Старый адвокат шел рядом. Он не узнал Володьку, а парень вспомнил его. Когда– то мать стирала ему. Тот был холостяком. А потом… Вот и льет теперь слезы. Вытирает чистым платком. Ее он будет помнить. Чужой. Возможно, есть за что. А сын, замедлив шаг, отстал от процессии. Свернул в первый же закоулок. Не мать оплакивал, нет! Двоих кентов, пойманных в этот день милицией.
– Ну чего стоишь? Пора корм скотине давать. Помоги комбикорм разнести! Стал, как дубина! – прикрикнула доярка Валька Торшина, ставшая вчера врагом Трубочиста.
Владимир вздрогнул от резкого окрика бабы и, повернувшись к ней, процедил сквозь зубы:
– Помог бы я тебе, стерва горластая, пасть вонючую твою заткнуть!
– Что? – опешила баба.
– Иди! Иди с дороги.
Выхватив ведра, он носил напаренный комбикорм, раскладывая его по кормушкам. И не видел, как досадливо качала головой при виде его старая Акулина.
Потом он разносил коровам сено, воду, подчистил стойла, вывез навоз из сточных канав. И, разнеся подстилку коровам, взял скребок, решил помочь бабке Акуле коров ее группы почистить. Другие доярки заметили это. Подтрунивать стали:
– Эй, Акуля, скажем старику твоему.
– Володька, ты молодым помоги. От них, холостячек, хоть толк будет.
– Эй! Вовка, у бабки дочек нет. Зря стараешься.
– Смотри! У ее старика ружье есть! И он еще сам на баб заглядывается.
– Ладно! Вы! Вам бы язык корове на хвост подарить. Ни одна муха не сядет! – ругался поселенец.
Молчала только сама старуха. И тогда Валька Торшина решила свое слово вставить:
– Не дурак он, бабы! Решил взять, где легче. А старухе что терять?
Трубочист побелел. Сделал шаг к бабе:
– Тебе сотни быков мало будет, если и на день…
– А ты видел?
– Клеймо у тебя стоит. На всю рожу. Его не только я – все видят.
– Ах ты, прощелыга! Тебе ли о клейме тут говорить? Тебе ли – жулик проклятый! – схватилась баба за лопату. Замахнулась. Но тут же, откинутая поселенцем, полетела в сточную канаву.
– Бандит!
Но кругом смеялись доярки, держась за животы. До слез, до коликов. И Торшиха, прикусив губы, решила отплатить поселенцу за пережитый позор и унижения.
А тут подошло время выгонять коров на пастбище. И доярки заранее радовались. Радовался и Трубочист. Что ни говори, теперь ему не придется целые четыре месяца чистить навоз, таскать воду коровам. На пастбище за каждую корову – пастух ответчик. А не он. Но какую работу теперь поручат ему? Чем он будет заниматься все лето? Без дела, конечно, не оставят. Но заработок? Не проиграет ли он в нем? Ведь Володьке так не хотелось тратить то, что нажито в лагере. Да и кому это понравится? И Трубочист решил поговорить с Емельянычем. Тот, выслушав поселенца, сказал, что работать он будет при доярках. Помогать им загрузить бидоны с молоком в телегу. Поймать коров в загоне и привязать, чтобы бабы быстрее управлялись. Носить воду для мытья коров.
– Дел у тебя хватит. А получать будешь с надоев. Это выгодней. Но забот не убавится. Летом работать тяжелее, – предупредил заведующий фермой.
А через неделю поселенец впервые поехал вместе с доярками на пастбища. Коров сегодня утром увел пастух из села.
Теперь он вместе с бабами проживет здесь все лето. До самой осени. Сегодня к загону отвезли две будки. В одной доярки жить будут. В другой – поселенец и оба пастуха. А еще сторож. Муж бабки Акулины.
Среди зелени, в уютном уголке стояли будки. Бок о бок. Как две сестры. Дни выдались погожие. Теплые. И доярки, управившись с коровами, бежали на речку. Загорать.
Решил сходить с ними и Володька. Старая Акулина сидела на берегу. Сняла платок. И была похожа на старую русалку, распустившую по плечам волосы. Густые, черные. Другие доярки уже разделись и, подстелив кто что мог, лежали на солнце, впервые не ругались.
Володька даже опешил. У рыжей, громадной Ольги оказалась такая белая, нежная, как у ребенка, кожа. Она даже просвечивалась и отдавала прохладой. Будто не тело, а душу бабью, слабую, незащищенную, тщательно скрывала она под одеждой своей.
Володьке нестерпимо захотелось погладить ее по плечу. Пожалеть. Успокоить. Нет, не как бабу. Как девчонку. Большую и обиженную. Поделиться с нею своим теплом. С первой: знал: любила Ольга парня. А он отслужил и уехал. Забыл ее. А она – нет.
А рядом с нею лежит Нина Ухова. Ох и глотка у нее! Но сейчас она молчит. Заснула. А может дремлет в своих воспоминаниях. Лежит не шевелясь. И поселенца мороз по коже продирает. Какие у нее ноги! Словно выточенные. А бедра. Линии нежные. Но ноги! От них невозможно оторвать взгляд. Ведь вот столько раз она проходила мимо. Но разве в сапогах что увидишь? А тут! Эх! Вовка с трудом переводит взгляд на ту, что лежит рядом. Кто? Лицо полотенцем прикрыла. Ну и грудь! Вот так да! В два добрых кулака. Тугая.
Поселенец рассматривает бабу внимательнее. Круглые плечи ее расслаблены. Руки закинуты за голову. Кто это? Торшина! Да, вон и губы ее из-под полотенца кривятся. Трубочист перескакивает взглядом на другую бабу. Это Аня Лаврова. Маленькая, будто игрушечная. Нежный пушок все тело покрыл. Какое оно славное. Гибкое. Упругое. Вот только ноги немного кривые. А эта? А! Вот она – копна конопатая. Лежит кверху спиной. Зад солнцу подставила. Ну и ну! На эту задницу добрый десяток мужиков можно посадить. Всем места хватит. А спинища! Целая стена. Шире дома. За такой спиной пять «малин» спрячется. Да так, что ни один лягавый не догадается.
А эта? Что за нахалка? В такой бесстыдной позе средь бела дня? Любуйтесь на нее. Старик сторож и тот, глянув, крякнул и, покраснев до самой лысины, пересел подальше от греха.
– Ну подожди, шалава! – решил Володька. Опустившись бегом к реке, набрал полное ведро воды и окатил бабу. Та с визгом подскочила. К Вовке кинулась. Он сделал вид, что убегает, а сам резко повернулся, охватил ее, голую, и в воду затащил. Там всю облапал.
– Уйди!
– А зачем ты так легла?
– Пусти!
Но он тянул ее в речку подальше от берега. Она вырывалась. И он, решив подшутить, отпустил ее руку. Танька сразу плюхнулась в воду, обдав поселенца столбом брызг.
Он кинулся за нею. Поймал. Нахально разглядывал ее. Потом к себе притянул.
– Уйди! Черт! – побежала она к берегу. На шум доярки головы подняли.
– Эй! Вы что там? Не мешайте!
– Бабы! А наш Вовка-то – мужик! – орала Танька во все горло.
– Тащи его сюда!
– Проверим!
– Отвяжитесь вы от человека! Охальницы! Ишь семя греховодное. Глаза бесстыжие! Отпустите вы мужика! – ругался старик сторож. Но бабы не слышали и не хотели слушать его.
Ухватив поселенца, они навалились на него кучей, мяли его, тискали. И гогочущим клубком в речку скатились. Там обливали друг друга водой, охлаждали пыл, чтоб не зайти в игре дальше. Не перейти границ дозволенного.
На берегу осталась лежать лишь Торшиха, подставив солнцу свои громадные, вздыхающие по-коровьи груди.
«Не обратил внимания, на другую глянул. С другими возится. Ее нет для него. Но она не может как эти. Она хочет не просто так. Не в кустах. А чтоб походил он за нею. Собакой, по пятам. Помучить его ей хочется. А уж потом… Ведь мужик. Их в селе по пальцам счесть можно. В том-то и беда. Любому рады. Но баб и девок полно. Она не одна. Вон они визжат там с ним. Желающих хоть отбавляй. Не у всех такие как у нее груди. Но и с ними можно в старых девах засидеться. Ему то что? А ей каково? Хотела ему отомстить. Довести. Ан даже не оглянулся», – вздыхает Торшиха. И решила, что не все еще потеряно.
А Володька – весь мокрый, вырвался кое-как из цепких рук доярок, пустился во весь дух наутек. Бабы хохотали ему вслед. Грозились поймать его и не выпустить.
Ни он, ни доярки, так и не поняли, как случилось, что именно там в реке сломался ледок меж ними. И если раньше никому не было дела до того – поел поселенец или нет, то теперь без него за стол не садились.
Он не просил, само по себе случилось, что вперемешку с бабьим бельем, стали сушиться на веревке и его рубашки, майки, носки. Зачастую он даже не знал, кто это делает. И принимал за должное. Да и что тут особого? Он им помогал, не спрашивал, они – ему.
Вечерами, когда работа заканчивалась и над загоном опускалась ночь, разводил старик сторож костер. Начинал печь картошку. Для всех. Собирались к костру доярки. Садились в кружок. Говорили тихо. Вполголоса. И все просили старика рассказать какую-нибудь историю.
Сторож, пожевав рыжий от махорки ус, головой качал. Знал, любят доярки сказки, а называют хитро потому что себе стыдятся признаться, что в детстве сказка обошла их, а в жизни все лишь горькое окончание ее узнали. Ни у кого из доярок нет отцов. Погибли. Старших братьев нет. Погибли. Младших сестер и братишек нет. Вдовы их матери.
А потому жалел их сторож. Как мог скрашивал дояркам несладкую их жизнь. Утешал их сказкой. Вот и теперь в кружок уселись. Смотрят на него ожидающе. Глазами – дети. Жизнью– старухи.
Печеную картошку и то есть не научились. Вон как лица перемазали. Смех один. И этот… Тоже хорош. Голову на колени к Цинке положил. А Ольгину руку гладит. Ну и гусь, – дернул усом сторож.
– Дед, расскажи! Что-нибудь, – просят бабы.