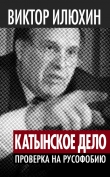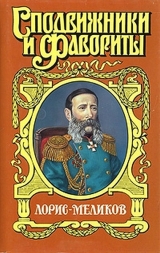
Текст книги "Вице-император. Лорис-Меликов"
Автор книги: Елена Холмогорова
Соавторы: Михаил Холмогоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц)
Приказы эти немало потешили Николая Николаевича Муравьева.
– Распоряжения сии, – заметил он, – указывают довольно странное направление, господствующее в умах начальников, коим доверено преобразование армии в столь тяжкие для Турции времена. Но увы, нам воевать не с Измаилом-пашою, а с Вильямсом, так что пусть вас, господа, не успокаивает глупость командующих. С такими советниками она исправима.
– В Порте, – в тон генералу заключил Дондуков-Корсаков, обладавший ловким умением завершить разговор мыслью, точно совпадающей с настроением начальника, – султан царствует, а управляет английский посланник.
Муравьев замыслил плотное обложение Карса, для чего в первую очередь следовало лишить противника доступа к запасам продовольствия. Лазутчики Лорис-Меликова уже разведали расположение основных провиантских складов – магазинов в селах Бегли-Ахмет и Чипчахлы. Ему и было поручено захватить их. Ох и поживились же его охотнички!
Из захваченных магазинов все, что только можно было вывезти в лагерь для снабжения русских войск, было немедленно вывезено на арбах местных жителей. Остальное сожжено.
На войне единожды счастливо выполненная задача запросто может превратиться в постоянную обязанность. Теперь, помимо разведки, Лорис-Меликов, хотя никто ему этого вроде бы не вменял, стал своего рода главой интендантской службы, снабжающей трофейным провиантом осаждающую армию.
Из крепости для пополнения фуража турки высылали роты косцов. Охотники Лорис-Меликова налетали на них из засады, забирали скошенное сено и исчезали. Тогда фуражиры стали выходить в сопровождении кавалерийских отрядов, но и это не помогло – налеты были стремительны, и хотя исчезать приходилось без добычи, но и туркам ничего не доставалось. Особенно азартным делом для команды охотников стал угон скота, который обитатели крепости вынуждены были хотя бы ночами выгонять на выпас.
Во время таких операций, естественно, брались пленные, Лорис-Меликов сам вел их допросы. На беседы с пленными он всегда выходил в мундире и при всех своих орденах. Столь торжественный выход к какому-нибудь нижнему чину вселял в душу пойманного турка трепет, но ласковая улыбка русского полковника и его правильный турецкий выговор невольно развязывали самые короткие языки. Человек, изо всех сил крепившийся не выдать никаких тайн, сам не замечал, как разбалтывался с душевной откровенностью, а когда спохватывался… Слово не воробей, вылетит – а этот хитрый полковник уже поймал, уже занес в свою записную книжечку.
Часто пленных отпускали – кого домой к своему хозяйству, а кого и назад, в осажденный Каре. Они становились агентами Лорис-Меликова в крепости, куда чуть ли не еженощно проникали смельчаки из охотничьей команды. Особой ловкостью и бесшабашной отвагой выделялся среди них юнкер милиции: Даниил Арутинов. Этот ушлый ереванец к середине лета знал: весь Каре как свои пять пальцев, на каждой улице у него были кунаки, а для воинской комендатуры он оставался неуловим. О проделках этого доблестного юнкера наслышан был даже сам главнокомандующий.
Николай Николаевич, долго и недоверчиво присматривавшийся к своим ближайшим генералам и штаб-офицерам, в конце концов оценил необычайные способности Лорис-Меликова. Он диву давался, как это полковник умудряется предводительствовать своей разношерстною анархическою публикой.
Много лет спустя, составляя мемуары о Крымской войне в Турции, он так и не найдет причин своего восторженного изумления. «Местные милиции собрались уже в конце мая; между ними замечательны были названные в росписи войск три сотни охотников полковника Лорис-Меликова. Они составлены были из сброда людей всякого звания и состояния, большею частью из армян, как турецкоподданных, так и наших. Были между ними и грузины, и жители наших мусульманских провинций, беглые от нас и от турок карапапахи, турецкие греки и даже один русский. Беспардонная дружина сия отличалась отвагою, расторопностью и знанием местностей. Трудно было сохранить между ними строгий порядок по беспрестанному приливу и отливу всадников, записывавшихся в сотни и часто произвольно уклонявшихся. Случались между ними ссоры, кончавшиеся поножовщиною и даже смертоубийствами. Но сей иностранный легион оказал во многих случаях большие услуги. Всегда можно было найти в нем лазутчиков и проводников, ибо люди, его составлявшие, всюду имели родных и знакомых; они заменяли казаков для дальних разъездов и поисков, любили перестрелку с неприятелем, отчаянно домогаясь всякой добычи. Не было более надежных для быстрой пересылки важных бумаг в отдаленные места, что избранные гонцы, движимые молодечеством и каким-то чувством чести, всегда исполняли с верностию. В сборище сем всегда видны были новые лица, случалось даже духовного звания. Нет сомнения, что между ними таились люди, передававшие и от нас вести неприятелю, но сего нечего было опасаться при совершенном неведении в лагере о намерениях начальника; напротив того, сим путем можно было распространять любые слухи и известия. Полковник Лорис-Меликов, начальствуя над сими тремя сотнями, при многих других обязанностях по сношениям с заграничными жителями, мог вполне удовлетворить и павшим на него уже само собою обязанностям капитана над вожатыми».
А обязанности эти подчинили в ходе войны полковнику Лорис-Меликову и другие полки, состоящие из карабахских дружин, двух полков турецких курдов, карапапахской милиции – короче, все иррегулярные войска, действовавшие в составе главного Александропольского отряда. Курды, которых Муравьев знавал по прошлым кампаниям, не внушали ему особого доверия. Их поведение в ходе нынешней войны весьма подивило многоопытного генерала. «По привычке курдов к кочевой жизни и к пребыванию летом на открытом воздухе, они безропотно выдержали непогоды и дожди, не имея палаток, и удержались в своем составе до наступления холодов, к чему способствовало и ловкое с ними обхождение полковника Лорис-Меликова, умевшего постоянную с ними ласку заменить, где нужно было, строгостью. Их привязывало также природное корыстолюбие, удовлетворявшееся исправною выдачею им ежемесячной денежной платы в жалованье и на содержание лошадей; обе суммы они сберегали, почти ничего не употребляя из оных на свое продовольствие, так что надобно удивляться, чем они существовали». И все же Муравьев ломал голову, как бы так сделать, чтобы курды и служить продолжали, и держались от основного лагеря подальше. Дьявольский ум Лорис-Меликова решил столь мудреную задачу.
Блокада стягивалась вокруг Карса все туже, но войска наши не сидели на одном месте – постепенно движениями в разных направлениях территория, подвластная русскому управлению, расширялась. Еще в июне турецкая армия покинула город Ка-гызман – центр санджака, административной единицы, средней между русским уездом и волостью. Однако ж край этот настоящим образом не был приведен в покорность. После бегства мудира – военного правителя Кагызмана – его гражданские правители имели сношения с Карсом и хотя обещали явиться в лагерь к русскому главнокомандующему, слова своего не держали, надеясь остаться, как в кампанию Паскевича[25]25
Паскевич Иван Федорович (1782-1836) – русский военный деятель, генерал-фельдмаршал. С 1827 г. – управляющий Кавказским краем. В войнах России с Ираном (1826-1828) и с Турцией (1828-1829) русские войска под командованием Паскевича заняли Таврию, крепости Каре, Эрзерум и др. В результате от Ирана отошли к России армянские провинции Эривань и Нахичевань. В 1831 г. Паскевич подавлял восстание в Польше. В Крымскую войну 1853-1856 гг. Паскевич был Главнокомандующим русской армией на Дунае (в марте-мае 1854 г.).
[Закрыть], в забвении. Надежд этих решено было не оправдывать, и Лорис-Меликов был направлен в эту крепость на берегу Аракса для установления там, а также в центре соседнего санджака Гечеване гражданского управления.
9 июля Лорис-Меликов выступил из лагеря с дивизионом Нижегородских драгун, сотней линейных драгун, сотней охотников и тремя сотнями курдов. После усиленного перехода на другой день отряд прибыл к селу Хар, лежащему в начале долины Аракса. С другой стороны от села Огузлы ему навстречу двигались войска, недавно прибывшие из Тифлиса и присланные в помощь Лорис-Меликову из Александрополя: сотня грузинской дворянской дружины, конно-мусульманская сотня и две сотни донских казаков. Появление наших войск с двух сторон для жителей Кагызмана было неожиданным и свидетельствовало о полной безнадежности всякого сопротивления. На свою армию уповать было нечего, и город, во всех войнах поставлявший самых метких стрелков, выслал к русскому военачальнику с признанием полной и безусловной покорности делегацию от дивана – местной мэрии, как сейчас сказали бы. С ними явились и джунуки – старшины общества курдов.
В Кагызмане, встреченный как почетный гость, Лорис-Меликов все же обнаружил, что турецкие войска вывезли из города все продовольственные запасы. Трофеев только и было что шесть ящиков с патронами. Но радоваться надо было одному уж тому, что город покорился без кровопролития. Остальное – наживется, тем более что урожая ждать недолго.
11 июля к Лорис-Меликову явились старшины соседнего Гечеванского санджака. Русский полковник тотчас же приступил к организации местного управления в обоих санджаках. Оставив кадия и членов диванов на своих прежних должностях, он определил правила для взноса податей, мало чем отличавшиеся от турецких, и указал править в старинных обычаях – покорение русскими войсками не должно означать никаких перемен. Но кадиям и обоим диванам представлен был командир курдского полка Ахмет-ага. Это вызвало глуховатый ропот – турки презирали хищническое свободное племя и заведомо почувствовали неуютность подчинения его представителю, хоть и в русской офицерской форме.
– Ничего, – успокоил Лорис-Меликов, – при господине Ахмете-аге я оставляю майора Попко, в случае каких-либо недоразумений или, не дай Бог, с его стороны притеснений обращайтесь к Ивану Михайловичу.
Иван Михайлович Попка, еще не получивший высочайшего указа от нового царя об исправлении фамилии своей, был чрезвычайно польщен твердым произношением ее с четким ударением на о, услышанном из уст смешливого Лорис-Меликова. Он весь зарделся от гордости, и теперь он, уж будьте благонадежны, будет самый ревностный исполнитель не то что указаний – намеков полковника.
Курдские полки под управлением Ахмета-аги усердно охраняли покой вверенных им санджаков. Близкий надзор над ними Лорис-Меликова держал их в респекте, и со стороны населения, как ни странно, на них никаких жалоб не поступало. Таким-то образом исполнилось и желание Муравьева держать курдские полки и в повиновении, и в достаточном отдалении от нашего блокирующего лагеря.
1 августа 1855 года кольцо вокруг Карса замкнулось. Все дороги, даже тропинки из города были надежно перекрыты. Рейды драгун Дондукова-Корсакова и охотников Лорис-Меликова вдоль Саганлугского хребта очистили пути в Эрзерум и Ольту. В городе все ощутимее и грознее чувствовался недостаток продуктов. Генерал Вильяме, фактически возглавлявший оборону, ужесточал нормы выдачи хлеба сначала мирным жителям, потом и солдатам. Началось бегство из осажденного города. В начале сентября по приказу коменданта беглецов стали отлавливать и предавать публичной казни. Однако ж голод не тетка, а ежедневный вид жестокости властей перестает пугать. Через неделю бегства возобновились.
Главнокомандующий Кавказской армией генерал-адъютант Николай Николаевич Муравьев приступил к оперативной разработке плана штурма крепости.
Каре будто бы самим Господом Богом был сотворен для надежной обороны. Город располагался по двум берегам реки Каре-чай, с трех сторон охраняемый крутыми скалистыми горами. На севере правобережной части возвышалась каменная цитадель, окраины обнесены были мощными стенами. На подступах к городу в помощь Богу англичане построили по самому последнему слову инженерной техники неприступные форты, соединенные рвами, брустверами, волчьими ямами.
С правобережной стороны, защищая южную и юго-восточную часть Карса, были возведены целые крепости – Сувари, Канлы, Февзи, Хафиз. На севере возвышались Карадагские горы, и здесь были обустроены форты, обращенные к востоку и северо-востоку, башня Зиарет, соединенная траншеями с укреплениями Карадаг и Араб.
Совершенно неприступными казались форты Инглиз, Блум, Мухлис, расположенные у северных окраин левобережного Карса. Здесь можно было лишь демонстрировать свои намерения, но, ввязавшись в бои, войска рисковали увязнуть и не достигнуть цели.
Западные укрепления, защищавшие также левобережную часть города, опирались на крутые Шорахские высоты и были вооружены мощными орудийными батареями, обустроены крепкими казематами. Но они находились, в отличие от прочих укреплений, в наибольшей отдаленности от города, и была надежда, захватив их, открыть себе в крепость прямую дорогу. Видимо, этим соблазном и следует объяснить выбор главнокомандующим форта Тохмас-табия для нанесения главного удара.
Выбор был неудачным. На военном совете мало кто поддержал Муравьева, резонно полагая, что столь надежное укрепление едва ли можно одолеть стремительной атакой. Упрекали командующего и в нетерпении – турок следовало бы еще с недельку-другую потомить голодом. Но тут все уперлось в крепкий и упрямый характер старого генерала. Бакланова, предложившего иное направление атаки, он оборвал на полуслове:
– Яйца курицу не учат!
На этом все дебаты окончились.
Накануне штурма, чтобы соблюсти тайну приготовлений, все иррегулярные войска – полки курдов, карабахское ополчение, охотники Лорис-Меликова – были выведены из основного осадного лагеря к селению Магараджик, на самый правый, отдаленный от фронта атаки фланг. Тем самым и сам полковник Лорис-Меликов, к величайшей своей обиде, отстранялся от активного участия в штурме. Он был причислен к третьей колонне генерала Нирода, которой предназначалось вступать в сражение только в случае успеха первой колонны генерала Ковалевского, промежуточной колонны князя Гагарина и второй – генерала Майделя.
Что его туда понесло, какая сила? К вечеру 16 сентября Лорис-Меликов забрел в расположение Ряжского полка. Странное дело, они с Хлюстиным воевали бок о бок почти полтора года, но после того вечера, когда ряжские офицеры упоили Лориса вусмерть, так толком и не виделись, лишь здоровались второпях. Братство воинское, братство школярское суть понятия эфемерные, когда звезды на эполетах разнятся числом и размером. Как ни прославлен отвагою в боях, как ни прост в обращении Лорис-Меликов, но гвардейский полковник есть гвардейский полковник, к тому же и обращается он в сферах высших, неподступных простому армейскому капитану, ротному командиру. Оба это чувствовали и сближения не искали, даже натянутость, неловкость ощущалась при случайных встречах.
В Ряжском полку происходила та торжественная суета, какая всегда бывает перед боем, давно ожидаемым, тем боем, ради которого и существует армия. Это совсем не похоже на то волнение, которым охвачены солдаты на рубке леса где-нибудь в Чечне или перед рейдом на Саганлуг. Суета сегодня была тихая, почти бесшумная, в движениях были скупы, а разговаривали вполголоса.
Хлюстин – трезвый, до сияния выбритый – запечатывал конверт. Что в нем, ясно каждому: завещание и последний привет родным.
Михаил поздоровался первым и как-то так улыбнулся, чуть робковато и застенчиво, что разница в положениях мгновенно улетучилась. Тут же Лорис-Меликов и посетовал шутливо:
– Да что ж я за болван такой, с пустыми руками пришел. Надо было б гостинчик захватить. Помнишь гостинчики из Тифлиса?
Хлюстин посмотрел на приятеля долгим печальным взглядом и совершенно серьезно, не принимая шутливого тона, ответил:
– А знаешь, Мишка, мне сегодня отчего-то стыдно за те твои гостинчики. Как мы с Колькой и Митькой налетали на тебя, отбирали… И вообще за все стыдно. Тридцать лет прожил, всегда был всем доволен, даже когда из гвардии выперли за пьянство и игру, а вот теперь стыдно. И за себя, и за братьев.
– Да брось ты, то ж было далекое детство. А дети все, признаться, жестоки и безответственны.
– В том-то и беда! Видишь, как Бог нас устроил: понять ничего не успели, а в грехе по уши увязли. Я в последнее время, ежели трезвый, только о том и думаю. Кого ни вспомнишь – всех вокруг обидел. Злым не был вроде никогда, то есть не замышлял, чтоб кому-то от меня плохо было, а просто и бездумно обижал. Женщин понапрасну обнадеживал, да так ни на одной и не женился. Поверишь ли, сегодня у Васьки, денщика моего, прощенья просил. Да ничего он, скотина такая, не понял. Только момент испортил и в соблазн ввел. Так и захотелось по его глупой роже съездить. Еле удержался. А ты-то, Миш, понял меня?
– Ты так говоришь, будто… – И прикусил язык на готовой слететь неуместной фразе. Все же закончил, не лучшим образом, но иначе: – …Будто хочешь у меня прощения просить.
– Не у тебя, у всего мира. Ты пойми – тридцать лет прожил, а, кроме стыда, ничего не нажил. И война эта дурацкая… Дмитрий из Севастополя калекой вернулся. И чем все это кончится, одному Богу известно. Как дальше жить, надо думать, а я не понимаю, что сейчас в России творится. Еще два года назад было все ясно как день. Был порядок. Я знал свое место. Что оно скромное – мое дело. Наверно, если б не пил и не играл, тоже был бы в хороших чинах. Но это я сам так распорядился. А сейчас я сам не знаю, кто я такой.
– Как был, так и есть – капитан Ряжского полка Иван Хлюстин.
– Да ты сам понимаешь, я не о том. – Иван скривился в досаде и мучительном поиске верного слова. – Сейчас капитан – не то, что год назад. Я был защитник престола и отечества. Плохой, хороший, но был таковым. А теперь… Севастополь сдали, из Румынии убрались. Из деревни вести – хуже нет. Мы, помещики, уже не хозяева в доме своем. Николая собственные крестьяне под суд отдали за то, что пьяницу кучера запорол. Крестьяне! – Такой конец для старшего из братьев Хлюстиных удивления не вызывал: если он с дворовыми был так же жесток, как с вандалами в Школе… – Грех говорить такое, но мне кажется, что Николай Павлович всю Россию за собой в преисподнюю поволок. Гибнет, гибнет страна!
– По-моему, в России самое интересное только начинается. Я тоже, братец ты мой, мало что понимаю, но от нового царя жду многого. Прежний-то нас, как Сусанин поляков, завел в беспросветную глушь, а теперь выбираться надо.
– Знать бы куда!
– Бог укажет. Мы с тобой, Иван, люди служивые, подневольные. Нам даже легче, чем остальным. Во всяком случае, на завтра задача ясна. Бить турок.
– Это-то понятно. А что дальше-то?
– А дальше думать надо.
– Надо. Только думать нас, Миша, никто не учил. И были правы. От мыслей ничего не зависит. Ни Россию, ни нас самих не переделаешь.
– Не предавайся мрачности, Иван. Тебе завтра в бой идти. – Лорис, подчинясь сентиментальному порыву, обнял старого своего товарища. Ох, не понравился ему настрой Хлюстина.
Штурм начался в 4 часа утра 17 сентября 1855 года. Колонна генерала Ковалевского начала восхождение к высотам, на которых было расположено укрепление Тохмас-табия, слева. Во фронт пошла колонна князя Гагарина. И первые полчаса казалось, что вот-вот, еще немного – и наши солдаты ворвутся в турецкий форт: ведь первый ряд траншей одолели, бились во втором… Генерал не утерпел, вырвался вперед. И упал, раненный в грудь. Его место занял полковник Шликевич. Успел крикнуть: «Ура, ребята!» – пуля угодила прямо в лоб.
И атака захлебнулась. Ряды смешались, офицеры потеряли всякое управление боем, турки осмелели, выскочили из своих укрытий, и началась рукопашная свалка.
Князь Гагарин повел свою колонну на выручку и первый упал, как и Ковалевский, раненным в грудь. И здесь атака захлебнулась.
Генерал Муравьев направил в помощь двум этим колоннам отряд генерала Майделя. Кое-как удалось пригасить панику, битва шла с переменным успехом, но момент уже явно упущен. К полудню из Карса турки выслали свежую кавалерию и не менее трех полков пехоты. И опять первым делом противник лишил колонну ее командующего – генерал-майор Майдель повел было людей в атаку и, раненный, упал с коня. И эта колонна потеряла управление, разбилась на мелкие отряды, где каждый командир действовал сам по себе.
Колонна генерала Нирода, в составе которой были охотники Лорис-Меликова, напрасно прождала сигнала к атаке. С юга, куда и направлена была резервная колонна, штурм, несомненно, принес бы успех. Но ведь сказано: яйца курицу не учат. А вести с фронта атаки приходили все хуже и хуже, преувеличенные расширенными глазами очевидцев.
В 6 часов вечера Муравьев прислал адъютанта за Лорис-Меликовым. Приближаясь к главной квартире, полковник видел печальную картину затухающего сражения. Осадная артиллерия прикрывала отступление, отсекая турецкую конницу. Из-под огня выносили раненых и убитых, с поля боя отходили мелкими группами. Знакомая фигура увиделась полковнику: и даже сквозь грохот и голос послышался:
– Братцы, за мной!
Это уж полное безрассудство. Капитан Хлюстин повлек свою роту на штыковую запоздалую атаку против явно превосходящего числом отряда преследователей. Лорис-Меликов, забыв приказ, направил было коня туда, к ряжцам, – спасти, выручить из дурацкой мясорубки Ивана. И прямо на его глазах Хлюстина рассек от плеча могучий усатый турок, солдаты штыками прорвались сквозь вражескую цепь, но бой был короток и безрезультатен. В нем потеряли еще четверых.
Лорис-Меликов опомнился и повернул коня в сторону главной квартиры.
В ставке главнокомандующего подтвердились почти все безрадостные известия. Разве что командиры штурмующих колонн Ковалевский, Майдель и Гагарин были не убиты, а только тяжело ранены.
Генерал был мрачен, но решителен. Лорис-Меликов предполагал, что поступит команда ввести в бой свежие силы и его охотникам предстоит выполнить какую-то особо хитроумную стратегическую задачу. Ничего подобного. Последовал вопрос, которого он меньше всего ожидал:
– Скажите, полковник, а есть ли у нас возможность найти топливо и фураж, чтобы продержаться два месяца?
Возможности такие, несомненно, были, и после недолгих раздумий Лорис-Меликов стал докладывать, где он рассчитывает раздобыть дрова, саман, сено.
Во время доклада в палатку вошел генерал Бриммер. Он командовал резервной колонной, расположенной у Чахмакских высот, и, в отличие от Нирода, своими глазами видел неудачу штурма.
– Ваше высокопревосходительство, в котором часу завтра прикажете выступать войскам? – Бриммеру ясно было, что Карса в этом году не взять и пришла пора заботиться о сохранении Кавказской армии.
– Прикажите, Эдуард Владимирович, усилить все посты, блокирующие крепость, – хладнокровно, будто не было сегодня страшной конфузии, ответствовал Муравьев.
– Но позвольте, Николай Николаевич, кто ж нас кормить-то будет?
– А вот-с, Михаил Тариелович. И накормит, и обогреет-с.
Самое удивительное, что генерал-лейтенант Бриммер, человек независимый и спесивый, с особым уважением посмотрел на полковника Лорис-Меликова и принял аргументы главнокомандующего, уверенный, что уж этот-то – точно, и накормит, и обогреет.
И в Кавказской армии, и на всей территории военных действий как-то так оказалось, что без Лорис-Меликова решительно нельзя обойтись. Муравьев много думал на эту тему, человек он был умный и справедливый и фаворитизма на дух не переносил. Да и крутой характер не позволял держать при себе любимчиков. И все же троих своих сподвижников в Крымской войне – Бакланова, Дондукова-Корсакова и Лорис-Меликова – он выделил особо. «Бакланов был пугалищем турок, которых он много переловил и перебил. Во всякую войну у азиятцев являются в неприятельском лагере, по их понятиям, герои, которые получают у них особые клички. Такими они признали в нашем лагере трех, которым придавали более значения, чем самому сардарю, то есть главнокомандующему, а именно: Бакланова, Дондукова и Лорис-Меликова. Первого во всех окрестностях жители называли Баклан, второго – Кенег, а третьего – Мелик и последнего разумели за самое доверенное при главнокомандующем лицо, через которого можно всего достичь».
После штурма 17 сентября блокада Карса была усилена. Войска уже не отпускались в дальние рейды, а сосредоточились под стенами укреплений. Артиллерия ежедневно бомбардировала город, не давая гарнизону ни часу покоя. Ежедневно из крепости высылались отряды фуражиров, но ни разу отрядам этим не дано было достигнуть своей цели. Их встречали то казаки, то охотники и всегда выходили победителями из стычек со слабеющими от голода турецкими солдатами и башибузуками. Но гораздо больше, чем от этих дневных коротких схваток, турки терпели бед от ночных тревог.
В первых числах октября Лорис-Меликову пришла счастливая мысль посылать, когда стемнеет, под стены крепости небольшие отряды охотников с тремя-четырьмя ракетными станками. Тут больше всех отличался азартный и ловкий Даниил Арутюнов. С десятком таких же отчаянных удальцов он в полной тишине подвозил к городским стенам легкую пушечку, давал выстрел и мгновенно мчался в другую сторону, откуда производил несколько ружейных выстрелов, чтобы снова, уже с третьей позиции, поднять суматоху в лагере противника.
А суматоха поднималась страшная. На первых порах турки отвечали всей своей крепостной артиллерией, обстреливая белый свет как копеечку, били в барабаны, трубили тревогу горнами… По всему Карсу выли перепуганные собаки… Потом, правда, турки попривыкли к ночным налетам и лишь лениво отстреливались ружейными залпами. Но барабаны и горны все равно играли тревогу, лишая сна оголодавший и замерзающий карский гарнизон.
Все же турки кое-какие меры против охотников приняли. В тех местах, откуда накануне налетали наши удальцы, были вырыты ложементы, в которых на ночь оставались стрелки, а на левом берегу Каре-чая на небольшой скале, как бы в продолжение Шорахских укреплений, поставили орудие, которое обстреливало картечью часть равнины и оба берега реки. Так как орудию более всего доводилось действовать против охотников, то и орудие, и скалу, на которой оно стояло, назвали пушкою и горою Лорис-Меликова.
Собачий лай все реже доносился из крепости. Несчастные животные оказывали последнюю услугу своему старшему брату и другу. Продовольственные склады иссякли, и армия уже не в состоянии была кормить мирных жителей. Но вот что интересно. Охотники Лорис-Меликова поймали агента персидского консула в Эрзеруме, пробиравшегося в Каре. Удивительна была цель его рискованного похода. Муравьев и много лет спустя не переставал поражаться этому. «Ему удавалось еще, посредством торговых сношений с эриванскими жителями, – писал изумленный Николай Николаевич, – ввозить иногда тайком в небольшом количестве сарачинское[26]26
Сарацинское пшено – рис.
[Закрыть] пшено, коим он снабжал турецких пашей, слишком дороживших лакомым для них пилавом».
Осажденные ждали помощь из Константинополя, забрасывая столицу паническими депешами, большинство которых перехватывалось лорис-меликовскими охотниками. Оттуда шли ободряющие известия, что на Кавказ направляется корпус Омера-паши и вот-вот Каре будет спасен блистательным ударом в спину армии Муравьева.
Ждали, что Омер-паша высадится в Трапезунде или Батуми. Тогда русской армии и в самом деле пришлось бы хлебнуть горюшка. Но победы, одержанные союзниками в Крыму, вскружили головы константинопольским стратегам. Корпус высадился в Сухум-Кале и двинулся в глубь Абхазии, надеясь пройти сквозь непокоренные области прямо в Тифлис. Да не тут-то было. Турецких гостей ждали жаркие объятья абхазских и грузинских партизан, малярия и опытный кавказский генерал князь Иван Константинович Багратион-Мухранский. Он выдержал трехдневный бой с 23 по 25 октября на реке Ингури, чрезвычайно измотавший противника, с малыми потерями отступил к реке Цхенисцкали, форсировать которую турки не смогли до самого конца войны.
Когда пришли известия о неудачах Омера-паши, Лорис-Меликов постарался довести эти сведения в весьма преувеличенных дозах до чутких ушей карсских жителей.
В ноябре ударили морозы, и стало очевидно, что второго штурма не понадобится. Положение осажденных было непереносимо. 14 ноября из крепости вышел небольшой отряд, с боем прорвался сквозь наш кордон и исчез в направлении Эрзерума. Это была последняя операция противника, смутившая поначалу своей неразумностью. Только позже выяснится, что таким странным образом бежал венгерский революционер Кмети, заочно приговоренный в 1849 году к смертной казни. В турецкой армии он был в числе самых умных и дельных генералов.
Уже на следующий день английский генерал Вильяме выслал парламентеров с белым флагом. Условий защитники крепости не ставили. С их стороны были лишь две просьбы: разрешить генералам, сдавшимся в плен, носить личное оружие и отпустить по специально представленному списку венгерских и польских эмигрантов, подлежащих судебному преследованию в пределах Российской империи. Великодушный Муравьев уступил обеим просьбам, так что в героическом бегстве с потерей трех всадников и риском для собственной жизни нужды для Кмети не было.
16 ноября 1855 года крепость Каре пала.
Выход войск из города и окружающих фортов был назначен на 10 часов утра. Но вот уже половина одиннадцатого, одиннадцать – никого. Только из турецких лагерей слышны залпы разряжаемых ружей. Наконец, открылись ворота города, и к мосту через Каре-чай потянулась кавалерия, а за ней пехота карсского гарнизона. С Шорахских высот навстречу вышли войска юго-западных укреплений. По команде генерала Муравьева русские войска вышли из лагеря и взяли в каре пленников. Шесть батальонов русской пехоты, половина сотни казаков и легкая артиллерийская батарея под начальством временного коменданта артиллерийского полковника де Саже направились для занятия Карса. Вместе с ними отправлен был адъютант главнокомандующего капитан Корсаков для водружения русского флага на карсской цитадели.
В два часа пополудни от общего строя отделилась группа всадников и, направилась к палатке главнокомандующего русской армией. Впереди ехали трое: турецкий главнокомандующий мушир Вазиф-Магомет-паша, английский генерал Вильяме и полковник Лек. Как позже потом писал полковник Лек, они с Вильямсом всеми силами старались поддержать в турецком мушире бодрость духа и маршальское достоинство. Вазиф-Магомет жалобно стонал, чуть не плакал – каково ему, старому полководцу, одержавшему десятки побед, отдавать себя в плен. Англичанам пришлось укорять его тем, что они сами, ради него перенесшие столько лишений, тоже вынуждены признать себя побежденными и идти в плен. Чужое горе, а паче того унижение людей слабых утешает. И перед генералом Муравьевым предстал уже не слезливый старик, а надменный военачальник, держащийся с таким достоинством, что, несмотря на скромный свой рост, выглядел даже выше прочих пашей в своей свите. Генерал Вильяме подал Муравьеву подписанный муширом Вазифом-Магометом и им самим акт о сдаче Карса. Скрепив акт своей подписью, Муравьев со свитой выехал к равнине Гюмбета принимать пленную турецкую армию.