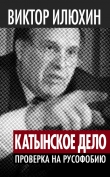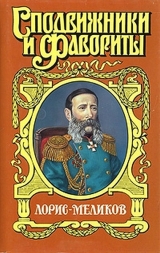
Текст книги "Вице-император. Лорис-Меликов"
Автор книги: Елена Холмогорова
Соавторы: Михаил Холмогоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
Перелом

Между Баш-Кадыкляром и Карсом расположена горная цепь с малоприступными от природы возвышенностями – Аладжинскими, Авлиарскими, Визинкевскими. Мухтар-паша, остановив преследование Действующего корпуса, сосредоточил там главные свои силы. Все лето на Аладжинских высотах и на Авлияре шли фортификационные работы. Создавалась мощная база для защиты Карса и, по возможности, которую Лорис-Меликов активным своим отступлением все никак не предоставлял противнику, контрнаступления и вторжения в пределы Российской империи. Подарок Девеля, Кизил-тапа тоже ощерялась укреплениями.
Еще в июле штаб Действующего корпуса разрабатывал планы овладения Аладжинскими высотами. Велась активная разведка, поиски специальных отрядов прощупывали оборону, время от времени терзая отдельные ее участки. Генерал Лазарев, сменивший Девеля, по прибытии своем в корпус отлично организовал это дело. Он порядком истомился в первые месяцы войны, командуя бездействующими войсками в приграничных уездах и осаждая Тифлис нервными, беспокойными требованиями снять свои гарнизоны с мест и немедленно отправить в пределы Турции. Боевой генерал, рожденный для сражений и побед – смелый, быстрый и точный в мгновенных решениях, принимаемых по ходу дела, не в меру, правда, тщеславный и крутоватый характером, Иван Давидович был смертельно оскорблен холодным молчанием главнокомандующего и даже на Лорис-Меликова затаил обиду. Как это так: командующий корпусом – и не может добиться простейших вещей! Впрочем, сейчас не до обид – за дело Лазарев взялся с азартом, и его присутствие в корпусе очень быстро ощутил Мухтар-паша. Он теперь не осмеливался ни на какие набеги на наш лагерь, гадая каждое утро, откуда ему ждать опасности.
В конце августа, после освобождения от турок Сухуми, главнокомандующий отважился, наконец, и то под давлением Лорис-Меликова и генерала Обручева, снять часть войск с Черноморского побережья. А к исходу сентября пришли, наконец, из России казачья и Московская гренадерская дивизии и еще четыре батальона для охраны путей сообщения. Теперь можно было думать о наступлении.
Операция готовилась с особой тщательностью. Разрабатывал ее Обручев сам, разумеется, с помощью штаба корпуса, офицеры которого прекрасно знали местные условия, иные еще с прошлой войны. Командующий корпусом, ежевечерне принимая доклады о ходе дела, с трудом сдерживал нетерпение – хотелось немедленно ввязаться в схватку, отметить за унижение в Зивине, отобрать назад Кизил-тапу. Но крепился, держал себя в руках и чем острее чувствовал нетерпение, тем въедливей искал изъяны в планах будущих атак.
План операции восхищал смелостью и строгой логикой. Наступление, по нему, должно вестись тремя колоннами по центру и левому флангу, на правом же следовало лишь сковывать силы противника, не давая ему перебросить в поддержку слабых мест ни единого взвода. Справа же должна была вступить в действие обходная колонна и ударить в тыл.
Наконец подготовка была завершена, командиры колонн получили диспозицию, и на 20 сентября назначено было выступление. Накануне командующий корпусом один, без свиты, объезжал войска.
Московские гренадеры завтра вступают в бой в первый раз. К ним и направился Лорис-Меликов.
Жизнь в лагере москвичей вроде ничем не отличается от вчерашней. Где-то слышится перебранка – это денщики двух офицеров не поделили господское имущество и препираются, чья это сапожная щетка:
– У его благородия с рыжим волосом, а твоя вся черная была.
– Да протри глаза! Где там рыжий волос?
– А вона. Ты его, шельмец, ваксой замазал… И раздраженный голос из палатки:
– Да прекратите вы лаяться, дурачье! Завтра вам турки покажут рыжий волос.
– То завтра, ваше благородие. А порядок всегда быть должон…
Где-то – здоровый солдатский гогот в добрый десяток луженых глоток. Ротный шут и балагур травит байки.
И только чуткое ухо генерала различало напряженное волнение и в этом смехе, чересчур веселом, и в этой перебранке, подчеркнуто заботливой.
Какому-то унтер-офицеру вздумалось разучивать с солдатами новую песню. Боясь спугнуть, генерал остановил коня за кустарником, отделявшим его от поющего костра.
Ой, во поле стояла ракита,
Ой, во поле стояла ракита;
А под этой ракитой гусарик убитый.
– Трюхин, тебе что, медведь на ухо наступил? Ты, Трюхин, остановочку делай, остановочку:
А под этой ракитой…
– Теперь вздохни чуток, во-от, и продолжай: Гусарик убитый.
– Дальше повели:
Он убит, принакрыт черною китайкой…
Приходила к нему пава-жена молодая,
Китаечку открывала, в лицо признавала…
Ты встань-восстань, мой милый, гусарик убитый!
Твой конь вороной по лужкам гуляет,
Тебя молода жена домой ожидает,
Тебя молода жена домой ожидает.
Генерал выехал на свет костра. Унтер-офицер всполошился, вскочил с места, за ним и солдаты… «Тарелыч, Тарелыч пришел!» – зашептал неясными голосами воздух.
– Садитесь, садитесь. Ну как, все сыты-накормлены? Винца по крышечке выдали?
– Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство! – за всех ответил бравый унтер. – Уж так нынче ублажили, прям как на убой…
И тут же смутился страшно от невольной игры слов:
– То есть, ваше превосходительство, как следовает перед боем. Получилось еще нелепее, и приглушенный смешок прошел вокруг костра.
– Ну а что, зададим завтра туркам перцу?
– Зададим, ваше превосходительство, не извольте сумлеваться, еще как зададим! – Голос унтер-офицера, счастливо выпутавшегося с помощью генерала из щекотливой ситуации, зазвенел особым энтузиазмом.
– А что ж песни такие печальные поете?
– Уж больно за душу берет, ваше превосходительство, – подал осмелевший голос рыжеватый солдат с голубыми хитрыми глазами. – Смерти – ее все равно не миновать, а вот как за душу заберет, так оно и воевать вроде как легче.
– Ну а веселее неужто ничего нет?
– Как не бывать, ваше превосходительство, есть и веселее. А ну, Пьецух, давай!
Рыжеватый солдат подмигнул хитрым голубым глазом и дал-таки звонким тенорком:
Выхвалялись злые турки,
Будто в деле молодцы;
А теперь мы их узнали
Они первы беглецы!…
– Вот это другое дело! Вижу, завтра не дрогнете.
– Не дрогнем, ваше превосходительство. Мы привычные. Что бой, что парад. Бой так даже веселее. Разве что барин, ему тут все в новинку.
– Что за барин?
Барином был вольноопределяющийся Грушин из московских студентов. Он сидел в стороне на опрокинутом барабане и при неверном робком свете коптящего огарка, пристроенного к пеньку, читал книжку, довольно потрепанную. «Севастопольские рассказы», сочинения графа Льва Толстого.
Вольноопределяющийся – новинка милютинской военной реформы, и генерал-адъютанту как-то еще не приходилось ни с кем из них общаться. Посмотреть бы, что это за публика, способны ль воевать, как воюет простой солдат. Все-таки это не прежние юнкера, сознательно выбиравшие военную карьеру.
Бравостью вида и выправкой вольноопределяющийся Грушин не отличался. Это был бледноватый, лишь слегка прихваченный загаром юноша с глубоко посаженными темными глазами, из которых в секунду воодушевления, как со дна омута, исходил нервный блеск и тут же гас, как гаснет и омут, едва солнечный луч помутится облаком. С ним как-то неловко было по-привычному начинать на «ты», невзирая ни на какую субординацию. Генерал от кавалерии усмехнулся, поймав себя на столь странном ощущении.
Впрочем, честь солдат отдал по-уставному правильно, старательно.
– Что ж вы один, в стороне?
– К сожалению, от природы обделен слухом и петь не могу. Да мне и так не скучно.
В Москве у вольноопределяющегося Грушина осталась мать, вдова надворного советника, младший брат, гимназист шестого класса, и две сестры. Невесты у Грушина не было, хотя девица Ховрина оставила ему какие-то надежды, которым он побаивался верить. Сам он прослушал два курса на историческом факультете, и генерал с легкою завистью взгрустнул – совсем бы другая была жизнь, не поломай себе статской карьеры глупый мальчишка из последнего класса Лазаревского института. Он бы сейчас был профессором, писал бы большие книги о былых царствах и забытых народах… Человек в любом чине недоволен своей судьбой. Все ему кажется, что в другом мундире жизнь его была б счастливее.
На войну Грушин пошел не то чтобы охотно, а из демократического стыда: как это так, какой-нибудь Тарас Пьецух будет жизнь свою класть только потому, что он простой крестьянин и некому заступиться от призыйа в армию, а я, молодой и здоровый, буду разгуливать с барышнями по Пречистенскому бульвару. Нехорошо это.
– Но в самой войне, честно говоря, я ничего хорошего не вижу. С какой это стати меня сорвали с лекций приват-доцента Ключевского, а, допустим, Али или Ахмеда – с его виноградника, одели в тяжелые шинели и заставляют убивать друг друга? Что он мне сделал? Что я ему сделал такого, чтоб жизни лишать?… Не понимаю. Если уж так пошло, вызвали б вы, ваше превосходительство, на дуэль его превосходительство Мухтара-пашу.
Генерала рассмешила такая перспектива, он очень живописно представил себе поединок наподобие печоринского. Но смех оборвал на полуноте и строго сказал:
– Мы не можем так рассуждать. Наше дело солдатское: приказали – выполни, хоть ты рядовой, хоть фельдмаршал. Да и не советую: с таким настроением нельзя победить. А победа – единственное спасение для солдата.
Заговорили и о книгах, разумеется, о той, что лежала сейчас, заложенная сорванным дубовым листком на недочитанной странице, на пеньке со свечой. Читал Грушин последний из рассказов – «Севастополь в августе 1855 года». И этот перед боем не легкие юморески читает, а что «задушу берет». Все-таки интеллигент русский мало чем отличается от простого человека – в ситуациях острых те же чувства, те же потребности. Пока Лорис-Меликов додумывал эту свою мысль, слух полумеханически воспринимал рассуждения вольноопределяющегося из студентов.
– Вот граф Толстой. Образованный человек и писатель хороший, хотя до Чернышевского ему далеко. Но хороший, хороший писатель, тут я не спорю. Правда в нем есть. Только вот странно в середине нашего просвещенного века убогую молитву прапорщика Козельцова читать. А Толстой еще и восхищается. Вот он что пишет: «Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала, просветлела и увидала новые, обширные и светлые горизонты…» И это от наивной молитвы? Не поверю. Мне тоже завтра в бой идти, меня, может, тоже убьют. Но, право, стыдно молиться современному образованному человеку.
– Что ж тут стыдного, прекрасный юноша?
– Я атеист. – Сказано было гордо, Грушин как-то вдруг вырос и расправил плечи, хотя голос сорвался, и не сгустись так сумерки, видно было б, как запунцовели щеки. – Бога нет. И сам Толстой это знает. Ведь был бы Бог, разве б он допустил такой позор русской армии – сдачу Севастополя?…
– Как знать… – Генерал не сразу и нашелся что ответить пылкому ниспровергателю Бога. – А может, это испытание – не сдай мы тогда Севастополь, мы б крестьян не освободили. Впрочем, мне трудно судить, я сражался здесь, а здесь совсем другая война была. Как раз в августе пятьдесят пятого мои охотники на этом самом месте отличились, под Суботаном…
А лихой тогда был поиск под Суботаном! В ущелье у самого ручья сотни его отчаянных ребятишек нарвались на лагерь башибузуков – тоже хороших разбойников. На рысях промчались сквозь галдящую толпу, застигнутую врасплох, погнали их вперед, к Авлияру, а там их встретили казаки Дондукова-Корсакова. Завтра бы что-нибудь подобное! Как это часто бывает с молодыми и неистовыми ниспровергателями основ, в Груши не пробудилось совершенно мальчишеское любопытство.
– А вы Толстого-то знали? Я еще его «Набег» и «Рубку леса» читал. Он, выходит, и на Кавказе служил.
– Знаком не был. Хотя когда увидел портрет в офицерском мундире, показалось, что узнал этого артиллериста. Очень может быть, что и в самом деле встречал. Да только дистанция между поручиком и юнкером побольше, чем между генералом и вольноопределяющимся солдатом. Мог видеть и не замечать. Я в молодости был глуповат и спесив. А ты все-таки помолись перед завтрашним боем. Не хочешь Богу – так Его отсутствию. Или Чернышевскому. Ему на каторге тоже молитвы чьи-нибудь нужны.
Важный чин, полный генерал, а прогресса, передовых идей не чужд. Это никак не укладывалось в революционное сознание двадцатидвухлетнего мыслителя.
Еще опытный воин посоветовал солдату Грушину силою воли одолеть первые шаги под обстрелом и не жаться к своим – в одиночку хоть и жутче, зато в тебя попасть труднее. С тем и уехал.
Всем хорош план операции, разработанный под руководством петербургского военного мыслителя генерал-лейтенанта Обручева. Все четко, точно, учтены, казалось бы, малейшие детали как в пространстве, так и во времени. Кроме, пожалуй, одного. Тут не Марсово поле и не Михайловский плац, особенно для войск, пришедших из России. Они-то и сорвали начало столь блистательно задуманного наступления. Колонна самарцев вообще заблудилась в заросших непроходимым терновником ущельях и вышла на чужую позицию с большим опозданием, потеряв много сил понапрасну в преодолении бездорожья. В центре же удалось наладить наступление сразу и после недолгого сопротивления турки оставили гору Большие Ягны.
Гора эта господствовала над всей местностью, но Мухтар-паша не стал строить на ней мощных оборонительных укреплений и держать там большие скопления своих войск, поскольку она прекрасно обстреливалась слева с горы Малые Ягны, справа – с Авлиара, а с фронта – с идеально обустроенной Визинкевской позиции. Но едва только с Больших Ягн выбили турок, командующий корпусом отправился туда на рекогносцировку. Надо было менять диспозицию по ходу боя, а, наученный печальным опытом Зивина, Лорис-Меликов никому не доверял теперь столь ответственного дела.
Едва группа всадников поднялась на естественную площадку, с которой открывалась панорама сражения, турки усилили обстрел горы из дальнобойных орудий. Снаряды стали рваться совсем близко.
– Вот и чудненько. Какой прелестный обзор. Степан Осипович, голубчик мой, нанесите-ка на карту… – Договорить Лорис-Меликову не удалось. Прямо под его конем разорвалась граната, генерал успел спрыгнуть с ловкостью молодого корнета. Свита мигом сбежалась, но генерал как ни в чем не бывало взялся за бинокль.
– Ваше превосходительство, не ранены? Вам тут никак нельзя! – захлопотали вокруг адъютанты, штабные офицеры.
– Занимайтесь своим делом, господа. Видите, как турки раскрыли позиции. Извольте нанести их на карты. – Сам же только распорядился, чтобы убрали с глаз умирающего коня. Больно было смотреть в умные лиловые глаза ахалтекинца, не имея возможности облегчить его муки – у генерала никогда бы не поднялась рука пристрелить верного друга. Но через минуту командующий корпусом хладнокровно стал рассматривать ход боя у Суботана. Там было жарко, и снова, в который уж раз, ему захотелось стать простым офицером и ринуться с головой в драку. Нет, надо оберегать себя, а в драку бросать какого-нибудь смелого майора, которого он и имени-то не знает. Генерал отдал соответствующие распоряжения, осмотрелся вокруг еще раз, как бы запоминая настоящее положение дел и прикинув, как сложится ход событий, если завтра из Суботана послать конницу на Хаджи-Вал и – следующий крупный пункт укреплений на пути к Аладжинским высотам. И поручит он это дело племяннику своему Ивану Егоровичу Лорис-Меликову.
За три дня боев исполнить план Обручева до конца не удалось. Но турки потеряли все свои передовые позиции и отошли в глубину обороны, где уже не было столь прочных и выгодных для защиты и контратаки укреплений, как на Кизил-тапе, в Суботане и Хаджи-Вали. Надо строить новые, но уж теперь-то мы им не дадим и часу.
Дни и ночи в штабе корпуса кипела работа. Тщательно анализировались все обстоятельства минувших боев, и особенно промахи как в оперативном плане, так и в его исполнении. Успехи, впрочем, тоже были учтены. Гора Большие Ягны моментально ощерилась мощными полевыми укреплениями, оснащенными артиллерией. Наверняка Мухтар-паша, беззаботно оставив ее, раскаивается в своей опрометчивости и уж первым делом постарается отобрать ее назад и направит именно на нее свой первый и главный удар. И вожделенные Большие Ягны превратятся в ловушку для турок.
На этот раз решили значительно усилить обходную колонну: до двадцати трех с половиною пехотных батальонов, стольких же сотен и эскадронов кавалерии и 72 орудий. Возглавлять эту массу войск поручили генералу Лазареву. Только он мог провести на добрых восемьдесят верст целую армаду, да еще так тихо, что, когда противник обнаружит его, будет катастрофически поздно. Выступил Лазарев загодя, за три дня до назначенного часа.
Осенняя ночь в горах Турецкой Армении пронзительно холодна и ясна. Звезды низки, и потому кажется, что хрустящий морозец, седая заиндевелая роса и вызваны их снежным светом. Покой над миром в этих краях так тих и вечен, Арарат над тобою так торжественно высок и величав, что кажется, будто ты еще в раю, еще до изгнания, и вот-вот спустится со снежных вершин добрый Бог и заговорит с тобою о красоте создания Своего.
Вместо Бога в 5 часов утра 1 октября 1877 года полыхнули огнем и загрохотали две сотни пушек. Так началось знаменитое сражение за Авлиар и Аладжинские высоты.
Турок артиллерийская подготовка врасплох не застала. Они тут же открыли ответную стрельбу. Как и предполагалось, первым делом Мухтар-паша бросил с трех сторон свои таборы на Большие Ягны. Но не зря здесь целую неделю работали саперные батальоны под командой полковника Бульмеринга. Не зря здесь стояли отборные войска генерала Геймана. Весь день шли упорные бои, турки бросались в отчаянные атаки – безуспешно. Тем временем на правом фланге кавалерия генерал-майора князя Щербатова налетела на Малые Ягны. Умолкла артиллерия, поддерживавшая атаки турок в главном направлении. А с наступлением темноты стало окончательно ясно, что Большие Ягны потеряны Мухтаром-пашою навсегда.
Утром 2 октября у себя в глубоком тылу турки обнаружили мощную колонну противника. Это отряд генерала Лазарева, заняв село Базарджик, где Иван Давидович напрасно прождал приказа о дальнейшем наступлении, посланного ему от командующего корпусом еще в 5 утра по телеграфу и проплутавшего Бог весть сколько за адресатом (и прогресс дает сбои!), лишь к полудню двинулся вперед. Турки, увидев лазаревскую колонну, всполошились, донесли своему командующему. Мухтар-паша с высоты Чифт-тепеси – теперь высочайшей вершины, оставшейся в его власти, – увидел надвигающуюся опасность и срочно бросил против Лазарева девять таборов Рашида-паши. Но время было упущено. Наша обходная колонна успела занять выгодные позиции и отбросила неприятеля на Орлокские высоты – последние укрепления на дороге к Карсу. Лазарев, заметив, что на помощь Рашиду-паше идут полки от Визинкева, двинул наперерез подкреплениям пять сотен конницы подполковника Маламы.
Ох и славное вышло дельце, когда турки еще на полпути к Орлоку наткнулись на наших кавалеристов! Конники, спешившись, заняли дорогу и встретили врага дружным залпом.
Около часа бились с противником, удерживая наступление, пока не подошел на выручку пехотный батальон. Тут уж сами двинулись вперед и погнали турок аж до окраин Визинкева.
И тут Лазарев решил, не теряя времени, занять Орлокские высоты до наступления темноты. Дербентский полк во главе с полковником Кавтарадзе совместно с батальоном саперов так решительно и быстро ринулся в атаку и посеял в рядах противника такую панику, что турки, бежав, не успели и сообразить, что их самих было по крайней мере впятеро больше, чем русских. Другие батальоны штурмовали Базарджикские высоты, и столь же успешно. К исходу дня обходная колонна Лазарева обосновалась в глубоком тылу правого фланга армии Мухтара-паши. Как только в Базарджике открылась полевая телеграфная станция, Лазарев отправил в Главную квартиру донесение: «Стою с отрядом в виду визинкевских лагерей. Необходимо завтра с рассветом атаковать от Хаджи-Вали и Ягны – Визинкев».
В ночь на 3 октября никому уж было не до звезд. Солдаты и офицеры, измученные двумя днями непрерывных боев, спали тем особым фронтовым сном, в который проваливаешься в том месте, где тебя скосила усталость, и вроде бы вмертвую, но нет, и сквозь крепчайший сон держится тревога и готовность вскочить на ноги по первому звуку команды. А в Главной квартире никому не до сна. К четырем часам утра составили диспозицию и разослали всем начальникам колонн и отрядов. Основной удар был сосредоточен на Авлиар. Туда направлялись колонны генералов Геймана и Авинова. На Аладжу должна пойти колонна генерала Роопа, состоящая главным образом из дивизий, присланных из России.
Вольноопределяющегося Грушина из крепкого сна выбила какая-то неясная мысль из тех, что так и не находят воплощения в слове, но вносят смутное беспокойство. За эту неделю он, как ему казалось, уже освоился с войной, то есть полностью отдался автоматизму необходимых движений. Прав был тогда генерал: главное – одолеть первые шаги, когда над головой, ревя, проносятся снаряды – идет артиллерийская дуэль, – а навстречу тебе летят с противным свистом пули и воздух перед тобой становится плотным, оказывая сопротивление шагу. Цепенеет душа, и сковывает тело. И будь Грушин один, ему б не одолеть шага. Но другие-то, из народа, который Грушин привык снисходительно любить и жалеть, идут. У них что, страха нет? Страх все-таки есть. Рядом с Грушиным рыжеватый хитрец из хохлов Тарас Пьецух с вечно веселым, как и полагается ротному балагуру, выражением лица. Сей же час он бледен, губы вытянуты в чуть розовую ниточку, а над переносицей образовалась суровая, сосредоточенная складка. И все солдатские лица напряжены, сосредоточенны, суровы, и даже совершенные мальчишки сбросили юность, как шелуху. Наверно, и я сейчас как бы без возраста, успел подумать Грушин и услышал команду:
– Ложись!
Недоумевая, лег. Тут же новая команда:
– По-пластунски вперед! Вроде как все пополз.
– Барин, голову пригни, – шепотом приказал унтер-офицер Мурашкин – тот, что разучивал с солдатами песню про убитого гусарика.
– Я тогда не вижу, – ответил Грушин, но голову опустил.
– А и не надо, ты ползи себе и ползи, пока не скажут. Ты локтями, локтями работай, барин.
Эти команды-советы унтера Мурашкина как-то отвлекли внимание от свистящих пуль и рвущихся где-то позади снарядов.
Проползли минут пять, роту подняли:
– А теперь – бегом!
Добежали до кустарника над пересохшим ручьем. Остановились.
– Передохни, барин, – сказал Мурашкин. – Сейчас на дело пойдем.
Грушин оглянулся на пространство, только что преодоленное. Несколько человек лежали на склоне холма, с которого они только что спустились, и в долине пересохшего ручья. Со стороны нашей позиции к ним подползали солдаты-санитары. «Это что же, и я мог там остаться?» Мысль пронзила колени. Они вдруг мелко-мелко задрожали, и Грушин едва удержался на ногах.
Вид у него был, наверно, бледный, потому что Мурашкин тронул Грушина за рукав и тем же шепотом добрый дал совет:
– Ты, барин, не оглядывайся. Проскочил, и слава Богу. Нас уже не достанет. Мертвая зона. Ты теперя вперед смотри. Примеривайся.
Впереди же был крутой склон горы, где на высоте метров с пятьдесят сложен был из камней широкий бруствер, с которого турецкие солдаты вели ружейный огонь по нашей стороне, откуда пошла еще одна цепь пехоты. Бегом, ползком, бегом, оставляя новых убитых и раненых.
За второй цепью третья, четвертая…
Наконец, последовала команда:
– Вперед, братцы!
Грушин вместе со всеми карабкался вверх, оскальзываясь, хватаясь руками то за куст, то за пучок травы. Мысли исчезли, остался какой-то инстинкт, подсказывающий, куда ступить, за что зацепиться. Потом кричали «ура!» – это самые ловкие одолели бруствер, ворвались в турецкую траншею. Грушин уже не помнил как, но тоже оказался в траншее, тоже кричал «ура!», на него наскочила какая-то фигура в синем мундире, и Грушин, защищаясь, двинул вперед себя штыком. Успел только услышать крик и удивиться тому, как легко штык пропорол чужое тело. Потом он стрелял, не целясь, по бегущим, точнее, по карабкающимся вверх и сам вместе с другими полез вверх, там снова была траншея, и снова пришлось работать штыком, только на этот раз он успел увидеть худое лицо в голубой щетине, черные сливовые глаза, но дальше опять стрельба, опять карабканье по склону и новая турецкая траншея. Своих он давно потерял, вокруг незнакомые лица из чужих рот, а может, и батальонов, и он давно уже исполнял чужие команды. И время куда-то пролетело, он только чувствовал жару, сменившую утренний морозец, где-то обронил шинель…
Вдруг упала тишина. Грушин по инерции пробежал несколько шагов, пока не понял их бессмысленности. Бой кончился.
Оказывается, целый день прошел. По-южному стремительно сгустились сумерки. Грушин огляделся. Вокруг в странном нерусском порядке нерусские же саманные дома с плоскими крышами. На площади перед ним бедненькая мечеть, а за нею видна каменная армянская церковь. По улицам зажигаются костры, и слух, вернувший себе способность слышать не только команды, а весь мир, различает чей-то смех, чужие разговоры и крики унтер-офицеров и фельдфебелей: «Пятая рота! Эй, пятая рота! Вторая рота, ко мне! Третья рота!…» Издалека, с другого конца села, донесся характерный клич Мурашкина, созывающего шестую роту.
– Барин! Барин пришел! – Радостные голоса встретили Грушина у большого костра с высоким постреливающим пламенем.
Солдаты раздвинулись, дав ему место на бревнышке.
– А барин-то у нас молодцом! – В словах солдата Буркалова, которого Грушин знал только по фамилии, чувствовалось не столько восхищение, сколько искреннее удивление: вот ведь, мол, барин, образованный, а в деле оказался такой же, как мы. Что они, за труса меня держали? И, одолев неловкость, так прямо и спросил:
– А вы что, за труса меня держали?
– Не, не за труса, конечно. Да только… не барское это дело в атаку ходить.
– А офицеры? Ротный-то наш, он ведь тоже молодцом.
– Так то охвицеры, их на то сызмала в кадетском корпусе учили. А ты, барин, другие науки превзошел. И охвицер, он командовать должен, а не штыком пороть. Планида другая, – зафилософствовал рыжеватый Пьецух. Речь его была серьезна, а глаза веселые и хитрые. Та суровость, что заметил в нем Грушин утром, растворилась без следа. – А как наш барин турку-то заколол! Ражий такой детина, без ножа кормленный как пойдет на барина, а барин ка-ак вдарит!
И представил всем, как турка пошел на барина, как руками замахал, падая, да так уморительно, что все вокруг хохотали до истерики. А Грушину стало неловко. Это он завтра поймет, что в надрывном хохоте исходят преодоленный страх, и скорбь по товарищам, оставшимся позади кто до скорого излечения, кто инвалидом до конца жизни своей, а кто и навсегда, и жалость, и отвращение – десятки чувств, названных и неназванных, но цепких и неотвязных и лишающих воли, а завтра-то снова бежать куда-то вперед, брать траншеи, убивать… И если держать все это в себе – гиблое дело. Но пока Грушин этого не понимает, ему просто неловко быть героем роты, о котором все говорят в третьем лице и величают барином. «Барин»-то и смущает его больше всего.
В Москве, когда он напросился в армию, ему казалось, да что казалось – уверен был, что сольется с солдатскою массою. А как же иначе? Вот в газетах, подсчитывая потери, пишут: «Погибло штаб-офицеров 7, обер-офицеров 16, нижних чинов 243…» Штаб-офицеров называют поименно, обер-офицеров, при небольших сравнительно потерях – тоже, нижние чины остаются безликою массою, выраженной в числах. Даже награды нижним чинам, Георгиевские солдатские кресты за храбрость, – тоже равнодушным числом.
А как народоволец Залепухин радовался за него и уверял, что непременно студент Грушин сольется с простым народом и посеет в нем передовые общественные идеи равенства, братства и социализма. Сам Залепухин уже ходил в народ и проповедовал борьбу за всеобщее счастье в лесах Костромской губернии, за что был арестован и два года страдал в минусинской ссылке. Он много об этой своей ссылке рассказывал, и о тюрьмах – Костромской, Владимирской, но никогда ни словом не обмолвился, как повязал его любимый народец и сдал в полицейский участок. Залепухин и теперь собирался кончить курс вольнослушателем, а потом снова отправиться в народ. На этот раз на Тамбовщину, там, говорят, мужик сознательнее костромского и больше подготовлен к революции.
Уже в учебной роте никакого слияния с массами не получилось. Грушин оказался довольно бестолков и неловок. То, что простым новобранцам давалось легко, как дыханье, Грушину, непривычному к физическому труду, стоило злых одиноких упражнений в часы, когда все разойдутся, отпущенные по своим делам.
Да и то, оценивая себя строго, Грушин не достиг естественной привычки в солдатском деле, хотя силою он, пожалуй, многим не уступал.
Фельдфебелям учебных рот вольноопределяющиеся из людей высокого звания, образованных, были в новинку, и они обращались с каждым образованным как с тончайшего стекла хрустальной рюмочкой, ненароком оказавшейся в могучих медвежьих лапах. Это потом уж они освоятся, начнут покрикивать, хамить, а иные даже издеваться, мстя обделившей их с рожденья судьбе и завидуя. Но это – потом, к следующей, японской войне. А сейчас они недоуменно-почтительны. И солдаты, видя неуклюжесть вчерашнего студента, вовсе не чувствуют своего превосходства, а стараются во всем оберегать барина, как Савельич Гринева.
Трудности перехода, уже в составе Московской гренадерской дивизии, уже за Кавказом, он одолел тоже через силу, больше стараясь не отстать, чем не отставая. Но Грушин все надеялся, что будет бой, он покажет себя героем, и тогда солдатская масса примет его, и сам он станет народом скорее и успешнее, чем народоволец Залепухин.
Бой прошел. Героем он себя не почувствовал, хотя все у костра только и говорят что о барине, как барин штыком задрал одного турку и еще одного, как барин стрелял и несколько раз попал. Барин, барин… И вот ведь что странно. Кроме унтер-офицера Мурашкина, которому прострелили плечо на Черной речке в Крымскую войну, все были в настоящем сражении в первый раз, у каждого свои заботы. Но почему все они подмечали за барином, и ведь мало кто врал – подсказывали такие детали, которые глаз механически отмечал, и они бы наверно забылись, но вот его товарищи рассказывают, и в памяти оживает колючий куст, за который он уцепился и вырвал с корнем, едва не сорвавшись, и камень на бруствере третьей траншеи, которым он швырнул в турок. Камень ему просто мешал, и отшвырнул он его не задумываясь.