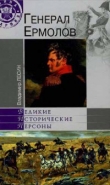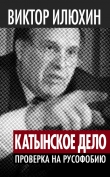Текст книги "Вице-император. Лорис-Меликов"
Автор книги: Елена Холмогорова
Соавторы: Михаил Холмогоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
Странное дело, карандаш отметил фразочки, столь часто цитируемые в живой речи, что и впрямь стали пословицами. Но не это удивительно. Удивительно, что из всех длинных и пылких монологов Чацкого всего-то и осталось – «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «А судьи кто?» да «Карету мне, карету!». Все же прочие mot[42]42
Словцо (фр.).
[Закрыть] – полные юмора и здравого смысла – слетели с уст именно что Фамусова.
Чацкий, а уж тем более Залепухин напрочь лишены чувства юмора! Они живы и горды до чрезвычайности одним лишь протестом. Все равно против чего и кого. Вот причина – открыл внезапно Лорис-Меликов – мертвецкой скуки от всех их пылких обличений и заученных социалистических истин. Обличительного же темперамента в них столько, что больше одной где-то краем уха услышанной мысли, облеченной в яркий лозунг, они и усвоить не могут.
Таков был настрой мыслей Лорис-Меликова, когда на его плечи пало генерал-губернаторство с широчайшими, но исключительно карательными полномочиями в одном из самых революционных городов России. Перед отъездом на новое место службы Михаил Тариелович счел необходимым посетить всех министров. С каждым имел беседу об обстановке в губернаторстве. Очень многодельных советов он получил от Петра Александровича Валуева. Вообще яичное знакомство с этим человеком было ему чрезвычайно лестно и приятно и впредь обещало перерасти в дружбу. Валуев всего на десять лет старше Лорис-Меликова, но чего он только не навидался на своем веку! Женат он был первым браком на княжне Надежде Вяземской, дочери поэта, умершей родами старшего сына, названного в честь отца и знаменитого деда Петром. В молодости Петр Александрович общался с самим Пушкиным. Говаривали в гостиных, что неустойчивый и добродушный характер юного Валуева отразился в герое «Капитанской дочки» Петруше Гриневе, так что пословицу «Береги честь смолоду», помещенную в эпиграф к роману, в известной степени можно отнести к нему. Завета пушкинского Валуев не то чтобы не исполнил, но многолетняя жизнь в неустойчивом русском правительстве слегка потрачивает это свойство даже у самых стойких ревнителей чести. А с 1861 года Петр Александрович почти без перерыва министерствовал: сначала в ведомстве внутренних дел, а с 1872 по сию пору – государственных имуществ. И теперь в тех же гостиных поговаривали, что граф Лев Толстой в своем нашумевшем романе «Анна Каренина» изобразил Петра Александровича, рисуя образ мужа героини. Но самые злые и насмешливые указывали на Петра Александровича как персонажа из сатиры «Сон Попова» – помните, министр? – другого графа Толстого, покойного Алексея Константиновича.
В последний свой визит Лорис-Меликов высказал мысль, что был бы не прочь перевести с Кавказа офицером по особым поручениям Петра Валуева. Странная была реакция на это предложение. Петр Александрович стал как-то напряжен и сух, только и вымолвил: «Об этом мы поговорим позже».
Первое же письмо от Валуева, полученное в Харькове, было как раз на эту тему и очень опечалило Михаила Тариеловича. Он увидел меру страданий в частной жизни баловня судьбы, каковым представал пред всеми Валуев, тщательнейшим образом от чужих глаз скрываемых. И предчувствие страданий своих собственных, на которые он сам же себя и обрек из пустого тщеславия, когда отдал обоих сыновей в Пажеский корпус. Вот оно, это письмо:
«Конфиденциально.
Петербург, 5 мая 1879 г.
Многоуважаемый Граф, Вы заявили так много дружелюбного ко мне участия, и Ваше сердце так ясно отражается в Ваших делах, что я обращаюсь к Вам с частною просьбою без застенчивости и без оговорок.
Вы были добры к моему сыну. Помогите спасти или попытаться спасти его теперь. Вы предлагали взять его теперь в свое распоряжение. Я уклонился от прямого ответа. Я на него не надеялся и не решался высказать того, что выскажу сегодня.
Считаю его больным. Нет умопомешательства, но есть припадки отсутствия воли и власти над собой, которые близко граничат с помешательством. Когда он занят пригодным для него делом, – он один. Когда не занят, – другой. В этом втором положении он невозможен и часто до очевидности бессознателен. Двадцать лет я страдал, и большею частью страдал молча. Он в таких случаях сорит деньгами, которые занимает или требует от меня, и, переставая писать, ограничивается телеграфными требованиями. В течение года он перебрал двадцать тысяч, которые я вынужден был отчасти занимать, а с июля месяца писал один только раз, – когда говорил, что не обидит казака, а обидит меня. Он в такие периоды кутит, его обыгрывают и пр. и пр. Я страдаю молча и покоряюсь, во-первых, видя в этом крест, который должен нести, во-вторых, чтобы не повредить второму сыну. Сказали бы, что я приношу старшего брата в жертву конногвардейскому мундиру меньшого. В то же самое время трудно отказывать меньшому, который долгов не делает и, несмотря на легкомыслие молодости, меня горем не губит в том, что ему нужно, потому что старший терзает. Трудно огорчать беспрестанно мою жену, которая болезненна и всегда с особою привязанностью относилась к старшему сыну и была бы глубоко огорчена предположением, что младшему ее сыну оказывается предпочтение. Таким образом, я в безвыходном, невыразимо тяжком положении. Нельзя набрасывать свое горе ежедневно на всю семью. Нельзя отцу объявлять сына помешанным; нельзя давать объявлять его бесчестным.
Моя просьба в следующем. Что-то в роде Закаспийской экспедиции, во всяком случае, совершается. Ген. Лазарев или кто другой туда отправляется. Прошу Вашего влияния к отправлению туда моего сына, и притом, если можно, без замедлений. Если оказались или окажутся какие-нибудь начеты, я их покрою, когда он будет вне возможности их увеличивать. Я, наконец, приперт к последнему простенку моей самозащиты. Если можно, Вы мне поможете, и я Вас заранее благодарю. Если нельзя, я все-таки Вам буду благодарен.
Про дела общие не пишу сегодня ничего. Я почти замучен, но работаю. Трудно, при внутренней, постоянной, постоянно скрываемой боли; но напрягаю силы, – и работаю.
Да хранит Вас Бог.
Душевно преданный
Валуев».
Движимый состраданием, Лорис-Меликов, забыв обиды, снесся по поводу валуевской просьбы с генералом Лазаревым, достиг его принципиального согласия взять к себе Павла Валуева, но тут вмешался рок. Иван Давидович внезапно умер от карбункула, а к его преемникам обратиться со столь деликатными предложениями, не навредив Валуеву, Михаил Тариелович не отважился.
Харьков неласково встретил нового своего начальника. Никакой торжественной церемонии, парада войск округа не было. Генерал Минквиц не удостоил преемника своего даже визита. Ничего, генерал-адъютант, помня восточную мудрость «Если гора не идет к Магомету…», первым нанес визит Минквицу. Но поведение бывшего командующего, хоть и отвратительно и неприлично в высшей степени, все же было объяснимо. Гораздо хуже складывались отношения с лицами, с которыми необходимо было сотрудничать.
Начальник Харьковского жандармского управления генерал-майор Дмитрий Михайлович Ковалинский был человек весьма преклонных лет, давно безразличный к делам службы. Он жил еще представлениями времен блаженной памяти Александра Христофоровича и удивительным образом умудрился проспать то время, когда крамола перестала пугаться начальства. Его краткие пробуждения к активной деятельности только вносили сумятицу в налаженную работу его же подчиненных. Ковалинский и слышать не желал о том, что неплохо было бы освободить из тюрем арестантов, угодивших туда по чистой случайности, злому навету или просто по глупости полицейских чинов. Старый жандарм считал, что у нас просто так никого не сажают. Впрочем, генерал и сам порядочно устал от столь хлопотного места. Ему хотелось в какую-нибудь губернию потише, где крамольники не убивают губернаторов и высших жандармских чинов. Как раз возникла вакансия начальника управления в тихом и благополучном Екатеринославе, и Ковалинский предпочел отпроситься туда. Шеф жандармов Дрентельн, всего полгода занимавший эту должность, рад был губернаторскими руками отстранить от столь важного поста чужого ему человека и остался доволен сменой начальника управления в Харькове. Он вообще был доволен бурной и одновременно рассудительной деятельностью Лорис-Меликова, который очень быстро вник в сложности жандармской службы и испросил от начальства себе в подкрепление ровно столько, сколько оно могло дать – одного ротмистра и 24 унтер-офицера, которые и были командированы в Харьковское жандармское управление из сравнительно спокойной Ковенской губернии.
Управляющий Министерством внутренних дел Маков тоже был удовлетворен тем, как Харьковский генерал-губернатор стал наводить порядок в полицейской части. Во-первых, Лорис-Меликов испросил денег на укрепление в пределах губернаторства исполнительной полиции и потребовал увеличить на 40 человек число конных урядников в помощь становым приставам. Но, увеличив содержание полицейским чинам, генерал-губернатор стал строго спрашивать с них и нещадно карал за всякую провинность: самый малый полицейский чин представляет для населения самое государство, и малейшая ошибка этой службы бросает тень на правительство. Очень разумная точка зрения.
Гораздо больше хлопот было у Лорис-Меликова с попечителем учебного округа тайным советником Жерве. Жерве был в Харькове глазами и ушами графа Дмитрия Андреевича Толстого[43]43
Толстой Дмитрий Андреевич (1823-1889) – граф, с 1866 по 1880 г. обер-прокурор Синода и министр народного просвещения, с 1882 по 1889 г. министр внутренних дел.
[Закрыть], чувствовал за своей спиною поддержку всесильного министра народного просвещения и полагал для себя возможным не считаться ни с чем и, главное, ни с кем. С первых же дней пребывания в Харькове к генерал-губернатору потоком хлынули жалобы на спесивый и капризный характер попечителя учебного округа, его полное равнодушие к делу, сочетающееся с непомерным упрямством, и от ректоров университета и ветеринарного института, и от директоров гимназий и реальных училищ, и от родителей. Впрочем, и сам Дмитрий Андреевич при встрече с Лорис-Меликовым, когда тот перед отъездом из Петербурга объезжал с прощальными визитами министров, не мог скрыть этого потока жалоб на Жерве. Но все-таки граф Толстой выразил надежду, что генерал-губернатор найдет общий язык с попечителем учебного округа.
До чего все же сходны противоположности! Аккуратный, одетый с тщательным изыском тайный советник Петр Карлович Жерве ничем не мог напомнить прошлогоднего знакомца из Эмса народовольца Залепухина – вечно неряшливого и какого-то непромытого. Но стоило тайному советнику открыть рот и начать проповедовать – вылитый Залепухин. Хотя истины Жерве проповедовал диаметрально противоположные – реакционные. Та же страсть и та же вера слову больше, чем жизни. И решительно никакого дела до того, что слово никак не желает совмещаться с действительностью. Тем хуже для действительности.
В разговоре Петр Карлович слушал и слышал лишь себя одного, и в этом он тоже ничем не отличался от догматика революционной идеи. Но одно дело тешить себя беседою с догматиком на отдыхе, не скрывая некоторой насмешливости своей и не чувствуя над собою ни угрозы, ни ответственности… Другое – когда таковые беседы составляют твой служебный долг.
– Строгость, строгость и еще раз строгость, – внушал Жерве. – Вот-с, ваше высокопревосходительство, извольте ознакомиться, я подготовил докладную записку о мерах борьбы с крамолою во вверенном моему попечению учебном округе.
Записка эта предполагала полную отмену на территории округа Университетского устава 1863 года как уложения слишком либерального, ослабляющего государственный надзор над высшими учебными заведениями. Желательно было, по мысли Жерве, очистить университет от лиц недворянского происхождения, безжалостно изгонять из числа студентов каждого заподозренного в неблагонадежности.
– Репрессии, вами предлагаемые, – мягко заметил Лорис-Меликов, – на мой взгляд, только увеличат число наших недоброжелателей.
– Нет-с, они покажут силу правительства, его непреклонную волю к охранению общественного порядка и спокойствия. Зло надобно пресекать в зародыше!
– Совершенно с вами согласен, Петр Карлович. Именно в зародыше. Потому считаю, что за поведение студентов должны отвечать не столько юноши, увлеченные модными социалистическими поветриями, сколько профессора, заискивающие перед их заблуждениями из жажды популярности, не обеспеченной успехами в науках.
– Профессор есть лицо, облеченное особым доверием правительства. Конечно, в их среде встречаются персоны, недостойные столь высокого звания, но они лишь исключение из общего правила. Нет-с, вся беда наша в ослаблении контроля и классического образования. Отсюда и преизбыток разночинцев в университете, и как итог – расползание крамолы.
Ни о каком ослаблении репрессий Жерве и слышать не хотел и угрожал, что пожалуется на таковой либерализм генерал-губернатора кому следует вплоть до самого императора.
Они разошлись, недовольные друг другом. И оба тотчас же вступили в переписку с министром народного просвещения. Жерве – в частную, а Лорис-Меликов – в официальную. Жерве ябедничал, но в ответ ничего, кроме сердечного сочувствия, получить не мог. Письма же Лорис-Меликова подлежали непременной регистрации, на них ставился номер, из чего следовало, что по письмам этим министр вынужден принимать конкретные меры.
«Гриф: Временный Харьковский Генерал-Губернатор Генерал-адъютант
Граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов. К Господину Министру Народного Просвещения Его Сиятельству Графу Д. А. Толстому от 5 мая 1879 года за № 20. Совершенно конфиденциально.
…Все доходящие до меня отзывы единогласно свидетельствуют, что г. Жерве ни в среде ученого персонала университета, ни между воспитующимся в ней юношеством не пользуется тем высоким уважением, какое должно быть присуще попечителю округа. Не имея влияния в среде профессоров, он не сумел приобрести его и между студентами. В результате является недоверие к нему со стороны тех и других. Не пользуясь, таким образом, авторитетом, он лишен возможности благотворно воздействовать как на учащих, так и на учащихся, а это, в свою очередь, влечет за собою отсутствие нравственной связи между профессорами и студентами.
Между тем такая взаимная связь теперь необходимее, быть может, чем когда-либо. Вашему Сиятельству известно, каким нареканиям подвергается в настоящее время учащаяся молодежь. Не отвергая, что известная часть ее, особенно в последние годы, поведением своим, связями с людьми заведомо неблагонадежными, наконец, косвенным и даже непосредственным участием в преступных проявлениях политического свойства заслужила упадающие на нее обвинения, я не могу и не считаю справедливым всю ответственность за это возлагать только на молодежь. Твердо убежден, что при лучшем составе университетских профессоров и при более строгом отношении их к своим обязанностям, не только научным, но и нравственным, многие из совершившихся прискорбных явлений вовсе не могли бы иметь места…
Сверх того, по доходящим до меня сведениям, некоторые из профессоров, не имея возможности приобрести уважения учащейся молодежи исключительно своими научными знаниями, служением одним интересам науки, всегда благотворно на нее действующим, ищут популярности в потворстве ее заблуждениям и в лести незрелым ее порывам. Такой образ действий, встречающийся, к прискорбию, и в среде здешнего ученого персонала, должен быть назван прямо преступным, ибо подобные преподаватели, уличить которых весьма трудно, вместо того, чтобы быть наставниками и руководителями юношества, вверяемого их попечению, их нравственной охране, являются косвенными и безнаказанными подстрекателями его к деяниям, ведущим к весьма печальным последствиям…
Поэтому я покорнейше прошу Ваше Сиятельство, в интересах дела, которого Вы являетесь естественным охранителем, и дабы облегчить и мне, как временному сотруднику Вашему, исполнение возложенного на меня Монаршим доверием поручения, благоволить безотлагательно отозвать г. Жерве от занимаемой им должности.
Прежние заслуги его мне неизвестны. Поэтому, не считая себя вправе касаться означенного предмета, предоставляю благосклонному усмотрению Вашему дальнейшее устройство его служебного положения…
Примите уверение в истинном почтении и совершенной преданности.
Граф Лорис-Медиков».
Граф Дмитрий Андреевич Толстой был взбешен. Письмо показалось ему до крайности дерзким и дьявольски хитрым. Из всех губернских попечителей учебных округов Жерве был самой надежной креатурой министра. Личная преданность, по мнению графа, с лихвой искупала все недостатки Жерве. А то обстоятельство, что весь Харьков ненавидел попечителя учебного округа… Что ж, Дмитрий Андреевич сам чувствовал к себе всеобщую ненависть и всех до единого министров, и ректоров университетов. Главное, царь высоко ставил министра народного просвещения, а нелюбовь к нему расплодившихся в последние годы в правительстве либералов только укрепляла Толстого в верности избранной им политики.
И вот ведь подлец этот Лорис. Он не стал делать тайны из своей переписки с министром народного просвещения. Весь Петербург, и слыхом не слыхивавший о Жерве, теперь только о нем и говорит. И уже до императора дошли какие-то темные слухи о несчастном попечителе Харьковского округа. Валуев давеча позволил себе с лисьей своей иронией поинтересоваться судьбою Петра Карловича.
К раскрытию переписки с Толстым Лорис-Меликова понуждала вовсе не интрига с Жерве или Ковалинским. Он нуждался в подтверждении правильности принимаемых мер – все-таки Харьков и прилегающие к нему губернии – не Терской край, где он знал каждую казачью станицу и каждый чеченский аул.
В Петербурге же за деятельностью временных генерал-губернаторов следили с особым пристрастием. Увы, очень скоро обнаружилось, что введение этого института власти на местах оправдало себя в одном лишь Харькове. О чем еще 9 мая сообщил Лорис-Меликову Валуев:
«Многоуважаемый Граф, пишу сегодня, собственно, для того, чтобы Вам передать то впечатление, которое всеми Вашими действиями и сообщениями вызывается и производится в Министерстве Внутренних Дел. Вчера вечером Маков мне тотчас прислал полученные им копии с Ваших отношений и писем к Шефу жандармов и Министру Народного Просвещения, и Ваше письмо от 6-го. Ему нужно было (а это похвально) поделиться отрадным чувством. Нашелся один человек в Российском Государстве; но и за ним нужно было обратиться к Кавказу. Какое нравоучение! Даже в такую критическую минуту, – не то что Вы лучше других; это всегда могло бы быть объяснимо; но Вы один. Прочие совершенно не в счет! Одесский самодурствует; здешний, – признаюсь, к некоторому моему изумлению, – не нашелся. Он как будто еще смотрится в зеркало, спрашивая себя: для чего я здесь, и что я, и как мне быть? Московский пока копирует, через неделю или две, что делается инде. Киевский, не отдохнувший от безрассудного свирепствования против поляков 1863 года, в 1879, по-видимому, только расправляет руки в другом направлении и засим себя спрашивает: как это все имена на „ов“, или „ин“, или „ев“, пожалуй, на хохольское „чко“, а не „цкий“, или „ич“, или „тык“? Из Харькова, напротив того, что ни звук, всё ладно. Признаюсь, что я с особым, совершенно непривычным чувством прочитал Ваши писания. Думаю, что не ускользнуло ни одного оттенка, от различия между признаваемыми Вами и неизвестными Вам прежними правами Ген. Ковалинского и г. Жерве, но внимание, – до чрезвычайно метких указаний по учебной части. Например, Ваш вывод из отсутствия мундира и привод к наружному безобразию, в виде „шика“. До Вас никто этого не высказывал. Возвращаюсь к моей мысли, что вторая часть Вашей задачи имеет еще большее значение, чем первая. Не временные неурядицы и опасности, а коренная неурядица и органические недуги требуют радикального лечения. Удастся ли? Бог весть. Но во всяком случае, в этом роковой для Государства и Государствующих вопрос. Если мы будем долее идти на социалистическом мужикофильстве, при кабаках, считая площадное ура за политический рычаг; если мы будем по-прежнему гостинодворствовать во внутренней политике Государства и затыкать окраины за пояс г. Карпова и забрасывать Европу шапкой г. Аксакова; если мы будем там давить поляка, а здесь кавказца, там забирать католический костел, а здесь запирать молельню весьма консервативных старообрядцев; если мы будем беречь сотни рублей, когда речь идет о производительном расходе, и бросать сотни тысяч на непроизводительные; если мы и впредь дадим волю раздражающим и разлагающим толкам печати и сами будем молчать по чувству китайского достоинства фарфоровых кукол г-жи Струве; если мы из Министров непременно будем творить членов Правительственного клуба, между собою ни на что не согласных, действующих каждый на свой лад и только съезжающихся на чернильные обеды по понедельникам и вторникам, и пр. и пр., то, конечно, ничего доброго и в будущем ожидать нельзя. Но самая возможность употребления слова „если“ доказывает возможность двоякого ответа.
Извините, что так дал воли своим аналитическим соображениям. Минута исторической важности. Чем быть России, решится в 1879 и 1880 г. Дикость приемов, невежественность системы, грубость соображений, близорукость взгляда – вот чем мы больны.
После общего – частное. О нем только два слова. Еще раз душевно благодарю. Мою вчерашнюю телеграмму Вы извините весьма естественным отцовским чувством. Где много предосудительного, там желательно не осуждать выше меры. Болезненность идет из рода Кошелевых, к которому принадлежит моя бабка. Двое дядей и одна из моих теток умерли в помешательстве. Странная смесь хорошего и дурного меня часто наводила на эту мысль. Например, упорное молчание, когда есть чувство, что виноват и зарвался. Словно отчаянное погружение в еще более глубокий омут.
Еще раз благодарю. Душевно преданный
Валуев».
Когда жертва неизбежна, русский чиновник пытается ее хотя бы отдалить во времени, полагаясь на великий Авось. Под сим девизом и составил граф Дмитрий Андреевич ответное послание.
«Гриф: Министр Народного Просвещения
Действительный Тайный Советник
Граф Дмитрий Андреевич Толстой.
К Временному Харьковскому Генерал-Губернатору Его Сиятельству Графу Михаилу Тариеловичу Лорис-Меликову от 15 мая 1879 года за № 185.
Секретно.
Вследствие письма Вашего Сиятельства от 5 сего Мая за № 20, в котором Вы изволили заявить о необходимости для пользы дела отозвать безотлагательно Тайного Советника Жерве от занимаемой им должности Попечителя Харьковского Учебного Округа, имею честь уведомить, что в виду возложенной на Вас Государем Императором ответственности за состояние вверенного Вашему управлению края, я вижу себя вынужденным согласиться на исполнение выраженного Вами положительного в этом отношении требования.
Вместе с тем, однако же, я не усматриваю ни возможности, ни необходимости к отозванию г. Жерве немедленно от занимаемого им поста, так как не могу считать его ни человеком политически неблагонадежным или неблагонамеренным, ни положительно вредным в отношении к управляемым им учебным заведениям… Во всяком же случае я считаю совершенно необходимым предварительно выждать окончания в учебных заведениях испытаний, кои непременно должны происходить под надзором Попечителя, который имеет по крайней мере возможность следить за ними и достаточную для сего опытность, между тем как то лицо, которому, в случае его немедленного удаления, пришлось бы его заместить, а именно Ректор Университета, еще менее может считаться подходящим в деле управления округом, уже по той причине, кроме многих других, что он сам занят испытаниями в Университете. Сверх сего Попечитель Жерве в настоящее время отправился для осмотра учебных заведений в Тамбовскую и Воронежскую губернии. По всем этим причинам я считаю нужным отложить первый приступ к отозванию его из Харькова по крайней мере до возвращения его в сей город…
Примите уверения в совершенном моем почтении и преданности.
Граф Дмитрий Толстой».
Проволочка с отстранением толстовского любимца никак не устраивала Лорис-Меликова. Пока шла эта переписка генерал-губернатора с министром народного просвещения, во 2-й Харьковской классической гимназии разразился скандал. Ученик седьмого класса Аполлон Юсевич – умненький мальчик, начитавшийся скучных книг Чернышевского, а именно крамольного его романа «Что делать?», в экзаменационном сочинении отважился прославить Рахметова как истинного героя нашего времени, целиком устремленного в грядущее счастье всего человечества. И вот ведь стервец – ни одной грамматической ошибки на семь страниц этого опуса, разве что забыл закрыть занятою причастный оборот. И ждал за свою смелость высокой оценки. На беду умного мальчика, в гимназию с инспекторской проверкой нагрянул сам попечитель учебного округа, и сочинение попало ему на стол. Господин тайный советник Жерве, чванливый и сухой, из тех, про кого говорят, будто аршин проглотил, и, кажется, напрочь лишенный всяческих человеческих чувств, топал ногами, брызгал слюной – Везувий в последний день Помпеи.
В тот же день Аполлон Юсевич особым приказом попечителя учебного округа был исключен из гимназии с волчьим билетом. В назидание всем учащимся гимназий и реальных училищ округа приказ был зачитан во всех учебных заведениях. Временному генерал-губернатору Жерве написал представление с просьбой привлечь к делу Аполлона Юсевича чины жандармского управления для расследования источника крамолы.
Когда Жерве подал свою бумагу Лорис-Меликову, пришла пора гневаться Михаилу Тариеловичу. На любезном лице генерала застыла едкая улыбка.
– А вам не кажется, уважаемый Петр Карлович, что исключать следовало не Аполлона Юсевича, а гимназическое начальство? Это с его и вашего попустительства стало возможным избрание столь сомнительной темы для сочинения на годичных испытаниях. Да, кстати, у меня есть для вас еще одна новость. Вот полюбуйтесь – донесение жандармского управления об учащемся реального училища Иосифе Гейере.
Этот самый Гейер, писал в своем донесении жандармский ротмистр Судейкин, бывал не раз замечен в окраинных пивных, трактирах и прочих заведениях, доступ в которые был категорически запрещен реалистам и гимназистам. Там Гейер, как было установлено жандармскими агентами, приобретал журнал «Земля и воля», прокламации тайных обществ, а дома, где мать его, вдова коллежского асессора, предоставляла без разрешения полицейской части кров для учеников гимназий из губернии, распространял крамольную пропаганду среди постояльцев.
– Да-с, весьма прискорбный факт, – констатировал Жерве, ознакомившись с бумагою.
– Прискорбный тем более, что узнать о нем должен был бы не я, а покойный князь Кропоткин, и не от жандармских чинов, а от вашего превосходительства. Это вы обязаны следить за атмосферой в харьковских учебных заведениях и наказывать не пылкое и слегка безмозглое юношество, а его наставников. Что теперь толку с того, что мы выставим на улицу Юсевича и Гейера? Куда они пойдут?
Сим риторическим вопросом граф Лорис-Меликов закончил аудиенцию.
Весь Петербург судачит о борьбе нового губернатора с попечителем учебного округа, граф Толстой отовсюду ловил едкие улыбочки и глотал обиду.
Все же почетную должность сенатора Дмитрий Андреевич для Жерве исхлопотал. Просьба Харьковского генерал-губернатора была удовлетворена, носам Михаил Тариелович получил в лице графа Дмитрия Толстого и Жерве лютых врагов. Как ни странно, вражда с всесильным министром народного просвещения послужила во благо. В июле Харьковский генерал-губернатор был приглашен в Петербург на Особое совещание, учрежденное императором 12 апреля для исследования причин распространения разрушительных учений среди молодежи и изыскания мер для борьбы с этим злом под председательством Валуева. На заседаниях Особого совещания 17 и 19 июля обсуждались предложения Лорис-Меликова в области народного просвещения.
Командированный в Харьков с карательными функциями, Лорис-Меликов хоть и освободил тюрьмы от людей, попавших сюда случайно, отменил своей волею смертную казнь для осужденного к ней военным судом народовольца Ефремова и смягчил наказание другим подсудимым по этому же процессу, в деле борьбы с источником крамолы в учебных заведениях оказался под сильным влиянием доклада по сему вопросу Жерве. Предложение восстановить форму одежды для студентов было не единственным и не самым суровым. Харьковский генерал-губернатор у себя в университете разработал правила, которые намеревался распространить во всех высших учебных заведениях России, фактически уничтожавшие университетский Устав 1863 года, отменявшие выборное начало в назначении ректоров и соответственно упразднявшие университетскую автономию. Дабы не допускать в гимназии детей несостоятельных родителей, которые не сумеют до конца выучить своих чад и получат высокомерных недоучек, презирающих их же самих за отсталость, Лорис-Меликов предложил ликвидировать приготовительные классы.
Предложения эти радикальностью своей превосходили программу самого Толстого, и на Особом совещании, к всеобщему удивлению, именно Дмитрий Андреевич восстал против них. Восстал из особой любви к Лорису. Годы спустя руками своего преемника Делянова он сам, к тому времени министр внутренних дел, примет все эти крутые меры. И студентов оденет в тужурки, и университетскую автономию отменит.
А вот Лорис-Меликов меньше чем через год станет активнейшим образом бороться против претворения им же предложенных мер в действительность. А когда ему укажут на явное несоответствие, поведает от того же Толстого услышанную историю первых дней на министерском посту Евграфа Петровича Ковалевского, бывшего до того попечителем Московского учебного округа.
Ему на подпись принесли три прошения.
На всех трех министр начертал: «Отказать!»
– Ваше высокопревосходительство, – осмелился спросить чиновник, подавший бумаги. – А вы не обратили внимание, кем подписаны эти прошения? Вашею же рукою-с.
– Обратил, милейший, обратил. Но тогда я был попечителем Московского округа и видел все с московской горки. А отсюда панорама шире и виднее дальше.
На этом все разговоры о мерах борьбы Харьковского временного генерал-губернатора с крамолой в сфере народного просвещения кончались.
Тогда же, в июле 1879 года, Михаил Тариелович вернулся из Петербурга, обласканный сочувствующими министрами и недовольный тем, что все его дельные предложения удалось заболтать, рассеять по душному воздуху зала для заседаний. Впрочем, граф недолго предавался мрачности и досаде. На другой день по приезде к нему явился нежданный гость – почти забытый одноклассник из Школы гвардейских юнкеров князь Артемий Абамелек.