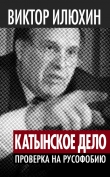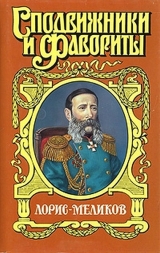
Текст книги "Вице-император. Лорис-Меликов"
Автор книги: Елена Холмогорова
Соавторы: Михаил Холмогоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
Генерал оказался совсем не страшный. Да еще говорил на местном наречии. И говорил с каждым, кто, одолев робость, выбивался к нему из толпы, поначалу недоверчивой, готовой в любой миг схватиться за оружие. И скоро инспекционная поездка начальника превратилась в праздник: весть о приближении генеральской коляски неслась впереди нее, и в каждом ауле гостя ждали с хлебом и солью почтенные старики.
Когда вышел Манифест об освобождении крестьян, Лорис-Меликов стал подумывать, не ввести ли крестьянскую реформу и здесь – освобождение горцев от крепостного ига подорвало бы могущество племенных вождей, оживило торговлю и ремесла, но, пока наместником на Кавказе был князь Барятинский, об этом нельзя было и мечтать. Достаточно уж того, что князь, наконец, в полной мере оценил достоинства военного начальника Южного Дагестана, представив его к ордену Владимира 2-й степени и к следующему чину – генерал-лейтенанта.
Орден был получен из рук князя Барятинского, а генерал-лейтенантом Лорис-Меликов стал в другой должности и при другом наместнике. В декабре 1862 года, истомленный борьбою с военным министром, фельдмаршал Барятинский вышел в отставку и тотчас же отправился за границу на воды. Наместником на Кавказе стал брат царя, четвертый сын Николая I, великий князь Михаил Николаевич. Воинское его звание было генерал-фельдцейхмейстер, то есть высший начальник артиллерии. Несмотря на столь грозное звание, человек он был вовсе не воинственный, в отличие от своего покойного дяди и тезки, звание носил чисто номинально и делами артиллерии даже не интересовался. Впрочем, и делами вверенного ему края он тоже интересовался постольку-поскольку – жизнь частная была ему интереснее.
Это был первый наместник, который по приходе своем на Кавказ не стал наводить порядка. Но изменения в руководстве краем произошли, и для Лорис-Меликова существенные. Взращенный Барятинским до генеральского чина и хлопотной должности начальника Терской области, князь Дмитрий Иванович Святополк-Мирский был тем же Барятинским рекомендован своему преемнику в помощники и с радостью поспешил в Тифлис. Начальником же Терской области 23 марта 1863 года был назначен генерал-майор Лорис-Меликов (меньше чем через месяц он будет утвержден в следующем чине).
Новое назначение совпало с событием знаменательным: в тот же день родился третий ребенок в семье и первый сын, названный в честь деда Тариелом. Генерал счел это хорошей приметой, сулившей счастье.
Счастье, как его Господь ни сули, надо заработать самому.
А Терская область досталась Лорис-Меликову в состоянии ужасающем. Вновь завоеванные земли, объявленные казенными, задешево распродавались его предшественниками «нужным людям», дороги оставляли желать много лучшего, в управлении областью царил хаос, естественный в том полувоенном положении, в котором оставался этот край. В состав Терской области была включена Чечня – предмет беспокойства всех правителей Кавказа. Разобравшись в ее проблемах, Лорис-Меликов подал великому князю Михаилу Николаевичу особую записку, в которой писал:
«Настоящее тревожное и неопределенное положение чеченского населения, самого значительного по числу из всех туземных племен Терской области и самого беспокойного, заставляющего опасаться новых беспорядков и новых с нашей стороны усилий, произошло, главным образом, вследствие тех крайне противоположных систем управления, которые область испытала в непродолжительный промежуток времени.
По завоевании Кавказа и взятии Шамиля, чеченское население лишилось опоры против нашего владычества и некоторое время находилось в неопределенном положении. По-видимому, оно покорилось навсегда, но в сущности этой покорности не было, т. е. не было в народе этом убеждения, что власть Шамиля неизбежно должна замениться нашею. Это выразилось тем, что некоторые аулы чеченского племени, даже когда покорился весь Дагестан, не теряли какой-то смутной надежды избегнуть той же участи и сложили оружие только тогда, когда дальнейшее сопротивление было бесполезным. Бывший в то время начальником области генерал-адъютант граф Евдокимов, от которого не скрылось это настроение Чечни, видел ясно, что население ее требует все-таки многих энергических мер, без которых трудно упрочить окончательное спокойствие в области. Поэтому он принял систему, которая обусловливалась самыми свойствами чеченского народа.
Первобытное демократическое устройство чеченского племени, не уживавшееся ни с каким понятием о праве одной постоянной власти, ставило даже Шамиля в необходимость управлять им только посредством страха и периодических казней лиц, шедших против его влияния. Наследовать такой образ управления мы не могли, а потому, чтоб поставить чеченцев в то положение, в котором должны находиться побежденные к победителям и подданные к законной власти, граф Евдокимов не видел другого средства, кроме того, чтобы действовать против чеченцев, как бы они вовсе нам не покорялись, т. е. он решился, так сказать, завоевать Чечню во время мира. Для этого он счел необходимым стеснить туземное население, вывести его из предгорий и поселить или же на открытой местности Малой Кабарды, или же воспользоваться тогдашним движением мусульман на Кавказе и перевести их в Турцию, чтоб этим средством избавить область от беспокойного населения, с которым он не видел иного средства справиться. Земли же, которые должны были оставаться свободными, за уходом населения, имелось в виду отвести под поселение 2-го Владикавказского полка или оставить их пустыми.
Едва предположения эти начались приводиться в исполнение, как тотчас же встретили сопротивление со стороны народа. Чеченцы поняли, к чему клонятся эти меры, и сознание ожидавшей их будущности побудило их к противодействию всеми силами. Большая часть горцев, на которых рассчитывали, что они уйдут в Турцию, – осталась. Между тем их земли были уже отданы другим, которые, в свою очередь, должны были очистить места для казаков. Это обстоятельство еще более увеличило уже возникшие затруднения. Некоторые, как, например, карабулаки, не хотели вовсе оставить своих аулов и были готовы к открытому сопротивлению. Затем обнаружились беспорядки в Аргунском ущелье и Ичкерии. Появились значительные шайки, сообщения сделались небезопасными, и все чеченское население стало в положение, грозившее общим восстанием.
Когда дела приняли такой оборот, то, чтобы достигнуть предположенной цели прежним путем, нужно было сломить во что бы то ни стало сопротивление народа. Это повлекло бы к новой, быть может, продолжительной борьбе, которая, без сомнения, кончилась бы в нашу пользу и навсегда бы уже решила вопрос окончательного успокоения Терской области. Мы хотя и с пожертвованиями, но достигли бы цели, ослабив племя, которое признано было малоспособным войти в состав государства и стать в ряды его подданных.
Но Восточный Кавказ считался покорным, и опасения, чтоб возникшие беспорядки не были приняты за следствие наших собственных ошибок, принудили изменить принятую систему. Она остановилась на половине дороги, и граф Евдокимов был отозван в Кубанскую область, дела которой поглотили всю его деятельность. Помощник его, генерал Кемпфорт, хотя и действовал в военном отношении удачно, но не был в состоянии выполнить окончательно предначертания графа и привести туземное население в желаемое положение. К тому же опасение продолжительных беспорядков в части Кавказа, которая была объявлена покорной, невыгода усилить Турцию приливом свежего населения и мнение, что чеченцы, при гуманном обращении, могут изменить свои вековые хищнические привычки и из полудикого народа сделаться со временем гражданами, восторжествовали.
Граф Евдокимов окончательно устранился от вмешательства в дела Терской области и передал ее князю Мирскому, который, на основании убеждений в возможности успокоить Чечню другими мерами, принял немедленно совершенно обратный образ действий».
Целью этой записки было добиться полной свободы действий, которую наместник ему с большим для себя облегчением предоставил, при минимуме ответственности, если плоды управления областью не созреют в первые же недели работы нового начальника, которому пришлось отвечать за свирепый нрав героя Гуниба и повергшие область в полный хаос меры его преемника.
Собственно, меры князя Мирского сводились к отсутствию каких бы то ни было мер. Если Евдокимов обращался с Чечней, будто она никогда и не была покорена, то Дмитрий Иванович на все закрывал глаза, полагая, что область эта состоит из благонамеренных и законопослушных граждан. А проблемы, оставшись неразрешенными, росли как снежный ком, запутываясь день ото дня.
Лорис-Меликов, приступив к исполнению должности начальника Терской области, первым делом попытался уговорить хотя бы несколько десятков семей уехать в Турцию и достиг в этом немалого успеха. Он пересмотрел также место размещения казачьего Владикавказского полка с учетом расселения оставивших оружие чеченцев. Незавершенные сделки с земельными участками, сомнительные с точки зрения закона, он приостановил, освободив тем самым пространство для новых казачьих станиц.
Наконец, здесь, в Терской области, Лорис-Меликов решился на осуществление Крестьянской реформы 1861 года. Он первым на Кавказе освободил крестьян как в русских поселениях, так и в горных аулах от крепостной зависимости. Былые вожди кавказских племен тотчас потеряли силу и авторитет. Первобытная демократия горских народов сыграла на руку властям, так как феодальные отношения в их среде не были закреплены общероссийскими законами. Новое положение очень быстро успокоило Чечню – оно немало озадачило население, нашедшее для себя много выгод в избавлении от гнета своих властителей. О властителях русских они на время позабыли.
Вообще за реформы Лорис-Меликов взялся с большим азартом, применив немало энергии для их воплощения. Петербург, в котором реформаторская деятельность после выстрела Каракозова[30]30
Каракозов Дмитрий Владимирович (1840-1866) – участник революционного движения. 4 апреля 1866 г. стрелял в императора Александра II при выходе его из Летнего сада в Петербурге, но промахнулся. Схваченный на месте покушения, Каракозов был арестован, и 31 августа 1866 г. Верховный уголовный суд приговорил его к смертной казни. Он был повешен в Петербурге на Смоленском поле.
[Закрыть] остановилась, далеко, начальник области был во многом предоставлен самому себе и мог действовать на свой страх и риск. Он организовал сельскую общину и ввел сельские суды не только в деревнях и станицах, но и в глухих горных аулах. Судьи при этом не назначались, а избирались самим населением, равно как и помощник сельского старшины и сборщик податей.
Позже наместник Кавказский великий князь Михаил признался, что реформы на Кавказе начинались в Терской области и уже потом распространялись по всему краю. Во всяком случае, из всех начальников областей Кавказа только Лорис-Меликов удостоился «за оказанные заслуги при приведении в исполнение освобождения от крепостной зависимости рабов и крестьян горских племен Терской области Именного Монаршего благоволения».
Как много воды утекло с той поры, когда генерал-адъютант Лорис-Меликов управлял Терским краем. Всё, решительно всё поросло быльем – и его реформаторская деятельность, и проведение каналов, и исправление дорог, разбитых новыми поколениями… Что же, так и остались бесследны те годы?
Нет. В центре Владикавказа стоит одно из красивейших и по нынешний день зданий. Это русский театр, основанный в 1872 году хлопотами управляющего Терской областью.
Вечера в Эмсе

Ему перевалило за пятьдесят, он достиг всех мыслимых в его положении высот – генерал-лейтенант, генерал-адъютант, наказной атаман Терского казачьего войска, управляющий с правами генерал-губернатора Терской области. Старший сын устроен в Пажеский корпус, младший – Захарий – тоже пойдет по его стопам, так что их будущее не должно вызывать никаких беспокойств. Чего еще надо?
А он уже порядком устал от мелких интриг, которые плетет против него тифлисская придворная сволочь, устал от дурацких приказов Кавказского наместника великого князя Михаила Николаевича… И в конце концов, пора заняться собой, здоровьем своим, смолоду больными бронхами и легкими… Для отставки срок еще не вышел, и Михаил Тариелович Лорис-Меликов подал прошение о бессрочном отпуске «до излечения». Великий князь в награду за безупречную службу испросил для него следующий чин – генерала от кавалерии и с легким сердцем отпустил на все четыре стороны, оставив состоять при своей особе.
Это была самая счастливая пора в его жизни, и длилась она целых полтора года. Он занялся наконец своим имением на Кубани, высочайше пожалованном еще в 1868 году и находившимся без особого присмотра. Объездил все пять тысяч десятин, принял отчет от управляющего, назначил нового, из поляков, а значит, честного, дотошного и толкового, а сам с женою и детьми отправился в странствования по европейским курортам.
В Берлине по дороге в Эмс попалась на глаза изданная там русская брошюра «Наше положение». Об авторе ее Александре Ивановиче Кошелеве[31]31
Кошелев Александр Иванович (1806-1883) – публицист, журналист, мемуарист, общественный деятель.
[Закрыть] Лорис-Меликов слышал краем уха, что он был когда-то весьма активным деятелем Крестьянской реформы, принимал участие в образовании земств… И больше ничего не слышал. Книжка же показалась интересной – видно, что писал ее человек, озабоченный судьбами России и чрезвычайно досадующий на то, что реформы, с таким жаром начатые, заглохли в русском бездорожье, а заглохнув, стали оборачиваться уже против народа, ради которого и затевались. Как это у Некрасова? «Одним концом по барину, другим – по мужику». Кошелев видит спасение в развитии демократических институтов – расширении прав земства, отмене цензуры, создании на основе земств Общей Земской Думы, куда бы избирались лучшие деятели из провинции. Свобода печати и Общая Земская Дума, по мысли автора, – вернейшее средство объединить царя и отечество. Ведь до государя правда не доходит, ее прячут чиновники.
На Кавказе земства учреждены не были, и Михаилу Тариеловичу было крайне интересно понять, что же это такое. Он хоть и был в долгосрочном отпуске и понимал, что во Владикавказ, скорее всего, не вернется, но еще не расстался с генерал-губернаторскими мыслями и каждое соображение автора пытался в мечтах примерить к оставленной Терской области. Хорошо бы познакомиться с этим Кошелевым.
На ловца и зверь бежит. В гостинице в Эмсе Лорис-Меликов полюбопытствовал у портье, кто из русских пребывает на курорте, и среди перечисленных лиц оказался господин Кошелев из Москвы.
Пожилой господин в очках с золотой оправой важно шествовал по аллее, совершая моцион после приема стаканчика кесселя – местной минеральной воды, по мнению докторов улучшающей работу желудочно-кишечного тракта. Как-то жалко было спугнуть это сосредоточенное на собственном здоровье состояние. Но и поговорить интересно.
– Прошу прощения, это вы Александр Иванович Кошелев?
– Кошелев, с вашего позволения.
– Очень приятно. Меня зовут Михаил Тариелович Лорис-Меликов. Я только что прочитал вашу книжку «Наше положение», вполне сочувствую вашим взглядам и желаниям и непременно пожелал познакомиться с вами.
– Весьма рад. – В глазах за очками, умных и проницательных, мелькнула радость почти мальчишеская. Но облик был строг и величав. – Не изволите ли в таком случае, уважаемый Михаил Тариелович, согласиться на приглашение отобедать у меня?
Михаил Тариелович изволил.
У Кошелева его ждал сюрприз. Хозяин был не один. Старичок, сильно смахивающий на доброго крестьянского дедушку, рассказывал о новгородском вече с такими подробностями, будто в Эмс приехал прямо с его очередного собрания. Лицо его, грубое и простое, из глубины освещалось ясными голубыми глазами, и оттого мгновенно стиралась топорная вырубленность неказистых мужицких черт, все в нем становилось несущественно, кроме мудрости и щедрых знаний. Звали старичка Михаил Петрович Погодин[32]32
Погодин Михаил Петрович (1800-1875) – русский историк, публицист и писатель. В 1835-1844 гг. заведовал кафедрой русской истории в Московском университете. В 1827-1830 гг. издавал журнал «Московский вестник», в 1841-1856 гг. – «Москвитянин».
[Закрыть].
И Михаил Тариелович Лорис-Меликов, отягощенный полнотою званий, а именно: полный генерал, генерал-адъютант Его Императорского Величества, полный кавалер орденов Святой Анны, Станислава, Белого Орла, Александра Невского, Наказной атаман Терского казачьего войска – стушевался рядом с такой знаменитостью. Подумать только – он пожал руку, знавшую тепло ладони Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Этот старичок когда-то на равных спорил с Белинским, блистал на кафедре университета вместе с Грановским. Собственные заслуги перед царем-отечеством вмиг потускнели, генерал почувствовал себя пустым гвардейским офицером в таком обществе. И первые полчаса боялся слово проронить.
Однако ж разговор был интересен, мало-помалу Лорис-Меликов втянулся в беседу. И оказалось даже, что его соображения насчет настоящего и будущего России не так уж и ничтожны. Все-таки опыт управления столь пестрой по составу населения губернией, как Терская область, кое-что да значит. Он давно подумывал о том, что и на Кавказе пришла пора вводить земство – администрации, хоть она и семи пядей во лбу, не уследить за меняющимися потребностями людей, да и ответственность, падающая на одного лишь губернатора, тяжеловата. Очень, кстати, его потешила одна фраза из книжки Кошелева на этот счет: «Жалуются на недостаточность власти преимущественно те губернаторы, сиречь помпадуры, которые стремятся дать своему произволу полный разгул и обратить свои области в турецкие пашалыки». Среди губернаторов, наезжавших на кавказские воды, он навидался этих помпадуров.
– Да, кстати, Александр Иванович, а ведь мне пришлось однажды управлять турецким пашалыком.
– И при сем помпадурствовали?
– В известной степени. Все-таки мое управление было военным. Но с оглядкою. Что ни говори, а Турция для нас – чужой монастырь. Но наше правление там было значительно разумнее турецкого, самодурства мы себе не позволяли. И вообще демократические порядки, скажу я вам, следует вводить, не оглядываясь на созревание народа, развитие и прочее. Если ждать и ничего не делать – ничего и не дождешься. Народ созревает в процессе, когда сам участвует в движении. Спешить тоже не следует, здесь нужна известная постепенность.
– Россия, сударь мой, – заметил из угла, где он устроился в глубоком кресле, Погодин, – такая страна, что никаких постепенностей не признает. Ей или все, или ничего. Стоит сказать «постепенно», как тут же все и замрет-с. Для движения нужен Петр с палкою.
– А для остановки – Николай. Палкин. – И Кошелев весело расхохотался своему невольному каламбуру.
Генерал раскланялся первым, и, как всегда бывает после знакомства, едва дверь за ним затворилась, персона его стала темой обсуждения.
– Как все-таки странно, однако, – сказал Александр Иванович, – военный, армянин, всю жизнь провел на диком Кавказе, а смотрит на вещи и события как совершенно русский гражданин и человек современно развитый.
– Что ж вы хотите, батенька, он при Воронцове и Муравьеве-Карском служил. А это были личности весьма яркие, – ответствовал Погодин. – К тому же он ведь в Лазаревском институте учился. У нас в университете лазаревские всегда отличались. Даром что инородцы. Армяне очень, скажу я вам, живой и сообразительный народ. Древняя культура.
Скучный Эмс с его педантичной подчиненностью курортному режиму преобразился. Прав Достоевский – надо, чтобы человеку было куда пойти. И теперь целые вечера Кошелевы, Погодины и Лорис-Меликовы проводили вместе. Кошелев в продолжение «Нашего положения», каждый раз досадуя, что столь благонамеренную книгу в силу идиотизма отечественной цензуры приходится издавать в Берлине, писал работу «Общая Земская Дума» и по вечерам читал свежие главы.
– Общая дума – вещь, несомненно, полезная, – высказался генерал в первый вечер. – Но как согласовать существование такой думы с нашим самодержавием? Все-таки как его по-русски ни называй, думой ли, собором, а это уже парламент.
– Нет-нет-с, если и парламент, то только отчасти. – Александр Иванович при этих словах как-то так укрыл рукопись руками, будто оберег ее, цыпленочка своего, от налета хищного коршуна. – Мы же не предлагаем решающего голоса. Это как бы совет, съезд сведущих людей, избранных от всей России. И с одной только целью – довести до царя правду о России, а до правительства – свои местные нужды. Чтоб законы не из министерского пальца высасывались, а порождались самой природою российского существования. Что может видеть министр из своего окошка где-нибудь на Большой Морской или Литейном? Так-с, парадный подъезд. И то не разглядит и десятой доли увиденного Некрасовым.
– А если ей не дать решительного голоса, зачем созывать? Ее никто и слушать не будет. И авторитета никакого.
– Авторитет уж тем будет высок, что люди, ее составляющие, избираются, а не назначаются начальством по капризу личных симпатий. Дума будет оберегать наше законодательство от противоречий. Таких, к примеру, как установления о цензуре губернаторов над журналами земских собраний или непременное председательство на них предводителей дворянства. В три года значение земства подобными установлениями свели к нулю!
Александр Иванович кипятился, в каждом вопросе он слышал возражение и даже явное противодействие своим мыслям, будто речь уже шла о немедленном учреждении думы здесь же, сейчас. Вот-вот государь император склонится перед доводами и подпишет указ, но пришли сомневающиеся господа, задают свои едкие вопросы и мешают царю установить справедливое правление. Потом, правда, остывал, опоминался, что он в Эмсе, среди друзей, а до учреждения думы в России еще ох как далеко.
Месяц с Кошелевыми и Погодиными пролетел незаметно в спорах о конституции и от том, как проводить ее начала в нашем отсталом отечестве, не изжившем еще крепостнических предрассудков, тогда как капитализм, не успев утвердиться, порождает свои предрассудки, не разумнее старых. Как сам же Александр Иванович справедливо заметил, «без гроша в кармане и только с отвагою в душе и голове мы составляем компании, стараемся извлечь что можем и затем покидаем их на произвол судьбы. Состоятельность и честность в денежных делах у нас почти не существуют и ими мало дорожат».
Москвичи уехали, но мысли, ими возбужденные, не давали спокойно спать. Что, вообще-то говоря, странно: какая печаль отставному губернатору до учреждения Общей Земской Думы? Собственное будущее представлялось Лорис-Меликову весьма туманно. Он был назначен состоять при его императорском высочестве великом князе Михаиле Николаевиче, но и ему самому, и его высочеству ясно было, что никакой должности для генерала в Тифлисе нет и в скором времени не появится. В Петербурге же его никто толком не знает, да и сам он не очень стремится в стольный град. Так что гуляй, Михаил Тариелович, по европейским курортам и не забивай себе голову пустопорожними рассуждениями.