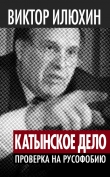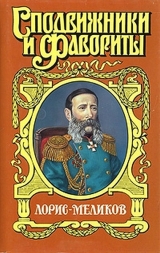
Текст книги "Вице-император. Лорис-Меликов"
Автор книги: Елена Холмогорова
Соавторы: Михаил Холмогоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
Этот самый Артемий Абамелек являл собою фигуру до чрезвычайности комическую. Маленького роста и с огромным армянским носом, за что и прозвище получил соответствующее – Нос, был он в высшей степени спесив и высокомерен. Выступал он важно, высоко задрав голову, и гляделся будущим генералом, хотя в отставку вышел, не дослужив и до майора. Был он знатного армянского рода, то есть из тех тифлисских дворян, которые попали в список, поданный царем Вахтангом Екатерине Великой, – список, составленный наспех и неполный. И Абамелеки, в отличие от Лорис-Меликовых, знатность которых подтверждена была после долгих хлопот лишь в 1832 году, сохранили таким образом свой княжеский титул. Глупое это обстоятельство до необыкновенных размеров раздуло чванливость Артемия, в особенности перед Лорисом, и хотя, кроме них двоих в Школе армян в ту пору не было, о каком-либо национальном братстве и думать не приходилось: Артемий задирал свой грандиозный нос, а Михаил не упускал случая выставить Абамелека на всеобщее посмешище. Благо тому и повод был. Великий князь Михаил Павлович, посещая Школу, если в тот момент находился в прекрасном расположении духа, любил таскать Абамелека за нос, чем последний тоже немало гордился.
Услышав о странном сем визитере, Михаил Тариелович распорядился попросить гостя подождать. Выйти к Абамелеку можно и в домашнем халате – однокашничество позволяло обойтись и без церемоний. Так ведь это ж Нос! И хозяин дома решил переодеться.
Он явился пред гостем в полном мундире генерал-адъютанта, с Владимирской лентой через плечо и при всех орденах.
– Я рад, ваше сиятельство, что вы посетили меня в скромном моем уединении.
Абамелеку ничего не оставалось, как тоже титуловать хозяина сиятельством. Он был ослеплен. Вот уж никогда не думал, что Мишка так, возвысится и таким образом собьет с него спесь. Он и тон-то верный не сразу нашел, пока Лорис сам не рассмеялся комедии, которую устроил гостю своим переодеванием, и не повел разговор в тоне дружеском и мемуарном. Вспоминались старые забавы, кутежи и курьезы на учениях.
Артемий оказался в Харькове проездом. Жил он под Одессой, где у него было обширное поместье, а сейчас ехал в Петербург жаловаться на генерал-губернатора. Едва он вспоминал Тотлебена, весь вспыхивал, краснел, а в речи вдруг обнаружился кавказский акцент, какого у него, родившегося в Петербурге, и намеком не было.
– Все говорят, ти самий умный губернатор. Поезжай к нам в Одессу. Я к царю еду, царя за тебя просить буду, умолять буду, чтоб тэбя прислал. У нас такой дурак, такой дурак! Он с турками не навоевался, со мной воюет. Думает, что моя Раёвка – это поместье мое – Плевна. Роту жандармов прислал – всю мебель мне переломали, полы вскрывали, стены ободрали.
Князь Абамелек горячился, путался в словах, а история с ним вышла вот какая. Князь выдал дочь замуж за хорошего человека, тоже гвардейского офицера и тоже князя, Енгалычева. Раз такой человек хороший, Артемий не поскупился – выписал приданое из Парижа. На таможне ящики задержали, пришлось послать туда приказчика. Приказчик уговорил таможенников отдать ему хозяйские ящики и имел глупость дать в Раёвку телеграмму: «Ура, наши ящики выпущены!»
– Так что ты думаешь? – шумел Артемий. – У нас есть тайна переписки? У нас нэт тайна переписки. Телеграмма отправлена мне? Мне! Так почему ж она в тот же день на столе у Тотлебена? А что понял из нее этот остолоп? Он решил, что в ящиках динамит! Я дома сижу, обед кушаю – и тут целая рота жандармов с обыском. Он бы мне полк прислал! Все переломали, все разорили! Динамит, понимаешь, искали. Это у меня, гвардейского гусара!
«Гвардейский гусар» никак не вязался с толстеньким плешивым господином, от гнева выпрыгивающим с кресла и топающим коротенькими ножками. Лорис-Меликов успокаивал его как мог, но это требовало особых усилий – он до крови прикусил язык, удерживая клокочущий в груди хохот. При всем старании оценить драматизм ситуации и увидеть ужас разгромленного дома комический облик Артемия застил собою все. И, ох, слаб человек, хоть и граф Российской империи и полный генерал. Было какое-то торжество – над глубоко внутрь загнанными отроческими обидами, которые терпел когда-то от Носа, над прославленным героем Севастополя и Плев-ны, явившим миру полную бездарность в делах гражданских, довольство своим разумным правлением в Харькове.
Еще в апреле, вскоре после принятия в Тырнове конституции, поднесенной болгарам руками старинного кавказского приятеля Лорис-Меликова князя Александра Дондукова-Корсакова, пять Земских собраний – Харьковское, Тверское, Полтавское, Черниговское и Самарское – направили императору Александру II адреса, в которых заявили о необходимости созвать Земский собор или Общую Земскую Думу. Харьковское земство изъявляло готовность бороться «за общественный порядок, собственность, семью и веру», но, писалось в адресе, «при существующем положении земские силы не имеют никакой организации». Заключал это прошение царю-батюшке такой пассаж: «Всемилостивейший Государь, дай Твоему верному народу то, что Ты дал болгарам».
В Петербурге поднялся переполох, при дворе сочли эти адреса за подрыв основ самодержавия. Министр внутренних дел Маков, издавна ненавидевший земства и немало приложивший руку к ограничению их прав временными – как водится в России, почитай, навсегда – правилами, тотчас же разослал предводителям дворянства и губернаторам циркуляр, категорически запрещавший распространение подобных адресов и предписывающий строго наказать их авторов. Циркуляр, несомненно, дурацкий и панический, отметил, получив его, Лорис-Меликов. Если ему следовать, то воевать придется не с безумцами революционерами, а вполне благонамеренными и законопослушными земскими деятелями.
Автором харьковского адреса был городской глава, отставной университетский профессор Егор Степанович Гордиенко – человек умный, здравомыслящий и смелый. Он отважился собрать делегацию земцев и встретиться с руководителями «Народной воли» и попытаться уговорить революционеров приостановить террор, чтобы дать правительству время на проведение реформ. Террористы, заявив, что правительство само беспощадными репрессиями вынудило их к террору, пообещали все же «посмотреть» и выдвинули свои требования: I) устранить стеснения свободы слова; 2) гарантировать права личности против произвольных, незаконных и несоответственных поступков исполнительных властей; 3) призвать тем или иным способом население к участию в управлении. Увы, гарантий этих земцы дать не могли за отсутствием хоть каких-либо рычагов давления на власть, но аргументы Гордиенко, показавшего, что в Харькове произвола меньше, чем в любых других губерниях, хоть и вызвали иронические усмешки, но вроде как подействовали.
Встреча эта не стала тайной от Харьковского генерал-губернатора. Он сам вполне разделял умеренные взгляды Гордиенко, бывшие немногим радикальнее взглядов Кошелева и его собственных. Но циркуляр – приказ высшего начальства, он воплощал царствующее в правительстве мнение, и с этим надо считаться. Михаил Тариелович, призвав к себе Гордиенко, посоветовал ему на время поутихнуть с конституционными идеями, потерпеть до лучших времен, министру же сообщил, что сделал городскому голове строгое внушение. И ситуация в Харькове как-то сама собою поутихла, спустилась на тормозах.
Так тихо и спокойно, без особых эксцессов подошел к концу в губерниях, подвластных Харьковскому генерал-губернатору, 1879 год. А после Рождества пришла пора писать отчет, с которым Лорис-Меликова ждали в столице в начале февраля.
Всеподданнейший отчет – жанр не из легких. В августе император соизволил одобрить доклад Эдуарда Ивановича Тотлебена, в котором оправдывались самые жестокие репрессии по отношению к любому проявлению недовольства. И как ни пожимали плечами Валуев, Милютин и даже Маков, но Александру твердость и непреклонность Одесского генерал-губернатора пришлась тогда по душе – такой был у него настрой. И хлопоты бедного князя Абамелека не увенчались успехом – Артемия просто-напросто не подпустили к августейшей особе с жалобами на угодившего царю сатрапа.
Но время течет, занося мягким, топким илом острые камни. Близилось двадцатипятилетие царствования Александра II, и из Петербурга просачивались какие-то смутные слухи о предполагавшихся новых либеральных акциях – чуть ли не конституции, которую император готов пожаловать русскому на-, роду в день юбилея 19 февраля. Говорят, на днях назначается совещание по сему поводу в Мраморном дворце – у великого князя Константина Николаевича…
Слухи эти придали смелости Лорис-Меликову, и он рискнул в докладе своем не ограничиваться перечислением предпринятых им мер, по суровости своей далеко уступающих даже безвольному в полицейском деле генералу Гурко, но высказать свои предположения о том, что следует предпринимать генерал-губернаторам впредь, какими правами их следует наделить в будущем, дабы в скором времени от положения чрезвычайного перейти к законному правлению.
«Присвоение Генерал-Губернаторам исключительно лишь карательной власти, – писал Лорис-Меликов в отчете, – было бы недостаточно для выполнения всех лежащих на них обязанностей, в ряду которых преобладающее значение должно иметь не только преследование обнаруженного уже зла, но стремление своевременно предупредить его. Причины зла кроются в столь многих и разнообразных условиях общественной и экономической жизни, что высшему представителю власти в крае необходимо быть постоянно настороже и иметь возможность проявить свое влияние везде, где в нем встречается необходимость. Такая задача достижима только тогда, когда Генерал-Губернаторы приходят в соприкосновение с местными интересами в лице их представителей и, узнавая этим путем об их нуждах, в состоянии дать движение предпринятым ими законным ходатайствам и вообще оказывать им требуемую обстоятельствами поддержку.
Понимание в этом смысле обязанности Генерал-Губернатора устанавливает между ним и обществом ту неразрывную и затрогивающую насущные его потребности связь, которая должна быть для Правительства гораздо ценнее одного страха, внушаемого правом карать».
Это надо уметь. Ни слова впрямую вроде бы не сказано, фактически же присланный в Харьков карать генерал-губернатор намекает, что не прочь учредить на месте своего рода конституцию, чтобы потом успешный опыт ее перенести на всю империю.
«При установлении указанного выше порядка, – добивает аргументом всякое сопротивление своей мысли Лорис-Меликов, – могла бы постепенно ослабевать необходимость суровых карательных мер, сила и значение которых велики только до тех пор, пока общество не успело с ними свыкнуться; продолжительное же применение этих мер, не достигая положенного в основание их спасительного устрашения, перестает оказывать и ожидаемое от них полезное влияние (курсив наш. – Авт.).
Авторитет власти поддерживается не только правами, присвоенными ей, но и образом действий ее представителей, а также приобретаемым ими в обществе влиянием; поэтому в вопросе о правах Губернаторов имеет в одинаковой мере значение и личный их состав. Между тем многие не вполне соответствуют своему назначению, и нет основания предполагать, чтобы при увеличении их прав улучшился контингент, из которого пополняется в настоящее время губернаторский персонал».
Памятуя о знаменитом маковском циркуляре по поводу земских адресов и прочих указаний из Петербурга, вносящих полную путаницу в делах, Харьковский генерал-губернатор счел за разумное заметить: «Правительственные мероприятия прежде выполнения желательно согласовывать с Генерал-Губернатором – высшим представителем власти в крае, не зависимом от местных передряг и недоразумений».
Лорис-Меликов, человек военный, прошел блистательную школу русского чиновничества у лукавейших царедворцев – Воронцова, Барятинского, великого князя Михаила Николаевича. С начальством на Руси следует делиться идеями и не спешить за авторским приоритетом. Пусть думает, что они ему самому пришли в голову. А посему отчет свой он завершил следующими словами: «Посвятив себя всецело на служение Вашему Величеству и Отечеству, я счел своею священною обязанностью всеподданнейше доложить с полною откровенностью выработавшиеся во мне путем опыта убеждения, дабы указания, которые Вашему Императорскому Величеству благоугодно будет преподать, послужили руководством для дальнейшей моей деятельности».
2 февраля 1880 года Михаил Тариелович Лорис-Меликов вручил государю императору всеподданнейший доклад. Царь вникать в доклад в 60 листов не стал, а отдал его для прочтения Петру Александровичу Валуеву, незадолго перед Новым годом назначенному председателем Комитета министров и комиссии прошений вместо скончавшегося 20 декабря графа Павла Николаевича Игнатьева. Валуев оставил по этому поводу в дневнике своем за 3 февраля такую запись: «Читал также записку гр. Лорис-Меликова, хорошо написанную, несмотря на обычную риторику верноподданства об „обожаемом“ монархе, и высказывающуюся за прочное создание генерал-губернаторств». Давно ли Валуев хвастался, что идея этого учреждения принадлежит ему самому? Так ведь тогда он был хоть и авторитетным, но всего лишь министром. Да и кто мог предположить год назад, что идея – одно, а исполнение и исполнители – совсем-совсем иное и благим идеям несоразмерное? Кроме Лориса, никто не справился со своею задачей.
Сам Лорис-Меликов намеревался прожить в Петербурге до конца торжеств в честь двадцатипятилетия царствования Александра II, а к началу марта вернуться в Харьков.
Человек предполагает, а Бог…
Бомба в Зимнем дворце

Это еще большой вопрос: Бог ли то был, Сатана ли?
Скорее всего, Сатана. Он принял облик веселого, расторопного мастерового с быстрыми лукавыми глазами Степана Батышкова, поступившего по случаю ремонтных работ столяром в Зимний дворец. Мастера нахвалиться не могли молодым и резвым, чрезвычайно исполнительным рабочим. Все кипело в его умелых руках. Только вот очень странным иногда казалось – взгляд его бывал, когда задумается, то рассеянный и ничего вокруг себя не видящий, а то вдруг загорится такой испепеляющей злобой, что оторопь берет, но на мгновенье, его тут же сменяет чуть заискивающая добрая улыбка. Но об этом вспомнят потом, когда поздно будет.
Зимний дворец жил своею жизнью. Съезжались гости к императору на праздник. Царь все думал, чем отметить славную годовщину своего властвования, мелькнула даже мысль не то чтоб о конституции, но о каком-то движении в ее сторону. В начале января, уже в который раз, он потребовал от Валуева его докладную записку, поданную еще в апреле 1863 года, о преобразовании Государственного совета, в состав которого, наряду с назначаемыми членами – в основном действующими и отставными министрами, входили бы лица, избранные от губерний и крупнейших городов. Тогда из-за польского восстания мера эта показалась слишком революционной и была отложена до лучших времен. Свою записку на сей счет, гораздо более умеренную, в начале 1866 года подал великий князь Константин Николаевич – самый пылкий сторонник реформ в царствующем доме. Каракозов, промахнувшись в царя, прострелил предложение великого князя. Теперь же император и о нем вспомнил и после некоторых раздумий остановился, скорее, на великокняжеском варианте дарования новых свобод, о чем и поведал брату своему, предложив для начала обсудить ее на Особом совещании с министрами и наследником цесаревичем.
Ближайший сотрудник и помощник в Государственном совете, где великий князь Константин Николаевич председательствовал, государственный секретарь Егор Абрамович Перетц[44]44
Перетц Егор Абрамович (1833-1899) – барон, статс-секретарь, государственный секретарь, с 1878 по 1883 г. член Государственного совета.
[Закрыть] оставил в своем дневнике бесценную запись о благом порыве императора:
13 января к великому князю Константину Николаевичу приехал Государь и сам заговорил о его записке 1867 (ошибка Перетца. – Авт.), написанной вчерне в Ореанде и доведенной до ума совместно с тогдашним государственным секретарем князем С. Н. Урусовым[45]45
Урусов Сергей Николаевич (1816-1883) – статс-секретарь, член Государственного совета, главноуправляющий II Отделением собственной его императорского величества Канцелярии.
[Закрыть]. Царь хочет даровать к своему двадцатипятилетию на престоле представительство народу.
15 января.
Вот эта записка:
«После происшествий, бывших в этом году в Рязанском и Санкт-Петербургском дворянских собраниях, Государь Император, входя в затруднительное положение дворянства, изволил Сам обратить внимание на вопрос о том: что можно для него сделать?
Это указание привело меня к следующим мыслям.
В основе соображения по этому важному предмету необходимо положить некоторые существенные начала, которые должны служить, так сказать, афоризмами при дальнейшем развитии самих соображений.
1) Для России, в настоящее время и еще надолго, конституционное правление было бы гибелью, потому что оно немедленно обратилось в олигархию или анархию. Мы должны всеми силами поддержать Самодержавие.
2) Существующие сословные привилегии не должны быть нарушаемы или отнимаемы; такие меры вызвали бы раздражение; но, в видах уничтожения исключительности этих привилегий, – можно, на деле, их сглаживать чрез распространение на другие сословия.
3) При допущении известной степени либеральности в формах, составляющих наружную сторону какого-либо мероприятия, – не предстоит опасности, коль скоро сущность сохранена и удержана в надлежащей неприкосновенности.
4)Развитие зародышей, хранящихся в отечественном законодательстве, должно быть предпочитаемо заимствованию иностранного.
Перехожу от этих общих начал к мыслям моим о положении дворянства.
Оно вообще недовольно; конституционные его стремления периодически возобновляются. Однако, по словам умных и сведущих дворян, – дворянство не желает серьезно конституции, потому что оно само сознает ее опасность, а конституционные его намеки служат не чем другим, как выражением его неудовольствия. И действительно, как ни разноречивы основания, прилагаемые в суждениях и речах дворянских и других собраний, – постоянно и настойчиво проводится в них одна мысль: „До ГОСУДАРЯ правда не доходит; администрация и бюрократия нами завладели; они стоят непроходимою стеною между ГОСУДАРЕМ и Его Россиею; ГОСУДАРЬ окружен опричниками…“ и т. п. Но везде повторяется та же мысль: „До ГОСУДАРЯ правда не доходит]“ В этих собраниях, как мне кажется, обнаруживается то истинно серьезное желание, которое может и должно быть удовлетворено.
Но как исполнить это?
К достижению сего, по моему убеждению, представляется возможность без малейшего прикосновения к священным правам Самодержавия:
1) Наше законодательство дарует сословиям (дворянству уже около столетия) такое право, которое приобреталось за границей потоками крови, которое там считается первым и самым важным залогом политической свободы и которое у нас не довольно высоко ценится, а в иных случаях и забывается; это – le drait le petition, право заявления своих нужд (IX т. зак. о сост., ст. 112).
2) Дворянство имеет право выбирать депутатов из кандидатов, представляемых каждым уездом на случай вызова их в Петербург Правительством для объяснения ходатайств дворянства (IX т. зак. о сост., ст. 113 и 114). Это право осталось у нас мертвою буквой.
Исходя из двух существующих прав дворянского сословия, я предложил бы воспользоваться ими для осуществления следующих предположений:
1) Обязать как дворянские собрания, уже имеющие это право, так и земские собрания, этого права еще не имеющие, избирать депутатов (двух или трех).
2) Правительство оставляет за собой право собирать их, когда и как найдет полезным.
3) Избранные лица могут быть созываемы в собрания как из всей России, или по полосам, или местностям, как это признано будет нужным.
4) Собрания состоят при Государственном Совете.
5) Собрания собственной инициативы не имеют, а занимаются только теми делами, которые им передает Правительство.
6) Собрания имеют только совещательный, а не решительный голос.
7) Из заявлений и просьб местных дворянских и земских собраний Правительство поручает обсуждению депутатских собраний только те, которые назначит по своему усмотрению.
8) Собрания не должны быть постоянными.
9) Заявления и просьбы дворянских собраний передаются в собрание дворянских депутатов; заявления и просьбы земских собраний – в собрание депутатов земских.
10) Председатели обоих депутатских собраний назначаются ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ из членов Государственного Совета.
11) В занятиях собраний участвуют Министры по принадлежности.
12) Собрания занимаются только приуготовительными работами для Государственного Совета, в который вносятся установленным порядком заключения собраний по рассмотренным в них вопросам.
13) При обсуждении этих дел в Государственном Совете могут быть призваны в заседания Совета некоторые из депутатов для представления нужных объяснений, но при разрешении дел они не присутствуют[46]46
На основании ст. 12 Учр. Гос. Сов., в Департаменты, по усмотрению их, могут быть приглашаемы к совещанию и лица посторонние, от коих, по свойству дела, можно ожидать полезных объяснений. (Примеч. великого князя Константина Николаевича.)
[Закрыть].14) Объяснения приглашенных депутатов записываются в журналы Государственного Совета.
15) Эти объяснения вносятся в мемории Государственного Совета, подносимые на ВЫСОЧАЙШЕЕ утверждение, при которых представляются, сверх того, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и подлинные по рассмотренному делу журналы депутатских собраний.
Все эти предположения имеют целью: с одной стороны, удовлетворить действительно общему желанию, чтобы голос сословий прямо доходил до Престола; а с другой стороны – устранить именно поводы и предлоги к дальнейшему повторению превратного предположения, будто в настоящее время правде прегражден путь к ГОСУДАРЮ. В то же время эти меры, весьма либеральные по форме, должны успокоить многие высказывавшиеся в последнее время стремления, но в сущности, в них нет ничего опасного, так как, во-первых, депутаты будут призваны не в состав Государственного Совета, в виде приуготовительных комиссий; во-вторых, Председатели собраний будут назначаемы Самим ГОСУДАРЕМ; в-третьих, в собраниях будут присутствовать Министры; и, наконец, в-четвертых, при обсуждении дел голос собраний будет только совещательным и в решительный обращаться не может».
Записку эту великий князь дал для прочтения на свежий взгляд 1880 года Перетцу и умнейшему человеку, всегдашнему советчику своему в самых сложных вопросах, государственному контролеру Дмитрию Мартыновичу Сольскому. Замечания обоих были единодушны, и Константин Николаевич с благодарностью учел их. Перетц записал о своих замечаниях в дневнике от 21 января:
«Главных два: во-первых, назначением депутатских собраний должно быть не только обсуждение ходатайств дворянства и земства; еще несравненно важнее предварительное обсуждение проектов новых законов, а об этом в правилах не упоминается; во-вторых, едва ли удобно иметь при Государственном Совете еще два собрания: одно дворянское, другое земское.
Дворянство есть теперь часть земства, а не равноправно, или правильнее – не равносильно ему. Поэтому мне казалось бы, что должно быть одно общее собрание. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ совершенно согласился с обоими этими замечаниями и сказал, улыбаясь: „Странное дело, почти буквально то же самое сказал мне Сельский. Еще страннее то, что, перечитывая на днях записку, я и сам, так сказать, предчувствовал эти замечания“.
…Потом я представил Его Высочеству составленные мною таблицы дел, рассмотренных Общим Собранием Государственного Совета за последние десять лет. Оказывается, что ежегодно обсуждалось от 95 до 120 дел, из которых 30 или 60 могли бы с пользою подлежать обсуждению земства».
Совещание по поводу предложений 1863 и 1866 годов об учреждении института избранных представителей было назначено на 23 января в Мраморном дворце. Цесаревич прибыть в этот день не смог, просил отложить, но поскольку люди уже собрались, Константин Николаевич сделал его предварительным, «для спевки», как выразился его высочество.
Великий князь сразу же поставил вопрос, на какой записке остановиться: его или валуевской. Первым выступил Валуев и предложил ввиду общих предпочтений, указав на князя Урусова, Дрентельна и Макова, от своего проекта отказаться, оставив за собой право в подходящий момент представить свой. «Ни на какие уступки я не пойду». Эти слова председателя Комитета министров Е. А. Перетц, процитировав в дневнике, сопроводил следующим комментарием: «Эту фразу Валуев употребляет часто, но она не мешает ему делать весьма существенные уступки».
«Валуев, – пишет дальше Перетц, – пышно закончил: „Я умел молчать в течение шестнадцати лет. Буду продолжать молчание столь же упорно и, быть может, доживу до того времени, когда глас мой будет услышан“».
Главноуправляющий II Отделением собственной его императорского величества Канцелярии князь Сергей Николаевич Урусов – тот самый, что когда-то доводил до ума записку великого князя, сейчас при ее обсуждении высказался таким образом:
– Не будет ли издание этих предложений принято со стороны общества за дар или уступку, которые едва ли бы соответствовали достоинству правительства, особенно в настоящую пору? Не будут ли говорить, что правительство испугалось угроз социально-революционной партии?
– Общество сначала обрадуется, – заметил Александр Романович Дрентельн, главноуправляющий III Отделением и шеф жандармов, – потом найдет, что недостаточно конституционно, и, подстрекаемое печатью, распространит недовольство.
Маков вообще предложил отложить этот вопрос до лучших времен.
– Мы, – сказал он, – еще находимся в положении крайне ненормальном. Бесчинства и преступления социалистов вызвали передачу дел политических военным судам и учреждением нескольких генерал-губернаторств с предоставлением генерал-губернаторам диктаторской власти. При таких обстоятельствах и ввиду крайностей, в которые вдаются некоторые генерал-губернаторы, можно смело сказать, что в иных частях империи не существует ни закона, ни правильно устроенного управления. Поэтому, как только дозволят обстоятельства, нужно будет озаботиться сначала отменою чрезвычайных законов, а потом уже приступить к расширению прав, присвоенных обществам и сословиям.
Великий князь, весьма удрученный таким поворотом собрания и в предчувствии очередного провала его идеи на следующем заседании в присутствии наследника, вяло согласился, что, пожалуй, неудобно будет издавать закон 19 февраля. Несколько оживленнее согласился с Маковым о ненормальности нынешних наших обстоятельств и о необходимости прекратить неурядицу, созданную генерал-губернаторским произволом. Но это не должно, сказал Константин Николаевич, препятствовать заботам о возможно успешном рассмотрении законодательных дел.
Предчувствия не обманули великого князя. На совещании 25 января цесаревич с первых же слов бросился в атаку. Это самая настоящая конституция, парламент, кипятился он, а что такое парламент, я знаю. В Дании правительство постоянно жалуется, что из-за болтунов-депутатов совершенно невозможно работать. У нас будет еще хуже – выберут крикунов-адвокатов, они начнут болтать и будут только мешать правительству. Как сейчас земства, которые, кстати, из-за всеобщей апатии и кворума собрать не могут. В то же время генерал-губернаторы на местах творят Бог знает что.
Тут же Маков, а за ним и Валуев навалились на земства; на их бездействие, их вечное недовольство правительством. И неужели, едко вопросил Валуев, выборные из Царевококшайска или Козьмодемьянска будут умнее наших министров? Потом выступил князь Урусов с теми же аргументами… Не прошло и часа, как предложение великого князя Константина совещание блистательно похоронило.
После совещания Константин Николаевич спросил Перетца:
– А что вы скажете про сегодняшнее заседание?
– Я скажу, ваше высочество, что в усердии вторить цесаревичу Маков, вернувшись домой, распорядится, может быть, изготовлением проекта об упразднении всех выборных учреждений.
Великий князь расхохотался.
– А что скажете вы про Валуева? Не правда ли, он был прелестен со своим Царевококшайском и Козьмодемьянском?
– Я, ваше высочество, никогда не считал Валуева ни истинно государственным человеком, ни даже рыцарем чести и своих убеждений, а только придворным, но неприличие сегодняшней его речи превзошло всякую меру. Как мог он, автор конституционного проекта, несомненно более либерального, позволить себе отрицать всякую пользу участия представителей в обсуждении законодательных дел?! Неужели же он считает нас такими простаками, что мы не поймем его передержки?
Сам же Валуев спустя несколько дней, а именно 3 февраля, не без яду записал в своем дневнике:
«Каханов прислал неожиданные предположения министра финансов о манифесте насчет каких-то мелких денежных льгот по случаю двадцатипятилетия. Повелено обсудить дело в Комитете министров. После всех ожиданий такой манифест имел бы почти значение насмешки. А я сам? В борьбе с невозможным, но все-таки на общей сцене! Сойти с нее нет возможности, да даже нет и поводов».
«4 февраля. Государь прислал за мною утром. Он сам находит, что проектированный министром финансов манифест о мелочных милостях на 19-е число неудобен. Кроме того, он поручил мне, по случаю съезда сюда генерал-губернаторов, устроить под моим председательством совещание из них и подлежащих министров для обеспечения большего единства в распоряжениях генерал-губернаторских властей в разных местностях».
Пока государь император мучительно выбирал, какими милостями осыпать своих подданных в день своего юбилея, принимал съезжающихся к празднику гостей и тех же генерал-губернаторов, мастеровой Степан Батышков, усердием своим завоевавший полное доверие начальства и охраны из донских казаков, таскал во дворец какие-то сумки, на которые никто не обращал никакого внимания, хотя еще в ноябре был арестован заговорщик некто Александр Квятковский, при котором обнаружили план Зимнего дворца.
Обед государю императору подавался поздно, но всегда в одно и то же время: ровно в шесть часов вечера. В тот день, 5 февраля 1880 года, обед был отложен – шестичасовым поездом прибыл на грядущие торжества старший брат императрицы Александр-Людвиг-Георг-Фридрих-Эмиль принц Гессен-Дармштадтский. В 6.15 он явился во дворец и был торжественно встречен российским императором в Фельдмаршальском зале. Ровно через пять минут раздался страшной силы взрыв. Газовое освещение в залах и коридорах дворца вмиг потухло. Вылетели и разбились стекла на всех трех этажах. Откуда-то снизу раздавались истошные крики раненых.
Бомба была заложена под караульное помещение, где в тот момент находились солдаты лейб-гвардейского Финляндского полка и казаки. 9 человек были убиты, 44 ранены. А над караульным помещением располагались как раз те две залы, где в отсутствие императрицы или во время ее болезни накрывается обеденный стол для царской семьи. В самой столовой треснула стена, обеденная посуда перебита вся вдребезги; в зале, где обыкновенно сидят после обеда, приподнялся пол.